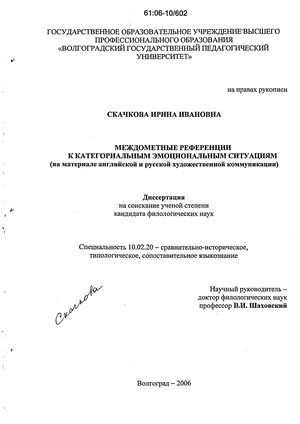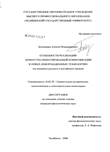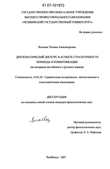Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Междометный фонд как компонент эмотивнои компетенции языковой личности 15
1.1. Роль междометий в структуре эмотивнои компетенции языковой личности 15
1.2. Корреляции базовых эмоций и междометий 31
1.3. Междометия в современной парадигме лингвистики эмоций 51
1.4. Типы междометий в аспектах системности и способа образования 71
1.4.1. Заимствование междометий из других языков 72
1.4.2. Вторичная деривация междометий 74
1.4.3. Особенности интеръективации в английском и русском языках...75
Выводы по Главе 1 81
ГЛАВА II. Междометия в художественной коммуникации 84
2.1. Роль междометий в организации эмотивного дискурса 84
2.2. Национально-культурная маркированность междометий в художественной коммуникации 94
2.3. Корреляции междометий с категориальными эмоциональными ситуациями в художественной коммуникации 106
2.3.1. Корреляция междометий и эмоций в категориальной эмоциональной ситуации конфликта 112
2.3.2. Корреляция междометий и эмоций в категориальной эмоциональной ситуации эмпатии 123
2.4. Тендерные референции междометий 132
2.4.1. Тендерные особенности употребления междометий в русской художественной коммуникации 133
2.4.2. Тендерные особенности употребления междометий в английской художественной коммуникации 148
2.4.3. Сопоставительный анализ тендерных "особенностей употребления междометий в английской и русской художественной коммуникации 170
Выводы по Главе II 172
Заключение 176
Литература 180
Лексикографические источники 206
Интернет-источники 207
Источники примеров 208
Список сокращений 211
- Роль междометий в структуре эмотивнои компетенции языковой личности
- Корреляции базовых эмоций и междометий
- Роль междометий в организации эмотивного дискурса
- Национально-культурная маркированность междометий в художественной коммуникации
Введение к работе
Объектом пристального научного внимания конца XX - начала XXI вв. стал не просто homo sapiens как некий индивид, a homo sapiens как личность, носитель сознания, обладающий сложным внутренним миром, как homo sentiens (Шаховский 2000). Человек поставлен во главу угла во всех теоретических предпосылках современного научного исследования и обусловливает его специфический ракурс (Кубрякова 1995: 212). Человек имеет возможность реализовывать себя в различных сферах деятельности, но постоянно он участвует в одном и том же ее виде - в речевой деятельности.
Проблему языка и речи исследуют лингвисты, психологи, этнографы, культурологи, но именно лингвистика изучает процессы речеобразования, бытования языка на всех уровнях, соединяя язык и человеческую личность. Введение в лингвистику категории языковой личности «как совокупности способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений» (Караулов 1987) можно считать одним из конкретных проявлений антропоцентризма науки о языке.
Понятие «языковая личность» (далее ЯЛ) образовано «проекцией в область языкознания соответствующего междисциплинарного термина, в значении которого преломляются философские, социологические и психологические взгляды на общественно значимую совокупность физических и духовных свойств человека, составляющих его качественную определенность» (Воркачев 2001:65). Проблемой изучения ЯЛ занимались и занимаются такие ученые, как Ю.Д. Апресян, М.М. Бахтин, Г.И. Богин, Т.В. Булыгина, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, Г.Г. Почепцов, Б.А. Серебренников, Ю.С. Степанов, В.И. Тхорик, Н.Ю. Фанян, В.И. Шаховский, А.Д. Шмелёв, и мн. др. Следует отметить, что «проблема ЯЛ находилась в центре внимания ученых еще со времен античности, разумеется, в пределах наук, ориентированных на человековедение. В античности подобной
областью являлась риторика, которая служила целям и нуждам ЯЛ» (Тхорик 2000: 17).
Несмотря на то, что термин "ЯЛ" стал привычным и в некоторой степени устоялся, а стоящее за ним "понятие... распространилось в лингвистической литературе особенно широко" (Караулов 1995: 63, Воркачев 2001), еще не существует единой, признанной всеми трактовки рассматриваемого понятия. Можно говорить о следующих пониманиях "ЯЛ", существующих в современной научной парадигме. Прежде всего под "ЯЛ" понимается человек как носитель языка, взятый со стороны его способностей к речевой деятельности, т.е. комплекс психофизических свойств индивида, позволяющий ему производить и воспринимать речевые произведения, - по существу личность речевая или дискурсивная. Под "ЯЛ" понимается также совокупность особенностей вербального поведения человека - мужчины и женщины, использующего язык как средство общения, - т.е. личность коммуникативная. И, наконец, под "ЯЛ" может пониматься закрепленный преимущественно в лексической системе базовый национально-культурный прототип носителя определенного языка, своего рода «семантический фоторобот», составляемый на основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в словаре, - личность словарная, этносемантическая (Воркачев 2001: 65-66).
Нельзя говорить о ЯЛ в отрыве от эмоциональной стороны ее бытования. Роль эмоций в жизни человека велика, практически все исследователи, пишущие об эмоциях, отмечают их мотивирующую роль в поведении человека (Вилюнас 1984; Додонов 1978; Изард 1980; Леонтьев 1984; Фресс 1975; Рейковский 1979; Симонов 1996; Freud 1894 и др.). Некоторые авторы говорят о приоритетной роли эмоций в повседневной жизни человека. Так, A.M. Эткинд пишет: "...В обыденной жизни он (человек) не столько рассуждает, сколько чувствует, и не столько объясняет, сколько оценивает. Собственно когнитивные процессы, свободные от эмоциональных компонентов, занимают в
обыденной жизни скромное место. По-видимому, в реальных процессах деятельности и во вплетенных в нее механизмах межличностного восприятия и самовосприятия "холодные" попытки объяснения и понимания имеют меньшее значение, чем "горячие" акты оценок и переживаний. Когда же процессы когнитивного анализа и имеют место, то находятся под сильным и непрерывным влиянием эмоциональных факторов, вносящих свой вклад в их ход и результат" (Эткинд 1981: 107). К. Изард подчеркивает: "В человеке все движимо эмоциями, которые составляют мотивационную сторону его деятельности" (Изард 1980: 208). Следовательно, эмоции не могут не отражаться в языке и должны входить в структуру ЯЛ. В.И. Шаховский утверждает, что "эмоция является ядром языковой личности" (Шаховский 1998: 63). В нашем исследовании мы придерживаемся определения ЯЛ, данного В.И. Шаховским: "Языковая личность — это субъект речевой деятельности, обладающий способностью присваивать себе язык и субъективно его использовать" (Шаховский 1997: 7).
В настоящее время эмоции и их языковое выражение активно рассматриваются с точки зрения тендерной ЯЛ (Кирилина 1998; Анищенко 2003; Баженова 2003; Борисова 2003; Барышникова 2004; Суркова 2005 и др.) Поэтому в данной работе рассматривается и такая категория как тендерная языковая личность.
ЯЛ также интерпретируется как сложная многоуровневая функциональная система, включающая «ярусы владения языком (языковую компетенцию), владения способами осуществления, реализации речевого взаимодействия (коммуникативную компетенцию), знания мира и о мире (когнитивно-гносеологический тезаурус)» (Буянова, Зеленская 1998: 71-72). Одним из таких ярусов владения ЯЛ языком является коммуникативная компетенция в области языковых и речевых знаков человеческих эмоций. При этом проблема исследования пределов этой компетенции располагается в границах межкультурной коммуникации: коммуниканты разных лингвокультур
в случае, если они пытаются достичь необходимого прагматического эффекта своих коммуникативных попыток, должны неминуемо внедриться в эмоциональную сферу той культуры, с которой устанавливается контакт.
Таким образом, данное диссертационное исследование органично вписывается в ряд работ, посвященных изучению эмотивных систем лингвокультур в ракурсе исследования языковых и речевых механизмов формирования лингвокультурной и межкультурной компетенции в ходе межкультурной коммуникации. Одним из важнейших языковых знаков эмотивной компетенции являются междометия, чья роль в осуществлении вербальной коммуникации чрезвычайно велика. Как известно, в обилии теорий о происхождении языка одним из первых, и пока еще никем не опровергнутых до конца представлений, существует и такое, которое связывает происхождение языка с эмоциональными выкриками первобытного человека, информировавшего соплеменников о страхе, боли, опасности, находке съестного, победе над крупным животным, над неприятелем, о печали и о радости громкими гортанными звуками своего не вполне еще сформировавшегося голосового аппарата.
Можно спорить по поводу правдоподобия этой теории, но нельзя отрицать того, что употребленное междометие оказывается индикатором той эмоции, которую испытывает и вербализует говорящий в развертываемом им дискурсе. Междометие как сигнал эмоции и соответствующей этой эмоции коммуникативной ситуации является объектом исследования данной диссертации. Предметом изучения оказываются категориальные эмоциональные ситуации, с которыми соотносятся употребляемые в них междометия.
В основу исследования положена следующая гипотеза: междометия выступают маркерами коммуникативной компетенции языковой личности при вербализации ею своих и чужих эмоций, при этом они национально-культурно маркированы и коррелируют с категориальными эмоциональными ситуациями.
Целью работы является выявление типов корреляции между семантикой междометия и типом эмоциональной ситуации, с которой это междометие соотносится, с учетом тендерной специфики категоризации эмоций представителями разных лингвокультур.
Для реализации этой цели потребовалось решение следующих задач:
1) изучить роль междометий в структуре эмотивной компетенции
языковой личности;
2) рассмотреть референтные корреляции базовых эмоций (удивление,
удовольствие, восхищение, одобрение, радость, печаль, страх, презрение, гнев,
отвращение) с соответствующими междометиями в лексикографическом
аспекте;
3) выявить типы междометий в аспектах системности и способа
образования;
4) уточнить понятие категориальной эмоциональной ситуации;
изучить роль междометий в организации эмотивного дискурса в категориальных эмоциональных ситуациях конфликта и эмпатии в художественной коммуникации;
установить особенности национально-культурной маркированности междометий в художественной коммуникации и выявить типы корреляций междометий с категориальными эмоциональными ситуациями в художественной коммуникации;
7) исследовать тендерные референции междометий (зависимость
употребления междометий от тендерной характеристики языковой личности) в
сопоставляемых языках.
Междометия изучались лингвистикой в разнообразных аспектах - как
наиболее характерные особенности отдельных культур
*» (культурноспецифичные языковые сущности - highly culture-specific) (Goddard
1998: 185; Rosten 1968), как объективные знаки национальной принадлежности
(Вежбицкая 1999: 611), как наиболее специфичная и консервативная часть
каждого национального языка (Крысин 2002: 30), как элемент национального менталитета (Левицкий 1998: 279), как звукоизобразительные слова (Воронин 2002), как идиомы - хранители «свернутой, национально-маркированной информации» (Дорофеева 2002; Красавский 2001: 109).
В то же время их соотнесенность с категориальными эмоциональными ситуациями ранее никак не изучалась, не была прояснена их роль в организации эмотивного дискурса и еще не был предметом обсуждения тендерный аспект употребления в категориальных эмоциональных ситуациях. Этот исследовательский пробел и составляет актуальность данной диссертации.
Все предыдущие исследования междометий опирались на семасиологический подход (от междометия к эмоциям). В данном исследовании впервые используется ономасиологический подход. Были выбраны десять базовых эмоций и проанализированы все словарные междометия, которые коррелируют с этими эмоциями, что и составляет научную новизну данной работы. Кроме того, в данном исследовании впервые была выявлена тендерная специфика междометий в рамках категориальных эмоциональных ситуаций.
Такой подход к изучению междометий, а также дальнейшая разработка понятия категориальной эмоциональной ситуации, составляет теоретическую значимость работы. Результаты проведенного исследования способствуют дальнейшей разработке общих и частных вопросов теории эмотиологии, лексической семантики, межкультурной коммуникации, теории дискурса, расширяют и уточняют понятийный аппарат лингвистики эмоций, дополняют имеющиеся сведения о тенденциях и закономерностях вербализации потребностных намерений языковой личности.
Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования ее результатов как основы для составления междометного раздела тезауруса вербализации эмоций в русской и английской
лингвокультурах, что представляется важным в аспекте обучения студентов языковых вузов и тех специалистов со знанием иностранного языка, кто сталкивается со спецификой проявления эмоций языковой личности в условиях инкультурации и аккультурации. Работа также может быть полезной при составлении курсов лекций по общему языкознанию, аксиологической и когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, стилистике разговорной речи в той их части, где рассматриваются поведенческие аспекты речевой деятельности.
В качестве материала исследования привлекались данные русскоязычных и англоязычных словарей для выявления междометного фонда русского и английского языков. В ходе сплошной выборки было выявлено 244 английских и 204 русских словарных междометия разных типов. Для определения адекватного употребления междометий (т.е. их референций к конкретным эмоциям в конкретных эмоциональных ситуациях) был использован обширный пласт художественной литературы на русском и английском языках (общее количество проанализированных текстов — 6992 страницы английских текстов и 9961 страница русских текстов). В результате сплошной выборки междометий из текстов художественной литературы в нашей картотеке насчитывается 4558 примеров употребления английских междометий и2152 -русских.
Опираясь на исследования феномена эмотивности в художественных произведениях (Болотов 1991; Бабенко 2000; Павлючко 1999; Ионова 1998, 2004; Томашева 1998; Шаховский 1998), в данной работе делается допущение, согласно которому псевдоситуации, описанные в текстах, признаются соотносимыми с реальными (т.е. признается, что художественная коммуникация соотносится с реальной), а взаимоотношения героев художественных произведений соотносятся со взаимоотношениями между реальными людьми. Эмоции и эмоциональные состояния, которые автор приписывает персонажам, принимаются нами за соотносимые с реальными, что
и учитывается при рассмотрении фактического материала. В художественном тексте эмоции не наблюдаются прямо, а только через специфические языковые знаки, которые материальны, наблюдаемы и служат для манифестации эмоций. Кроме того, контекст позволяет определить эмоцию, которую выражает междометие, благодаря лексике номинирующей и/или описывающей эмоции.
В диссертации использовались следующие методы исследования:
- метод сплошной выборки и количественного подсчета словарных и
контекстуальных междометий;
компонентный анализ для определения семантики междометий;
гипотетико-индуктивный и гипотетико-дедуктивный методы;
метод контекстуального анализа;
сопоставительный метод;
- описательный метод и его основные компоненты (наблюдение,
интерпретация и обобщение);
- метод дискурс-анализа в той его части, где он был необходим для
анализа категориальных эмоциональных ситуаций.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Эмотивная компетенция предполагает способность языковой личности
использовать то/иное междометие в соответствии с конкретной эмоциональной
ситуацией общения.
2. В сопоставляемых лингвокультурах существуют первичные
(непроизводные) и вторичные (производные) междометия. Среди вторичных
междометий выделяются словарные, контекстуальные и индивидуальные
междометия.
3. Основными типами категориальных эмоциональных ситуаций, соотносящихся с базовыми эмоциями и отражающих характер межличностного эмоционального взаимодействия, являются ситуации эмпатии и конфликта. Они выступают в качестве инвариантов конкретных эмоциональных ситуаций,
каждая из которых, в свою 'очередь, реализуется через спектр конкретных эмоций и междометий.
4. Междометия в русском и английском языковом фондах национально-
культурно маркированы, что связано с более спонтанной и нестесненной
демонстрацией эмоций в русской лингвокультуре, по сравнению с английской.
5. Междометия тендерно маркированы. Тендерная маркированность
междометий носит характер приоритетов, разграничиваются междометия с
мужскими и женскими преференциями и междометия, амбивалентные по
данному признаку.
Теоретической базой диссертации послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области психологии, эмотиологии, лингвокультурологии, функциональной грамматики, тендерной парадигмы в лингвистике, (Л.С. Выготского, Е.П. Ильина, В.И. Шаховского, Л.Г. Бабенко, В.Н. Телия, Н.А. Красавского, Е.И. Горошко, А.В. Кирилиной, А. Вежбицкой, О.Е. Филимоновой, А.В. Бондарко, В.А. Масловой, В.В. Красных, СВ. Ионовой, В.В. Жура, C.Gerald, С. Goddard).
Выполненное исследование основывается на следующих методологических положениях:
1. Любая языковая личность, независимо от ее лингвокультурной
принадлежности, вступая в коммуникацию с представителями другой
лингвокультуры, помимо языковой, социокультурной и межкультурной
компетенции реализует эмотивную компетенцию.
2. Междометия характеризуются размытостью эмотивной семантики.
3. Словарная семантика междометий в художественной коммуникации
конкретизируется контекстом.
4.Функции и позиции междометий в эмотивных высказываниях взаимозависимы.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации докладывались на аспирантском семинаре, на
заседании кафедры языкознания ВГПУ, на заседании научно-исследовательской лаборатории «Язык и личность», на 3-ей Всероссийской научной конференции «Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты» (Пенза, 13-17 мая 2003 г.), на межрегиональных научных чтениях, посвященных памяти проф. Р.К. Миньяр-Белоручева (Волгоград, 16 января 2006), на межвузовских научных конференциях (ВАГС - Волгоградская академия МВД РФ, январь 2001 - 2006 гг.).
Структура диссертации подчинена ее цели, обусловлена задачами и спецификой исследуемого материала. Диссертация включает введение, две главы, заключение, список теоретической литературы (241 наименование), список лексикографических и интернет-источников, список сокращений.
Во Введении обосновывается актуальность выбранного направления исследования, излагаются цели и задачи, методы, его теоретическое и практическое значение, раскрывается новизна диссертации и формулируются положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Междометный фонд как компонент эмотивной компетенции языковой личности» раскрывается роль междометий в структуре эмотивной компетенции языковой личности, изучаются корреляции базовых эмоций и междометий в русском и английском языках, междометия рассматриваются с точки зрения современной парадигмы лингвистики эмоций, описываются типы междометий в аспектах системности и способа образования.
Вторая глава «Междометия в художественной коммуникации» посвящена анализу языкового материала, а именно, описанию роли междометий в организации эмотивного дискурса, национально-культурной маркированности междометий в художественной коммуникации, корреляции междометий и эмоций в категориальных эмоциональных ситуациях конфликта и эмпатии, тендерных особенностей употребления междометий в художественной коммуникации, а также сопоставительному анализу тендерных особенностей
Y>
употребления междометий в английской и русской художественной коммуникации.
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и намечаются перспективы дальнейшего изучения междометий как знаков эмоций.
Роль междометий в структуре эмотивнои компетенции языковой личности
Языковая личность реализует себя в процессе коммуникации. Адекватная реализация коммуникативных интенций, полноценность и адекватность общения, коммуникативный успех зависит от коммуникативной компетенции ЯЛ, под которой понимается совокупность способов использования знаний и стратегий общения (Шахнарович 1990: 198). С психологической точки зрения коммуникативная компетенция - это прежде всего способность ЯЛ адекватно ситуации общения организовать свою речевую деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах (Зимняя 1989).
И. В. Михалкина предлагает классификацию типов компетенций, которыми обладает ЯЛ: языковая, речевая, социолингвистическая, цивилизационная, предметная, стратегическая, дискурсивная и коммуникативная компетенции. «Коммуникативная компетенция предстает как высшая форма владения языком, она может быть определена как конгломерирующая форма компетенции» (Михалкина 1998 цит. по: Красных 2003: 65). Другими словами, коммуникативная компетенция включает в себя в качестве компонентов все указанные виды компетенций.
Возможны два подхода к рассмотрению языковой компетенции, один из которых опирается в большей мере на лингвистические основания (языковая компетенция рассматривается как структурное целое — единство всех языковых подсистем в языковом сознании), а другой - на психологические (языковая компетенция рассматривается как психологическая система, включающая два компонента: речевой опыт и знания о языке) (Божович 1991:36).
Д. Хаймс полагает, что «языковая компетенция имеет отношение к знаниям, которые дают возможность говорящему производить и понимать бесконечное количество предложений» (Hymes 1971:5).
«Языковая компетенция - приобретенное интуитивное знание небольшого количества правил, которые лежат в основе построения глубинных структур языка, преобразуемых в процессе общения в разнообразные высказывания, т.е. в поверхностные структуры. Знание правил не означает обязательного умения формулировать их» (Вятютнев 1975:58). Эти эмпирические языковые знания носят системный характер.
A.M. Шахнарович рассматривал языковую компетенцию как функциональную, иерархически организованную систему, являющуюся следствием отражения и генерализации элементов системы родного языка, функционирующей по определенным (неосознаваемым) правилам. Таким образом, языковая компетенция - это знание системы языка и правил их выбора (Шахнарович 1990:42).
Но «язык как средство коммуникации вбирает в значения ... все, что связано с культурно-традиционной компетенцией его носителей... Язык обладает способностью накапливать и хранить в содержании единиц лексикона сведения о предшествующих (т.е. уже накопленных) знаниях об обозначаемом» (Телия 1996: 84-85), язык есть часть социальной памяти, совокупность значений (не языковых), составляющих ориентировочную основу деятельности (не только речевой, но и другой, например, познавательной)» (Леонтьев 1996: 43-44). Поэтому языковая компетенция не может быть сведена к ряду или к системе чисто формально лингвистических правил и категорий (Красных 2003: 46).
Практически каждый исследователь закономерностей, связанных с реализацией в языке и дискурсе потенций языковой личности, отмечает так или иначе эмоциональную составляющую того, что именуется коммуникативной компетенцией. В самом деле, любые эмоции коммуникативны, другое дело, что знание Ъб уместности их проявления и о качестве Зтого проявления составляет одну из сфер языковой и дискурсивной компетенции. Такая трактовка анализируемой сущности была дана в диссертационном исследовании Е.Б. Харисова: «Под языковой компетенцией мы понимаем не только знание системы единиц языка и правил их употребления, но и эмоциональные (выделено нами - И.С.), познавательные и коммуникативные процессы, которые формируют ее содержательный фонд» (Харисов 2001: 39). В нашем исследовании мы будем придерживаться этого определения языковой компетенции потому, что в нем подчеркивается вхождение эмоциональной компетенции в языковую компетенцию.
Реализация языковой и коммуникативной компетенций человека всегда происходит в процессе коммуникации, а последняя неотделима от эмоций. Центральная роль эмоций в человеческой психике доказывается и тем, что интеллект никогда не остается один на один с самим собой, без эмоций (Goleman). Это проявляется в том, что «коммуникативная компетенция в качестве одной из важнейших компонент включает в себя эмоциональную/эмотивную компетенцию» (Шаховский 2003: 8).
В.И. Шаховским было введено понятие «эмоциональная языковая личность», под которой понимается «синтез языковедческого и психологического знания», которым ЯЛ пользуется в коммуникации (Шаховский 1997:8). Парадигма ЯЛ на сегодняшний день выглядит так: - человек говорящий - языковая личность - речевая личность коммуникативная личность - эмотивная личность
Корреляции базовых эмоций и междометий
Несмотря на то, что само понятие эмоции может трактоваться по-разному, и пока не сформирована единая лингвистическая концепция эмоций, в этой области исследования накоплен большой фактический материал, систематизация которого осуществляется через попытки классификации эмоций. В данной работе мы не будем касаться всех существующих классификаций, а остановимся на типологизации эмоций на «базовые» (базисные, базальные, фундаментальные, основные, первичные) и «производные» или вторичные.
Деление эмоций на первичные (базовые) и вторичные (производные) характерно для сторонников дискретной модели эмоциональной сферы человека. Однако разные авторы называют различное число базовых эмоций (от двух до одиннадцати), и в разряд базовых эмоций включаются разные конкретные эмоции.
С точки зрения К. Изарда базовые эмоции должны обладать следующими обязательными характеристиками: 1) имеют отчетливые и специфические нервные субстраты; 2) проявляются при помощи выразительной и специфической конфигурации мышечных движений лица (мимики); 3) влекут за собой отчетливое и специфическое переживание, которое осознается человеком; 4) возникли в результате эволюционно-биологических процессов; 5) оказывают организующее и мотивирующее влияние на человека, служат его адаптации (Изард 1999: 55).
К перечисленным характеристикам Кемпер (Kemper 1987), а также Ортони и Тернер добавляют еще одну: универсальность, так как «первичные эмоции можно обнаружить во всех (без исключения) культурах» (Kemper 1987; Ortony and Turner 1990, цит. по: Вежбицкая 1999 : 504).
Другие ученые утверждают, что основанием для включения в эту группу является то, что некоторые эмоции выступают как базовые в силу того, что они являются «простыми», то есть не разложимыми на составляющие, а все остальные эмоции являются производными от простых, или «базовых». Таким образом, базовые эмоции обычно используются «в качестве некоторой системы отсчета для более маргинальных эмоций» (Ungerer 1995: 186). Близко к этому и деление эмоций Р. Плутчиком на первичные и вторичные. Первичными он считал те эмоции, которые возникают в связи с основными биологическими функциями организма, а под вторичными он понимал комбинации двух или нескольких первичных эмоций (Plutchik 1980).
Еще одним аргументом в пользу того, что некоторые эмоции можно считать базовыми, часто является положение о формировании некоторых эмоций на очень ранних стадиях развития (см., например, Campos & Barret 1984 о формировании эмоции гнева).
Е.П. Ильин к базовым относит эмоции, имеющие глубокие филогенетические корни, то есть они имеются не только у человека, но и у животных. Остальные эмоции, присущие только человеку (например: стыд, вина), к ним не относятся (Ильин 2002: 137).
Некоторые исследователи оспаривают разделение эмоций на первичные и вторичные (Лук, 1982; Вежбицкая, 1999; Ekman, 1999). Они полагают, что основа для выделения первичных эмоций является шаткой в теоретическом плане. Так, П. Экман ставит под сомнение возможность того, что «несколько основных эмоций могут испытываться одновременно» (Ekman 1999: 47), кроме того он не допускает существования «неосновных» эмоций, но при этом возникает путаница в понятиях. Он считает, что термин «основные» применим лишь для отличия эмоций от других аффективных состояний, таких как настроение или эмоциональные черты. Следовательно, за исключением перечисленных, все остальные являются основными. «Если все эмоции основные, то какой тогда смысл использовать этот термин? Он подчеркивает разницу между этим взглядом на эмоции и другими, которые не рассматривают эмоции как отдельные состояния и/или не придерживаются эволюционной точки зрения» (Ekman 1999: 57).
А. Вежбицкая приводит доказательства того, что кажущаяся правдоподобной мысль о том, что «страх, гнев и грусть могут соответствовать каким-то сторонам эмоционального опыта, общим для всех людей и заложенным генетически ... также стоит на шатком основании» (Вежбицкая 1999: 504). Как заметил Уильям Джеймс, «мы знаем из интроспекции, что с одной стороны, мы способны к целому ряду разнообразных чувств, а с другой -что эти различные чувства не могут быть ясным образом разграничены и их нельзя перечислить. Кроме того, на этот в значительной степени туманный мир чувств каждый язык накладывает свою собственную интерпретирующую сетку координат... если кому-то потребуется попытаться наименовать каждую отдельную из [эмоций], ...их число будет ограничено лексиконом того, кто предпримет такую попытку, поскольку каждый народ нашел имена для оттенков чувств, которые не выделяются другими народами» (James William 1890: 485, цит. по: Вежбицкая 1999: 505). Другими словами, «каждый язык налагает на эмоциональный опыт людей свою собственную классификационную сетку» (Вежбицкая 1999: 507). В качестве доказательства автор рассматривает когнитивные сценарии эмоций, обозначаемыми словами sadness и anger в английской лингвокультуре и их русскими коррелятами -«грусть», «печаль» и «сердиться». Она приходит к выводу, что «каждое из рассмотренных ... слов имеет свое собственное особое значение. Нет никаких оснований полагать, что одно из этих слов соответствует какому-то универсальному когнитивному сценарию, тогда как другие нет» (Вежбицкая 1999: 507).
Роль междометий в организации эмотивного дискурса
В художественной коммуникации (далее - ХК) сопоставляемых языков междометия участвуют в оформлении дискурсивного плана речи, т.е. в организации речевого взаимодействия и структурирования диалогического дискурса. Они, в частности, функционируют для заполнения пауз в дискурсе: Вот какое дело... гм... гм... у меня сидит этот... э... артист Воланд. (Булгаков ММ)
«Нтт! Thafs much more difficult than the Board» (Cronin CI) «This is -- er — a sensitive group here tonight.» (Sheldon SM)
За время произнесения междометия продуцент получает возможность четче сформулировать свои мысли и интенции. Они также оказывают воздействие на реципиента, позволяя ему, с одной стороны, обдумать прослушанное, а с другой, - додумать, спрогнозировать его. Кроме того, «наличие хезитационных пауз и их заполнение подобным образом характеризует индивидуально-личностную манеру продуцировать высказывание, а также в официальной обстановке - придавать весомость всему дискурсу» (Левицкий 1998: 220). Описывая хезитационные междометия как языковые функции, Л. Джонс и С. ван Байер так оценивают их предназначение и ситуацию, в которой проявляет себя хезитирующая языковая личность:
«Hesitation is a natural part of using the language - for those learning English as well as for native speakers. Very fluent speakers don t hesitate very often. But most people have to hesitate now and then during the conversation. Silence is not a good way to hesitate. Silence causes embarrassment and confusion. Silence also lets other people take over the conversation. The hesitations, such as um , uh\ we-e-e-1-Г, ah , eh will give people time to organize their thoughts and decide how to express them» (Jones, van Bayer 1989 : 24).
Л. Джонс и С. ван Байер также отмечают, чтФ с точки зрения организации- речевого взаимодействия междометия могут выступать в роли приступов к высказыванию (в их терминологии - opening gambits - Jones, van Bayer 1989). Следующие примеры иллюстрируют этот тезис: Да, Паша, нету больше Василия Сергеича. Укатали сивку крутые горки. (Штемлер ОМ) «Gosh, it made те feel good, I hadn t felt like that since Vd gone on the wagon.» (Maugham RE)
Междометия выступают также в роли зачинов, инициирующих ответную реплику собеседника. В этой связи можно говорить о прогностической функции междометия, т.е. говорящий предполагает, что в ответ на его реплику с междометием слушающий сделает соответствующие выводы, адекватно прореагирует и продолжит общение: «Ну?» — спросил Сорокин. «Ликвидированы», - ответил начальник конвоя. (Толстой ВГ) Andrew smiled. «Well?» (Cronin CT)
Междометия в начале реплики исполняют регулятивную функцию -организуют различные стадии беседы, изменяют ее направление: День рождения, значит, справляли... Ну, а что Лиса? Турнули с завода? (Штемлер ОМ) «То tell the truth I was enjoying myself. Christ, Гт hungry. What have we got for supper?» (Maugham TH) Междометия выполняют также функции суммирования вышесказанного и его комментирования: Как быть, Геннадий Захарович? Это оке черт знает что! (Штемлер ОМ) «All right, now you know everything you should know about the Romanian leaders.» (Sheldon WG) Наконец, одной из важнейших функций междометий является финализирующая функция: они сигнализируют об окончании коммуникации: Ну вас к черту, алкоголики! — пр обурчал Кирилл и выбрался из-под лестницы. (Штемлер ОМ) «Well, dear, leave те your name and address and if there s anything doing Г11 let you know.» (Maugham TH)
Как видно из приведенных примеров, можно определенно утверждать, что важным коммуникативным параметром междометий является их полифункциональность, проявляющаяся в одновременном осуществлении нескольких прагматических функций, и прежде всего - эмотивной и дискурсообразующей.
Специфика коммуникативной семантики междометий, присутствующих в памяти коммуникантов и часто используемых в соответствующих речевых ситуациях, их существенная роль в вербальном общении и его организации доказывают взаимосвязь между языковой и коммуникативной компетенцией.
Следует заметить, что функции и позиции междометий в высказывании взаимозависимы. Приступая к рассмотрению этой взаимозависимости, уточним само понятие высказывания. В данной работе оно понимается как речевое произведение, выполняющее коммуникативную функцию в заданной ситуации общения, равновеликое предложению. В круг наших интересов попадают эмотивные высказывания, в структуру которых входит одно или несколько междометий.
В высказывании выделяются два компонента: собственно предмет сообщения (обозначение события, о котором идет речь) и модальный компонент (отношение участников речевого акта к этому событию). Ш. Балли обозначил их как диктум, т.е. предмет речи, и модус, оценочный компонент. «Именно модусный компонент отражает ситуацию речи и показывает, кому, в каких условиях и для чего адресовано данное высказывание» (Водяха 2003: 65). В нашем исследовании модусный компонент представлен эмотивным междометием.
Национально-культурная маркированность междометий в художественной коммуникации
Анализ первичных и производных эмотивных междометий в английской и русской художественной коммуникации позволяет подойти к проблеме выражения эмоций посредством междометия с точки зрения их национальной специфики.
Междометия часто оказываются среди наиболее характерных особенностей отдельных культур (Ростен, цит. по: Вежбицкая 1999: 611), составляют наиболее специфичную и консервативную часть каждого национального языка (Крысин 2002: 30), им принадлежит «особая роль в сокрытии секретов национального менталитета» (Левицкий 1998: 279), они являются культурноспецифичными (highly culture-specific) (Goddard 1998: 185).
Междометие может являться объективным знаком национальной принадлежности. В качестве доказательства этого исследователи рассматривают междометия языка идиш feh, nu, oj vaj (Вежбицкая 1999, Коваль http://www.conf40.htm). Культурно релевантными являются как внутренние (значение), так и внешние (звуковой облик) формы междометий. Это положение доказывает А. Вежбицкая (Вежбицкая 1999), рассматривая семантику междометий отвращения (disgust), имеющих примерно одинаковый звуковой облик в разных языках: польское fu, fe, английское phew, pooh, русское фу, датское fy, междометие языка идиш feh, польское tfu и русское тьфу1. Несмотря на то, что указанные междометия «являются фонетически сходными между собою... Эта конкретная фонетическая структура может пониматься как иконический знак естественного жеста, производимого ртом или носом» (Вежбицкая 1999: 632). Ученый обращает внимание на различия в сфере употребления рассматриваемых междометий. «Расхождения именно в этнической семантике междометий разных языков говорит в пользу восприятия их как сигналов, возможно слабых, манифестирующих определенный национальный признак, национальную специфику» (Коваль http://www.conf40.htm). Русское «тьфу» рассматривается немцами как преодоление персональной сферы, физический выход за ее пределы (Ничипорович 2002).
Национально-культурная маркированность междометий обусловлена фоновыми знаниями носителей языка, которые, как правило, «ассоциируются с языковыми единицами, являющимися хранилищем коллективного опыта народа-носителя» (Левицкий 1998: 218). С их помощью данный опыт передается от поколения к поколению. Фоновые знания — культурно-языковое явление, «лежащее на пересечении этнопсихологии, культурологии, истории народа и языкознания, в частности, прагмалингвистики и смыкается с понятием пресуппозиции. Как и пресуппозиция, фоновые знания предопределяют активность экономии языковых усилий» (Левицкий 1998: 218). В процессе коммуникации пресуппозиция включает в себя весь объем экстралингвистических знаний, в основании которых лежит личный (индивидуальный) и общественный (коллективный) предшествующий ОПЫТ и, логические умозаключения и фоновые знания как культурное достояние всей нации. Фоновые знания облегчают процесс общения и являются базой адекватного взаимопонимания коммуникантов.
Национально-культурное своеобразие особенно наглядно проявляется в междометиях-идиомах. Мотивация идиом основана на наивном представлении о мире носителей языка и отражает определенный уровень и особенности их материальной и духовной культуры (Дорофеева 2002). Идиомы - хранители «свернутой, национально-маркированной информации» (Красавский 2001:109). В речи такие междометия функционируют подобно лексическим единицам, но генетически они связаны со словосочетаниями, предложениями, именами собственными или даже словоформами:
«Bull s-eye». Sam smiled. «That s exactly what we re doing». (Sheldon SM) «My! Matt!» she cried, «youve got a real smart look about you» (Cronin HC) «Здравствуйте, я ваша тетя! — воскликнул Римский и добавил: - Еще сюрприз!» (Булгаков ММ)
Такого рода междометия становятся особенными членами высказывания, не составляя его основ. Ими передается оттенок общего колорита всего высказывания в целом, его экспрессивность. «Такими вводными/обособленными элементами передается субъективное отношение продуцента высказывания» (Левицкий 1998: 279) ко всему его содержанию или к эмоциональной ситуации. Подобные элементы «стоят по своему смысловому значению в непосредственных отношениях к основной мысли всего высказывания» (Левицкий 1998: 280).