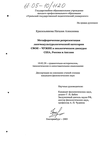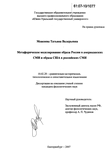Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теоретические основы исследования аргументативных стратегий политического дискурса .
1.1. Политический дискурс как контекст функционирования аргументативных стратегий 13
1.1.1 . Понятие политического дискурса в современной лингвистике 13
1.1.2. Функциональный аспект политического дискурса 19
1.1.3. Методология изучения политического дискурса 21
1.2. Лингвистические основы политической аргументации 29
1.2.1. Общая характеристика аргументации 29
1.2.2. Структура аргументации 33
1.3. Аргументация в политическом дискурсе 40
1.3.1 .Уровни политической аргументации 40
1.3.2. Стратегический характер политической аргументации 48
1.3.3. Общая характеристика аргументативных стратегий политического дискурса 51
1.3.4. Уровни анализа аргументативной стратегии 53
1.4. Оценка как аргументативная стратегия 55
1.4.1. Манипулятивный потенциал оценки 55
1.4.2. Категории оценки 58
1.4.3. Лингвистическая реализация оценки 62
1.4.4. Аксиологическая аргументация в политическом дискурсе 64
1.5. Стратегические доминанты американской президентской риторики 71
Выводы по первой главе 77
Глава II. Аргументативные стратегии кризисной коммуникации в политическом дискурсе .
2.1. Общая характеристика кризисной коммуникации 80
2.2. Кризисная коммуникация в политическом дискурсе: риторический подход 82
2.3. Кризисная коммуникация в политическом дискурсе: прагматический подход 83
2.4. Легитимизация в политическом дискурсе 85
2.5. Кризисная риторика в американском политическом дискурсе 88
2.6. Кризисная риторика в российском политическом дискурсе 104
2.7. Лингвистическая характеристика стратегий политического дискурса в кризисной ситуации 121
2.7.1. Стратегия интерпретации 121
2.7.2. Стратегия легитимизации 123
2.7.3. Стратегия мотивации 124
2.7.4. Стратегия демонстрации контроля 124
2.7.5. Стратегия ориентации 125
2.7.6. Стратегия атональности 125
2.7.7. Стратегия интеграции 127
2.8. Сопоставительный анализ аргументативных стратегий в кризисных политических дискурсах США и России 130
Выводы по второй главе 133
Заключение 135
Библиография 141
Источники исследования 161
- Понятие политического дискурса в современной лингвистике
- Аксиологическая аргументация в политическом дискурсе
- Кризисная риторика в американском политическом дискурсе
- Сопоставительный анализ аргументативных стратегий в кризисных политических дискурсах США и России
Введение к работе
Настоящее исследование посвящено изучению, описанию и сопоставлению аргументативных стратегий политического дискурса, эксплуатируемых на российском и американском политических олимпах. Исследование проводится на материале институционального политического дискурса и ограничивается кризисной коммуникацией. Работа выполнена в русле социально-когнитивного и прагматического подходов к изучению дискурса.
Актуальность данного сопоставительного исследования обусловлена следующими факторами:
- возрастающей ролью политической коммуникации; решение целого ряда социальных и политических проблем связано с их адекватной интерпретацией;
- востребованностью в сфере политики результатов изучения речевых, в том числе аргументативных, стратегий для повышения эффективности политической коммуникации;
- отсутствием в лингвистической литературе определенности в параметрах сопоставления аргументативных стратегий;
- потребностью в системном изучении политического дискурса в кризисной ситуации.
Исследования стратегий лидеров политического олимпа неоднократно проводились и проводятся современными политологами (Friedenberg 1997), социологами, психологами. Лингвистика также вносит свою лепту, подчеркивая, что политика и язык есть две неразделимые сущности. Изучаются стратегии дискурсов отдельных политических лидеров (Мордовин 2004), отдельных политических эпох (Амиров 2002), отдельных политических культур (Бардина 2004; Бокмельдер 2000). Сопоставительное исследование аргументативных стратегий различных политических культур осложняется отсутствием определенности в параметрах сопоставления.
По своей проблематике исследование находится в контексте современных работ по 1) теории аргументации (Алексеев 1991, Баранов 1990, Бокмельдер 2000, Брутян 1992, Демьянков 1989, Еемерен 1992, 1994, Фанян 2000); 2) теории дискурса (Дейк 1989; Кибрик, Паршин 2001; Schiffrin 1994); 3) теории политического дискурса (Баранов 1997; Водак 1997; Карасик 2004, 2000; Чудинов 2001); 4) теории речевого воздействия (Демьянков 1989, 1981; Иссерс 1999); 5) когнитивной лингвистике (Баранов 1990, Красных 2002; Кубрякова 1991; Лакофф, Джонсон 1990); 6) прагмалингвистике (Почепцов 2001); 7) социолингвистике (Мечковская 1996); 8) теории речевых актов (Остин 1986; Searle 1979); 9) теории оценки (Арутюнова 1982; Баранов 1990; Hunston and Thompson 2000); 10) теории кризисной коммуникации (Почепцов 2001; Adubato 2008; Anthonissen 2008; Coombs 2007; Cutlip et al. 2006).
Объектом исследования избираются аргументативные стратегии, используемые политическими лидерами в ситуации кризиса.
Предметом исследования является специфика функционирования аргументативных стратегий в политическом дискурсе в зависимости от интенций, риторического стиля говорящего и политических традиций, к которым он принадлежит.
Материалом исследования послужили 154 текста речей политиков США и России на английском и русском языках (78 на английском языке и 76 — на русском) из официальных интернет-источников, печатных и электронных СМИ, книг журналистов, политологов и политических обозревателей, видеозаписей выступлений президентов общей длительностью 210 минут на английском языке и 140 минут – на русском. В политическом дискурсе России в период с 2001 по 2013 год нами были проанализированы тексты, порожденные лидерами политического олимпа в связи со следующими событиями: 1) захват заложников в школе №1 в Беслане, 2004 год; 2) грузино-осетинский конфликт, 2008 год; 3) взрыв боеприпасов на арсенале Минобороны в Удмуртии, 2011 год; 4) наложение Россией вето на резолюцию Совета безопасности ООН о ситуации в Сирии, 2011 год; 5) авиакатастрофа под Тюменью, 2012 год; 6) наводнение в Краснодарском Крае, 2012 год; 7) взрывы в московском метро, 2010 год; 8) террористический акт в аэропорту Домодедово, 2011 год.
Кризисная риторика президентов США в выбранный нами период разворачивалась вокруг следующих рассмотренных нами критических ситуаций: 1) террористический акт 11 сентября 2001 года; 2) начало военных действий в Ираке, 2003 год; 3) стрельба в кинотеатре штата Колорадо, 2012 год; 4) массовое убийство в начальной школе в штате Коннектикут, 2012 год; 5) лесные пожары в штате Колорадо, 2012 год; 6) ураган Сенди, 2012 год; 7) взрывы во время марафона в Бостоне, 2013 год.
Целью данного исследования является выделение и описание типов аргументативных стратегий, актуализируемых в кризисных текстах политических дискурсов России и США, а также проведение сопоставительного анализа использования выделенных стратегий в данных национальных политических дискурсах.
Поставленная цель позволяет сформулировать ряд задач, стоящих перед исследователем:
1) охарактеризовать теоретические основы и методику исследования политической аргументации;
2) выявить речевоздействующий потенциал аргументативных стратегий, используемых политическими лидерами;
3) выработать методику исследования аргументативных стратегий политического дискурса на основе общепризнанных подходов к анализу дискурса;
4) на основе выработанного метода выявить и описать типы аргументативных стратегий, используемых российскими и американскими политическими деятелями в ситуации кризиса;
5) провести сопоставительный анализ аргументативных стратегий российского и американского политических дискурсов.
Методология настоящего диссертационного исследования основывается на использовании комплексной методики лингвистического анализа, включающей описательный метод, метод логического моделирования, логико-семантический анализ и квантитативный анализ. При описании стратегий используются элементы теории речевых актов (Серль 1979) и инструментарий дискурс-анализа (Дейк 2008).
Научная новизна исследования заключается в выделении и системном описании семи самостоятельных типов аргументативных стратегий на материалах кризисной политической риторики России и США.
Теоретическая значимость работы обусловливается тем, что она вносит определенный вклад в описание кризисной коммуникации политического дискурса с точки зрения используемых политиками аргументативных стратегий. Разработана и опробована трехуровневая модель описания аргументативных стратегий с точки зрения их лексико-синтаксического, семантического и прагматического компонентов.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы при подготовке курсов по теории коммуникации, в спецкурсах по прагма-лингвистике, теории аргументации, политической лингвистике, при обучении студентов аргументированной речи и критическому восприятию политической риторики в процессе изучения английского языка.
На защиту выносятся следующие положения:
-
Политический дискурс целесообразно понимать как вербализацию ментального процесса коммуникантов в контексте социального взаимодействия, характеризующуюся политической интенциональностью, аргументативным содержанием и стремлением к диалогичности.
-
Аргументативная стратегия, будучи речевым выражением планируемого участником социального взаимодействия вербального поведения, представляет собой ряд контекстуально и прагматически связанных пропозиций в защиту основного тезиса, направленных на убеждение адресата в необходимости соответствующего корректирования его модели мира.
-
Оценка, или высказывание о ценностях, в политическом дискурсе, используется как речестратегическии прием, повышающий аргументативную силу высказывания, и является одним из параметров пропозиционального содержания аргументативной стратегии.
-
Целостное описание аргументативной стратегии представляет собой комплекс лексико-синтаксического, семантического и прагматического компонентов, которые соответственно отражают реализацию конкретной стратегии на уровне клаузы (словосочетания), предложения и текста, на уровне семантических структур и на интенциональном уровне.
-
В кризисном политическом дискурсе первые лица государств используют стратегии легитимизации, интерпретации, ориентации, мотивации, демонстрации контроля, интеграции и агональности.
Апробация работы. По результатам исследования представлены доклады на научных конференциях в Омском государственном педагогическом университете (в период 2008-2012 гг.). Материалы и выводы диссертации были опробованы при подготовке спецкурса «Политическая лингвистика». Основные положения проведенного исследования отражены в семи публикациях.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, списка литературы, включающего 233 наименования и списка источников практического материала. Диссертация содержит 7 таблиц.
Понятие политического дискурса в современной лингвистике
На сегодняшний момент изучение и анализ политического дискурса до сих пор предполагает игру с терминологией. Путаница начинается с самого понятия дискурс, которое страдает отсутствием однозначного понимания, и, следовательно, употребления среди современных лингвистов и филологов. Существование разных школ, традиций, подходов делает практически невозможным формулирование универсального определения, которое устроило бы всех.
Так, П. Серио говорит о восьми значениях понятия дискурса:
1. дискурс как эквивалент понятия «речь»;
2. дискурс как единица, превосходящая фразу по размеру;
3. в рамках теории высказывания, или прагматики, дискурс как воздействие высказывания на его получателя и его внесение в высказывательную ситуацию (что предполагает субъекта высказывания, адресата, момент и определенное место высказывания);
4. дискурс как беседа;
5. дискурс как речь, присваиваемая говорящим, в противоположность "повествованию", которое не подразумевает эксплицитное вмешательство субъекта высказывания;
6. дискурс как противопоставление языка и речи;
7. дискурс как система социальных или идеологических ограничений, на кладываемая на высказывание; 8. дискурс как текст с точки зрения условий его производства [Серио, 1999: 26-27].
Представленные П. Серио категории отражают лишь французскую традицию. А.А. Кибрик и П.Б. Паршин [2001], в свою очередь, говорят о трех классах употребления термина «дискурс», которые соотносятся с различными направлениями и трудами отдельных авторов. Отчетливо выделяется лингвистическая традиция, охватывающая широкий класс интерпретаций, которые во многом подчеркивают ориентированность исследователей на дальнейшее развитие категорий и понятий текста, речи и диалога, при этом берутся во внимание также некие социальные и личностные факторы, влияющие на порождение дискурса. Однако лингвистика не может похвастаться монополией на использование данного термина.
Второй подход к дискурсу связан, в первую очередь, с работами французских структуралистов и имеет четко выраженный социологический характер, так как дискурс в данном понимании обязательно указывает на некое коммуникативное своеобразие субъекта социального действия. Дискурс здесь будет уточнять понятие стиль, индивидуальный язык, преломляемый через призму тематики, систему убеждений (например, дискурс Р. Рейгана).
Третья традиция употребления термина «дискурс» существует, прежде всего, благодаря немецкому философу-социологу 10. Хабермасу и описывает особый идеальный вид коммуникации, рассматриваемый без учета социальной реальности, традиций, авторитета и нацеленный на критическое обсуждение взглядов и действий участников коммуникации [Кибрик, Паршин, 2001]. Естественно, между тремя выделенными А.А. Кибриком и П.Б. Паршиным пониманиями дискурса нет четких границ и часто можно увидеть, как в подходе того или иного ученого они взаимодействуют и соединяются друг с другом.
Т.А.В. Дейк рассматривает дискурс как актуализацию формальной текстовой конструкции с точки зрения ментальных процессов и в связи с экстралингвистическими факторами (знанием о мире, мнениями, установками, целями коммуникантов) [Dijk, 1997]. В.З. Демьянков говорит о дискурсе как тексте в его стамовлений перед мысленным взором интерпретатора [Демьянков, 2003]. Т.В. Ежова предлагает следующее определение: «...дискурс - это иерархизированное речевое общение, сопровождающее процесс социально значимого взаимодействия людей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной социальной группе или применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации» [Ежова, 2007: 53]. Приведенные определения отражают контекстуальный, социальный и диалогичный характер дискурса, его направленность на взаимодействие. По меткому выражению Н.Д. Арутюновой, дискурс - это речь, погруженная в жизнь [Арутюнова, 1990: 137].
Часто цитируемое определение М. Стаббса подчеркивает три аспекта дискурса: 1. в формальном аспекте дискурс - это единица языка, превосходящая по объему предложение; 2. в содержательном отношении дискурс предполагает использование языка в социальном контексте; 3. по своей организации дискурс диалогичен [Stubbs, 1983:11].
Рассмотрим, как выше приведенные черты и характеристики дискурса транслируются в феномен политического дискурса.
Так, в рамках альтюссерианской школы выражение «анализ политического дискурса» является в известной степени избыточным, поскольку дискурсі юсть определяется внутри идеологии; всякий дискурс, взятый за предмет анализа, должен по своей сути входить в область политики» [Квадратура смысла, 1999:24].
На современном этапе развития лингвистики принято дифференцировать понятие «политический дискурс» от дискурса вообще, а также других разновидностей дискурса: медицинского, образовательного, юридического и т.д.
Определение политического дискурса невозможно без определения политики, которое, в свою очередь, насчитывает десятки интерпретаций, предполагающих различные подходы и отвечающих различным целям, которые исследователи ставят перед собой.
По семантическому содержанию Т.А.В. Дейк выделяет следующие смысловые пласты в концепте «политика»: политика как социальная сфера, политические системы (демократия, коммунизм, фашизм т.д.), политические ценности, идеологии, политические институты, организации, группы, политические субъекты, политические отношения, политические процессы, политические действия и политическая когниция [Dijk, 1997:19]. Политический дискурс характеризуется субъектами - профессиональными политиками или членами политических институтов, т.е. президентами, премьер министрами, членами правительства, политических партий, парламента как на местном, национальном, так и на международном уровнях. С данной точки зрения, определение содержания политического дискурса может быть произведено аналогично медицинскому, образовательному или юридическому дискурсам. Однако Т.А.В. Дейк приходит к выводу, что политический дискурс невозможно свести только к деятельности политиков, так как политический дискурс-анализ также рассматривает реципиентов политических коммуникативных событий, другими словами, электорат, граждан, массы и другие категории, как релевантных участников политического дискурса [Dijk, 1997:13]. Исчезновение тоталитарных идеологий ХХ-го века и демократизация политической жизни предполагает и влечет за собой изменение теоретических оснований описания меняющейся реальности [Соловей, 2005: 34]. Политическая деятельность осуществляется не только профессиональными политиками, но также включает в себя демонстраторов и политических активистов. Таким образом, границы содержания политического дискурса целесообразнее определять через тексты и речи, порождаемые участниками данного дискурса, рассматриваемые как реализация их социально-политических ролей и политических интенций.
Обращаясь к существующим в науке определениям политического дискурса, принято говорить о его широком и узком значениях [Гаврилова, 2004: 128]. В широком смысле политический дискурс определяют как «совокупность дискурсивных практик, идентифицирующих участников политического дискурса как таковых или формирующих конкретную тематику политической коммуникации» [Баранов, 2003: 246]. Многие лингвисты рассматривают политический дискурс в узком понимании, ограничивая его институциональными формами (обращение президента, заседание парламента, инаугурационная речь и т.д.) [Серио, 1993; Шейгал, 2000; Купина, 1995; Попова, 1995; Базылев, 1998; Асеева, 1999; Гудков, 1999; Кочкин, 2000; Бакумова, 2002; Желтухина 2000]. Ключевым является контекстуальный фактор, опирающийся на временные и пространственные характеристики дискурса, цели и коммуникативные намерения участников. Так, политический деятель будет являться создателем и транслятором политического дискурса только в контекстуально определяемой ситуации, какими, например, являются заседание парламента, митинг и т.д. При этом контекст и порождаемый в нем текст взаимосвязаны и взаимообусловлены. «Дискурс не может быть произведен вне контекста и не может быть понят без рассмотрения контекста... Од ни дискурсы всегда связаны с другими, ранее произведенными дискурсами, а также с теми, которые производятся в тот же момент и будут произведены после» [Fairclough, Wodak, 1997: 227].
Если контекстуалыюсть политического дискурса в целом никем из лингвистов не оспаривается, то взгляды на отдельные элементы экстралингвистической действительности в отношении их дискурсообразующего потенциала могут различаться. Так, Т.А.В. Дейк является ярким представителем социально-когнитивного подхода к изучению политического дискурса. В центре данного подхода лежит теория политической когниции, связывающая микро и макроуровни политического дискурса: его индивидуальную уникальность и социальный характер ментальных моделей дискурса как отражение коллективного сознания [Dijk, 1997]. Так, политик в своём обращении к парламенту строит свой дискурс и как индивид, обладающий уникальным набором личных политических мнений и представлений, и как выразитель политических принципов своей партии, носитель определенной политической культуры.
Аксиологическая аргументация в политическом дискурсе
Работы по исследованию оценки и ценностей в политической аргументации можно отнести к одной из двух категорий. Первая основывается на лингвистическом подходе и дискурс-анализе, который предполагает работу с политическими текстами с целью выявления и описания дискурсивных структур, выполняющих оценочную функцию [Fairclough, Faiclough, 2011; Benoit, 2006].
Второе направление исследований занимается изучением эффекта, оказываемого ценностно-ориентированной политической аргументацией на адресата, его восприятие оратора и представленных аргументов. Наиболее распространенный метод исследования - эксперимент: участникам предлагается прочитать или прослушать одно или несколько ценностно-нагруженных политических обращений, выступлений, а затем ответить на ряд вопросов, касающихся убедительности оратора/автора, вескости предложенных аргументов и других характеристик текста [Nelson, Garst, 2005; Garst, Bodenhausen, 1996].
Разрабатывая когнитивный подход к аргументации, Баранов указывает на оценочный характер данного феномена. Выделенные им типы процесса аргументирования основаны на ценностных концептах, участвующих в любом акте аргументации [Баранов, 1990]. Логическая аргументация
Так, при условии совпадения ценностей и ценностных иерархий у участников ситуации общения становится возможной логическая или рассудочная аргументация. В данном случае аргументы не будут модифицировать структурный состав ценностной системы индивида. Логическая аргументация переинтерпретирует ситуацию в рамках заданной системы ценностей. Доказательство тезиса осуществляется через демонстрацию его соответствия актуализированной ценности. В данном типе аргументации участвуют следующие когнитивные процедуры: «установление соответствия (между структурами ценностей участников) — сравнение (тезиса с актуализированным ценностным концептом) — оценка (степени соответствия тезиса представлению о ценности) — экспликация значимости отстаиваемого положения» [Баранов, 1990: 64].
Иллюстрацией логической аргументации может служить следующий отрывок:
Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических потрясений и вернулись к докризисным показателям развития. Экономика растёт достойными темпами: около четырёх процентов в год, что превышает скорость восстановления болыиинства ведущих стран. Государственный долг в нашей стране сохраняется на митшальном уровне. Россия стала шестой по величине экономикой мира.
Мы полностью исполняем взятые на себя социальные обязательства. Пенсии и зарплаты у болыиинства работников бюджетного сектора росли быстрее, чем мы планировали до кризиса [Медведев, декабрь 2011].
Для доказательства выдвинутого тезиса {Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических потрясений), Д.А. Медведев развивают свою аргументацию, опираясь на ценности, разделяемые его аудиторией. Концепт с положительной оценочностью Экономический рост представлен в пропозициях дескриптивной, количественной, прототипической и гомеостатической оценками:
Дескриптивная оценка: достойными темпами, на минимальном уровне; Количественная оценка: около четырёх процентов в год, шестой по величине;
Прототипическая оценка: быстрее, чем мы планировали;
Гомеостатическая оценка: мы полностью исполняем взятые на себя социальные обязательства.
Необходимо отметить, что в данном типе легко идентифицировать основные структурные компоненты классической модели аргументации С. Тулмина, такие как:
- тезис (claim - защищаемая пропозиция),
- посылки (grounds - данные, используемые для доказательства),
- основание (warrant - утверждение, демонстрирующее связь между посылками и защищаемым положением),
- поддержка (backing - дополнения, усиливающие аргумент),
- квалификатор (qualifier - фраза или пропозиция, выражающая степень состоятельности тезиса и аргументов) и
- контраргумент (rebuttal - пропозиции, указывающие на возможную несостоятельность тезиса или аргументов) [Toulmin, 1969].
Так, в следующем примере президент Б. Обама развивает логическую аргументацию, опираясь на ценность Справедливость, которая традиционно приветствуется американским обществом.
We 7/ also establish a Financial Crimes Unit of highly trained investigators to crack down on large-scale fraud and protect people s investments. Some financial firms violate major anti-fraud laws because there s no real penalty for being a repeat offender. That s bad for consumers, and it s bad for the vast majority of bankers and financial service professionals who do the right thing. So pass legislation that makes the penalties for fraud count [Obama, Jan. 2012].
Представляемую оратором аргументацию можно разложить на следующие структурные компоненты: Тезис: We need to establish a Financial Crimes Unit of highly trained investigators.
Посылки: Some financial firms violate major anti-fraud laws.
Основание 1: This unit will crack down on large-scale fraud and protect people s investments.
Основание 2: There s no real penalty for being a repeat offender.
Поддержка: That is bad for consumers, and it s bad for the vast majority of bankers and financial service professionals who do the right thing.
Эмоциональная аргументация
Эмоциональная аргументация становится возможной при условии существования высокой степени доверия аудитории к оратору. Воздействующий эффект на аудиторию осуществляется по схеме «стимул-реакция». Ценности, к которым апеллирует оратор, настолько прочно входят в культурно-обусловленное ценностное ядро адресата, что необходимость в расширенном доказательстве практически полностью отсутствует. Так, в следующем отрывке Д.А. Медведев завершает свою речь обращением к ценности Лучшая жизнь:
Есть расхождения и в том, как действовать, по все мы в конечном счёте хотим одного: лучшей .жизни для граждан нашей страны. Поэтому мы дол.жны научиться слушать друг друга, должны уважать общественное мнение и не навязывать решения сверху [Медведев, декабрь 2011].
Выражая чаяния своей аудитории (стремление к лучшей жизни, желание быть услышанным и т.д.), оратор не столько стремится к доказательству определенного тезиса, сколько пытается овладеть настроением и поддержкой адресата. В данном примере в структурном отношении эмоциональная аргументация занимает финальную позицию, позволяя оратору эффектно закончить свою речь аргументами, пользующимися сильной поддержкой аудитории.
Первые два типа аргументации возможны при наличии соответствия между структурами ценностей участников. В случае полного отсутствия желанной ценности в сознании адресата или ее более низкого статуса, чем необходимо для аргументации, оратор имеет в распоряжении диалектическую и порождающую аргументацию.
Диалектическая аргументация
Диалектический тип аргументации направлен на изменение порядка следования ценностей в имеющихся ценностных иерархиях субъекта. Так, в следующем примере Д.А. Медведев использует данный тип, комментируя недавно прошедшие выборы в государственную думу, за которыми последовала волна протестов со стороны населения [Медведев 2011]. Для удобства анализа представим данный пример аргументации через призму модели С. Тулмина:
Тезис: Необходимо дать гражданам больше возможностей влиять на политику Российского государства, на принятие любых решений, затрагивающга их права и интересы.
Посылка 1: России нужна демократия, ... нужна вера в будущее и справедливость.
Посылка 2: Общество меняется, ... граждане всё активнее высказывают свою позицию и предъявляют законные требования к власти.
Основание: Это заставит работать более качественно, быстрее откликаться на проблемы миллионов российских семей.
Поддержка: То, что общество меняется, а граждане всё активнее высказывают свою позицию и предъявляют законные требования к власти, — это хороший признак, это признак взросления нашей демократии.
Кризисная риторика в американском политическом дискурсе
Для выделения аргументативных стратегий и определения характерных для них языковых средств выражения нами было проанализированы тексты американского политического дискурса в период с 2000 по 2013 год, касающихся событий, которые попадают под представленное нами выше определение кризиса (см. пункт 2.1).
Террористические акты И сентября 2001 года
Одним из кризисных событий, потрясших не только США, но и весь мир в целом, является серия четырех координированных террористических актов, совершенных членами террористической группы «Аль Каида» в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Захватчики направили два самолета в башни Всемирного Торгового центра, расположенного в южной части Манхэттена. В результате террористического акта обе башни были разрушены. Третий лайнер, захваченный террористами, был направлен в здание Пентагона, а четвертый самолет, благодаря экипажу и пассажирам, попытавшимся перехватить управление, упал в поле в штате Пенсильвания. В результате, кроме 19 террористов, погибли 2977 человек, и еще 24 человека были объявлены пропавшими без вести. В этот же день, 11 сентября 2001 года, президент Дж. Буш выступил с официальным обращением к нации, комментируя только что случившиеся события. Проанализируем, как оратор выстраивает свою речь в стратегическом аспекте. Дж. Буш начинает выступление, реализуя стратегию интерпретации:
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
The victims were in airplanes or in their offices — secretaries, businessmen and women, military and federal workers. Moms and dads. Friends and neighbors.
Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror [Bush, 2001].
Оценочность фрагмента реализуется через использование отрицательно заряженной лексики: deadly terrorist attacks, victims, evil, despicable acts of terror.
В следующем фрагменте оратор продолжает давать собственную интерпретацию событий:
These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our countiy is strong. A great people has been moved to defend a great nation [Там же].
Говорящий использует глагол со значением «намерения» intended, предлагая аудиторию свое предположение о мотивах злоумышленников. Отсутствие как лексических, так и синтаксических «загородок» (hedging), таких как наречий со значением неопределенности {probably, maybe) и использования сослагательного наклонения или модальных глаголов со значением вероятности {might, could), придает высказыванию иллокутивную силу.
Дальше автор объясняет аудитории, почему именно США стали жертвой террористического акта такого масштаба:
America was targeted for attack because we re the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining [Там же].
Маркером стратегии интерпретации является подчинительный союз причины because. Введение положительного метафорического образа США как «маяка свободы и возможности» помогает автору имплицитно ввести тезис «Мы пострадали, потому что мы слишком хорошие».
Развитие темы «goodness of American people» происходит в следующем фрагменте: Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could [Там же].
Аксиологическое противопоставление evil, the worst of human nature vs the best of America, реализованное через использование превосходной степени прилагательных с противоположным значением {worst vs best), помогает оратору нарисовать для своей аудитории картину черно-белого мира, где однозначно ясно, кто прав и кто виноват.
В следующем фрагменте глава государства напоминает стране о своих обязанностях лидера и реализует стратегию демонстрации контроля, показывая, что его граждане находятся в надежных руках:
Immediately following the first attack, I implemented our government s emergency response plans. Our military is powerful, and it s prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C., to help with local rescue efforts [Там же].
Перлокутивный эффект стратегии демонстрации контроля становится возможным благодаря использованию оратором лексических единиц со значением безотлагательности {immediately, emergency), что свидетельствует о столь необходимой в ситуации кризиса быстроте реакции со стороны лидера. Эксплицитная ссылка к ценности «power» {Our military is powerful, and it s prepared) призвана убедить аудиторию, что ситуация была взята под контроль.
В следующих фрагментах оратор проводит стратегию демонстрации контроля в сочетании со стратегией ориентации, информируя население о планируемых действиях и ожидаемого хода событий в ближайшем будущем:
1. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take eve?y precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks.
2. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington which had to be evacuated today are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow.
3. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well.
4. The search is underway for those who are behind these evil acts. I ve directed the full resources for our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them [Там же].
В абзаце (1) президент уверяет страну, что безопасность ее граждан является приоритетной задачей. В отрывках (2) и (3) стратегия ориентации маркируется синтаксическими конструкциями, выражающими будущность (Present Continuous, Future Simple). Демонстрация контроля выражается в скрытой пропозиции «Жизнь продолжается» через лексические единицы со значением возобновления и непрерывности: continue, remain, will be open.
В абзаце (4) автор информирует аудиторию о намерениях государства в отношении виновников трагедии. Оратор не видит нужным прибегать к речевому акту легитимизации, так как задача найти виноватых не требует дополнительной аргументации, являясь выражением настроений и ожиданий аудитории.
В следующем фрагменте через речевой акт выражения благодарности оратор проводит стратегию интеграции, показывая американскому народу, что они не одни в борьбе с терроризмом: appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance.
America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world and we stand together to win the war against terrorism (Bush 2001).
Сопоставительный анализ аргументативных стратегий в кризисных политических дискурсах США и России
В данной части исследования нами представлены результаты квантитативного анализа аргументативных стратегий в американском и российском кризисных политических дискурсах. Мы проанализировали два корпуса, каждый из которых состоит из сорока текстов (корпус транскриптов речей американских президентов - 12 083 слова; корпус транскриптов речей американских политических лидеров — 12 160 слов ), которые были отнесены нами к категории кризисных. Количественный анализ позволил прийти к следующим результатам, приведенным в таблице 7.
Как видно из таблицы 7, стратегии интерпретации, легитимизации и ориентации используются политическими лидерами обоих государств примерно одинаковое количество раз. Стратегия интеграции более характерна для первых лиц США. Их стремление подчеркнуть единство народа в сложной ситуации, скорее всего, связано с культурно-политическими традициями страны. Российское руководство демонстрирует склонность к более частому использованию стратегии демонстрации контроля, что, с одной стороны, можно объяснить исторической традицией России полагаться на государство в разрешении кризисных моментов, а с другой - желанием политических лидеров подчеркнуть свою способность действовать эффективно и быстро принимать правильные решения.
Еще одним ключевым моментом является более частое употребление российскими президентами стратегии атональности, что может быть связано с национально-специфической традицией искать виноватого в любой ситуации, причем не только виноватого в развязке кризиса, но и в том, почему последствия трагедии не устраняются достаточно быстро. Американское правительство, наоборот, делает акцент на тех положительных результатах, которые уже были достигнуты в разрешении кризисной ситуации.
Стратегия мотивации также более характерна для американского политического дискурса в кризисной ситуации. Как одно из возможных объяснений данного феномена может быть национальная традиция волонтерства, развитая в США, где добровольческой деятельностью охотно занимаются как студенты, так и обычные граждане.
Обобщение результатов квалитативного и квантитативного анализа позволило выстроить следующую прототипическую структуру кризисного нарратива в российском политическом дискурсе:
1) введение в курс дела, интерпретация кризиса,
2) выражение соболезнования,
3) ориентировка на будущее,
4) обещание найти виновных,
5) легитимизация принятых решений по предотвращению кризиса в будущем и/или устранению последствий случившейся трагедии.
Американские политические лидеры предпочитают следующую структуру кризисного нарратива:
1) введение в курс дела, интерпретация кризиса,
2) выражение соболезнования,
3) выражение благодарности всем лицам, принявшим участие в разрешении кризисной ситуации,
4) легитимизация принятых решений по предотвращению кризиса в будущем и/или устранению последствий случившейся трагедии,
5) напоминание о единстве нации, поддержке друг друга - мотивация и интеграция.