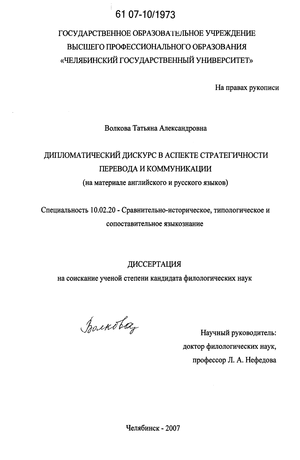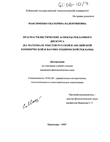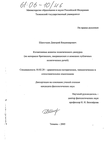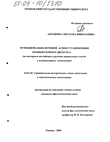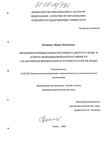Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1 Дискурс как объект лингвистического исследования в аспекте стратегичности 14
1.1. Соотношение понятий «текст», «дискурс», «коммуникация» 14
1.2. Современные подходы к исследованию дискурса 18
1.3. Понятие коммуникативной стратегии 32
1.3.1. Типология коммуникативных стратегий 43
1.3.2. Теории регулирования коммуникативной деятельности 51
1.4. Понятие и типология стратегий перевода 56
Выводы по первой главе - 71
ГЛАВА 2 Характеристика дипломатического дискурса, текста и коммуникации с позиций стратегичности перевода 74
2.1. Понятие и конститутивные признаки ДД 74
2.2. Функции и типовые свойства дипломатической коммуникации 87
2.3. Дипломатические документы как прецедентные тексты ДД 93
2.3.1. Типология и дискурсивные характеристики дипломатических документов 94
2.3.2. Стилистические и лексико-семантические особенности дипломатического текста 101
2.3.3. Синтаксические особенности дипломатического текста 143
2.3.4. Прагматические особенности дипломатического текста 158
Выводы по второй главе 164
ГЛАВА 3 Стратегии дипломатической коммуникации 168
3.1. Стратегия дискредитации 169
3.2. Стратегия самопрезентации 175
3.3. Стратегия неискренности 186 Выводы по третьей главе 196
Заключение 199
Список используемой литературы 206
Список источников примеров и принятые сокращения 223
- Соотношение понятий «текст», «дискурс», «коммуникация»
- Современные подходы к исследованию дискурса
- Понятие и конститутивные признаки ДД
- Стратегия дискредитации
Введение к работе
Современные международные отношения охватывают все новые сферы общения, в том числе в тех областях, которые традиционно считались внутринациональными. Изучение языковых средств современной дипломатии, исследование дипломатической коммуникации с точки зрения ее стратегичности и с позиций лингвистического понимания дипломатического документа позволяет рассмотреть дополнительные аспекты процесса функционирования международного взаимодействия; успешность дипломатической коммуникации, принимающей разнообразные формы, во многом определяется коммуникативной компетентностью субъектов.
Анализ дискурса на современном этапе развития науки приобретает междисциплинарный характер; изучаются различные аспекты дискурса со сменой ракурса в сторону его объемности, стратегичности порождения и функционирования. Институциональные формы дискурса, интерактивное взаимодействие дискурсивного и социального привлекают исследователей широкими возможностями лингвистического и экстралингвистического анализа. В последние десятилетия появился ряд исследований, посвященных анализу различных аспектов и видов дискурса (Laclau, Mouffe 1985; Halliday 1991; Fairclough 1992, 1995, 1998; Schiffrin 1994; Водак 1997; Макаров 1998, 2003; Карасик 1999, 2000; Арутюнова 2000; Чан Ким Бао 2000; Шейгал 2000; Dijk 2001; Белозерова 2002; Серио 2002; Филлипс, Йоргенсен 2004; Йокояма 2005; Иссерс 2006; Прохоров 2006; Чудинов 2006). Это позволило современной науке ближе подойти к раскрытию проблем взаимосвязи языка и власти, языка и политики, проблем языкового манипулирования, неискренности (Плотникова 2000; Шейгал 2000). Различные подходы к типологии дискурсов, аналитические модели исследования, вопросы интерреляции понятий «дискурс», «текст», «коммуникация» требуют описания социальных структур, процессов и субъектов коммуникативного взаимодействия.
Актуальность настоящего исследования определяется комплексным подходом к анализу дипломатического дискурса в совокупности с изучением стратегий перевода дипломатического текста и стратегий дипломатической коммуникации.
Объектом исследования является дипломатический документ на английском и русском языке в аспекте дискурсивности.
В качестве предмета рассматриваются особенности дипломатического дискурса в его отношении к дипломатическому тексту и коммуникации.
Цель диссертационного исследования состоит в выявлении специфических особенностей и конститутивных признаков дипломатического дискурса, типовых свойств, функций и стратегий дипломатической коммуникации, лингвистических особенностей дипломатического текста и соответствующих этим аспектам стратегий перевода.
Достижение указанной цели предопределяет решение ряда задач:
1) обзор подходов к разграничению понятий «дискурс», «текст», «коммуникация», типологии дискурсов; исследование существующих междисциплинарных моделей анализа дискурса, разработка комплексной модели изучения дипломатического дискурса;
2) исследование понятия коммуникативной стратегии и разработка типологии стратегий коммуникации с учетом теорий регулирования коммуникативной деятельности;
3) анализ подходов к описанию стратегии перевода, составление типологии стратегий перевода с учетом характеристик понятий «текст», «дискурс», «коммуникация»;
4) исследование особенностей и конститутивных признаков дипломатического дискурса, типовых свойств и функций дипломатической коммуникации; анализ лингвистических (лексико-семантических, стилистических, прагматических, синтаксических) особенностей дипломатического документа с целью дальнейшего определения стратегий перевода дипломатического текста; 5) выявление специфических стратегий дипломатической коммуникации и соответствующих стратегий перевода.
Теоретическую основу данного исследования составляют научные достижения в области исследования дискурса (Н. Д. Арутюнова, Н.Н. Белозерова, Р. Водак, В.З. Демьянков, М.В. Йоргенсен, В.И. Карасик, Э. Лакло, Ш. Муфф, Ю.Е. Прохоров, П. Серио, Л. Дж. Филлипс, Н. Фэркло, М. Хэллидей, Чан Ким Бао, Д. Шиффрин), в том числе когнитивных моделей дискурса (Т. ван Дейк, О. Иокояма); стратегичности коммуникации (Г.П. Грайс, О.С. Иссерс, С.Н. Плотникова), теории перевода (М. Бейкер, В. Вилсс, В. Н. Комиссаров, X. Крингс, Л. К. Латышев, Р. К. Миньяр-Белоручев, Я. И. Рецкер, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер), политического дискурса (А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал).
В работе использовались следующие методы исследования:
1) метод сопоставительного анализа для обзора существующих подходов к типологии и исследованию дискурса, классификации коммуникативных стратегий и стратегий перевода;
2) метод интроспекции с целью проверки основных теоретических положений путем самоанализа, обращения к результатам собственного опыта работы с исследуемым материалом;
3) метод классификации при исследовании коммуникативных стратегий и стратегий перевода;
4) дефиниционный метод, эксплицирующий конститутивные признаки и особенности дипломатического дискурса, типовые свойства дипломатической коммуникации, специфику дипломатического документа на английском и русском языках;
5) структурно-семантический, компонентный и контекстуальный анализ. Некоторый опыт работы с дипломатическими документами приобретен автором в Службе переводов Секретариата министра иностранных дел РФ. В качестве материалов для исследования были использованы дипломатические документы, размещенные на официальном сайте МИД РФ и официальных сайтах международных организаций (итоговые документы международных встреч, официальные документы ООН, ОБСЕ и ряда других организаций) на английском языке и их переводы на русский язык; публикации в СМИ по внешнеполитической тематике. Общий объем текстов составляет порядка 5600 нормативных страниц.
Научная новизна исследования состоит в следующем: 1) разработана комплексная модель анализа дипломатического дискурса на основе интерреляции понятий «текст», «дискурс», «коммуникация»; 2) составлена типология стратегий дипломатической коммуникации, раскрыты специфические стратегии с учетом принятой в исследовании комплексной модели анализа дискурса; 3) установлена связь стратегий перевода с особенностями текста, дискурса, коммуникации применительно к переводу дипломатических документов, выявлены специфические стратегии перевода.
Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что в работе получили развитие основные положения исследования институционального дискурса, связи текста, дискурса и коммуникации; эксплицированы составляющие институционального дискурса, разработана модель анализа дискурса, применимая к институциональному дискурсу в целом. Обоснован стратегический характер дипломатической коммуникации с позиций теорий регулирования коммуникативной деятельности, установлена связь между стратегиями перевода, особенностями дискурса, текста и коммуникации.
Практическая значимость работы состоит в выявлении характерных особенностей дипломатического текста, дискурса и коммуникации и выделении соответствующих стратегий коммуникации и перевода, что позволяет переводчику оптимизировать процесс перевода дипломатического документа. Результаты исследования могут быть рекомендованы для практического использования в работе переводчиков, специализирующихся в области перевода текстов общественно-политической тематики, официальных документов на региональном, национальном и международном уровне; в преподавании курса анализа дискурса, курса специального перевода дипломатической (международной) документации в вузах. На защиту выносятся следующие положения:
1. Конститутивные признаки дипломатического дискурса, типовые свойства и функции дипломатической коммуникации, дискурсивные характеристики и лингвистические особенности дипломатического текста образуют комплексную модель анализа дипломатического дискурса.
2. Микростратегии перевода дипломатического документа определяются лингвистическими особенностями дипломатического текста с учетом целей, узловых точек, ценностей, участников дипломатического дискурса, типовых свойств и функций дипломатической коммуникации. С позиций лексической эквивалентности и дискурсивных характеристик дипломатического текста выделяются когнитивная стратегия перевода, перевод с использованием гиперонима, калькирование, перевод с использованием заимствования, перевод-парафраз, модификация гиперонима, разворачивание значения исходной лексемы, компенсация.
3. Коммуникативные стратегии дискредитации, самопрезентации, неискренности определяют специфику дипломатической коммуникации и макростратегии перевода дипломатических документов (создание эквивалентного прагматического эффекта, компенсация, сохранение синтаксиса исходного текста, перевод с использованием дискурсивной формулы). Характерными чертами стратегии перевода являются ее гибкость и универсальность, вариативность применения элементов стратегии на уровнях текста, дискурса и коммуникации.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования обсуждались на научно-практических конференциях, в т.ч. международных, на заседаниях кафедры теории и практики английского языка Челябинского государственного университета. Несколько этапов исследования выполнены при поддержке гранта 024.06.05-05.АХ (конкурс грантов студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Челябинской области). По теме диссертации опубликовано 18 работ.
1. Волкова Т.А. Когнитивная стратегия перевода дипломатического документа [Текст] / Т.А. Волкова // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. / Гл. редактор Н.М. Рассадин. - Кострома: Изд-во Костромской гос. ун-т, 2005. -№12.-С.110-114.
2. Волкова Т.А. Лексико-семантические, синтаксические и прагматические особенности англоязычных дипломатических документов [Текст] / Т.А. Волкова // Студент и научно-технический прогресс: Тез. докл. XXIX студ. науч. конф. / Отв. за вып. Н.В. Бочкарева. - Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2005. - С.70-71.
3. Волкова Т.А. Сравнительно-сопоставительный анализ английских дипломатических документов и их переводов на русский язык [Текст] / Т.А. Волкова // Конкурс грантов студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Челябинской области: Сборник рефератов научно-исследовательских работ. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005.-С.117-118.
4. Волкова Т.А. Дипломатический документ как объект лингво-социального исследования [Текст] / Т.А. Волкова // Этнокультурное пространство региона и языковое сознание: Материалы научно-практической конференции. Тюмень, 11 октября 2005. / Под ред. Н.К. Фролова: В 2 ч. Ч. 2. - Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2006. - С. 23-27.
5. Волкова Т.А. Когнитивные аспекты перевода дипломатической документации [Текст] / Т.А. Волкова // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: Тез. Ill Междунар. науч. конф., Челябинск, 27-28 апр. 2006 г. / Под ред. Л.А. Нефедовой. - Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2006. - С. 241-243.
6. Волкова Т.А. Когнитивные стратегии перевода дипломатических документов [Текст] / Т.А. Волкова // Перевод и сопоставительная лингвистика: Периодический научный журнал / Отв. ред. А.Б. Шевнин. - Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2006. -С. 128-137.
7. Volkova, Tatiana. Diplomatic Discourse and Linguistic Research of Diplomatic Documents [Текст] I Т.А. Волкова II The Third Seoul International Conference on Discourse and Cognitive Linguistics: Cognition, Meaning, Implicature and Discourse. July 5-7, 2007, International Studies Hall, Korea University, Seoul, Korea. P. 493-495.
8. Volkova, Tatiana. Diplomatic Discourse Function in Intercultural Communication [Текст] I Т.А. Волкова II New Directions in Cognitive Linguistics-2: Cognitive Linguistics, Applied I August 28-30, 2007. Cardiff University, Cardiff, United Kingdom. P. 91. [Электронный ресурс] http://www.cardiff.ac.uk/encap/ncdl/finalconfbrog.pdf
9. Volkova, Tatiana. Diplomatic Discourse in Terms of Linguistics, Translation and Intercultural Communication [Текст] I Т.А. Волкова II Conference Handbook of the 9th Annual International Conference of the Japanese Society for Language Sciences. July 7-8, 2007, Miyagi Gakuin Women s University, Japan. P. 170.
10. Volkova, Tatiana. Discourse-Based Linguistic Research of Diplomatic Documents [Текст] I Т.А. Волкова II The Second Scandinavian Ph.D. Conference in Linguistics and Philology in Bergen. June 4-6, 2007. Universitas Bergensis, Bergen, Norway. P. 57-58. [Электронный ресурс] http://www.hf.uib.no/forskerskole/doktorandkonferanse/Abstracts-20070518.pdf
11. Волкова Т.А. Анализ дискурса в рамках теории и практики перевода [Текст] / Т.А. Волкова // Современное открытое образовательное пространство: проблемы и перспективы: материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 27-29 марта 2007 г. -Екатеринбург: ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т»; Уральское изд-во, 2007. - С.247-249.
12. Волкова Т.А. Дипломатический дискурс в прагматическом аспекте [Текст] / Т.А. Волкова // Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты. Материалы VII-ОЙ Международной научной конференции (Ульяновск, 16-19 мая 2007 г.) / Отв. ред. проф. А.В. Пузырёв. - М.; Ульяновск: Институт языкознания РАН; Ульяновский государственный университет, 2007. - С. 178-179.
13. Волкова Т.А. Дипломатический дискурс в рамках теории речевых актов [Текст] / Т.А. Волкова // Сопоставительная лингвистика: Институт иностранных языков Уральск, гос. пед. ун-т; Институт иностранных языков; отв. ред. В.И. Томашпольский -Екатеринбург, 2007 - Том. 7. - С. 39-40.
14. Волкова Т.А. Дипломатический дискурс: лексико-семантические особенности и стратегии перевода [Текст] / Т.А. Волкова // Материалы Второй Всероссийской науч.-практ. конф. «Языковые коммуникации в системе социально-культурной деятельности», 15-16 марта 2007 г. [Текст] / Федеральное агентство по культуре и кинематографии: ФГОУ ВПО «СГАКИ»; под общей ред. Е.В. Вохрышевой. - Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2007. - С. 258-264.
15. Волкова Т.А. Дискурсивные стратегии перевода при работе с иностранной делегацией [Текст] / Т.А. Волкова // Вестник развития науки и образования. М.: Изд-во «Наука» 2007. - №2. - С.74-85.
16. Волкова Т.А. Международная конференция: особенности перевода в дискурсивном аспекте [Текст] / Т.А. Волкова // Вопросы теории языка и методики преподавания иностранных языков // Сборник трудов Международной научной конференции (8-Ю июня, 2007, Таганрог, Россия). Ч. 2 // Таганрогский государственный педагогический институт. - Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. ин-та, 2007-С. 69-75.
17. Волкова Т.А. Роль дипломатического дискурса в формировании международного имиджа России [Текст] / Т.А. Волкова // Изучение русского языка и приобщение к русской культуре как путь адаптации мигрантов к проживанию в России: Материалы Международной научной конференции. Екатеринбург, 12-14 ноября 2007 / Урал. гос. пед. ун-т; Гл. ред. Б.М. Игошев. - Екатеринбург, 2007. - С. 55-60.
18. Волкова Т.А. Формирование профессиональных компетенций переводчика с учетом особенностей институционального дискурса [Текст] / Т.А. Волкова // В.А. Богородицкий: научное наследие и современное языковедение: тр. и матер. Междунар. науч. конф. (Казань, 4-7 мая 2007 г.). Т.2: Сравнительно-историческое языкознание. Сопоставительное языкознание. Фонетика и фонология. Морфемика, словообразование. Лингводидактика / Казан, гос. ун-т; Ин-т языкознания РАН; Ин-т лингвист, исслед. РАН; под общ. ред. К.Р. Галиуллина, Г.А.Николаева. - Казань: Казан, гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. - С. 238-240.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 181 наименование, списка источников материала и примеров, списка принятых сокращений. В работе представлены 8 схем, 3 диаграммы, 1 таблица. Общий объем работы составляет 231 страницу печатного текста.
Во введении дается обоснование выбора темы диссертации, определяются цели и задачи исследования, раскрывается новизна, теоретическая и практическая значимость работы, указываются материалы и методы исследования.
В первой главе проводится обзор современных подходов к исследованию дискурса, анализируется специфика интерреляции понятий «текст», «дискурс», «коммуникация», раскрывается понятие коммуникативной стратегии, вводится типология коммуникативных стратегий, анализируются положения теорий регулирования коммуникативной деятельности. Рассматривается понятие стратегии перевода, дается описание комплексной типологии стратегий перевода с учетом особенностей текста, дискурса и коммуникации в рамках принятой в исследовании модели соотношения данных понятий.
Во второй главе раскрывается понятие дипломатического дискурса, рассматриваются его конститутивные признаки; анализируются функции и типовые свойства дипломатической коммуникации. Исследуются дипломатические документы как прецедентные тексты дипломатического дискурса: дается описание типологии дипломатических документов, анализируются дискурсивные характеристики дипломатического текста, его стилистические, лексико-семантические, синтаксические и прагматические особенности, формулируются соответствующие стратегии перевода дипломатического документа.
В третьей главе выделяются в соответствии с принятой в исследовании типологией и рассматриваются стратегии, формирующие основу дипломатической коммуникации.
В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются основные выводы по проделанной работе.
Соотношение понятий «текст», «дискурс», «коммуникация»
Соотношение понятий «текст», «дискурс», «коммуникация» В современной лингвистике понятие «дискурс» чаще всего соотносится с понятием «текст». Однозначных определений содержания этих терминов пока не существует, их интерреляция определяется весьма неоднозначно. Текст как явление языковой и экстралингвистической действительности представляет собой сложный феномен, выполняющий самые разнообразные функции: это и средство коммуникации, и способ хранения и передачи информации, и отражение психической жизни, и продукт определенной исторической эпохи, и форма культуры, и отражение определенных социокультурных традиций [Красных 1998].
С точки зрения лингвистики текста текст есть феноменологически заданный первичный способ существования языка [Шмидт 1978]; макроструктура, все высказывания которой связаны не только линейной, но и глобальной когерентностью [Николаева 1978]. Специфика психолингвистического подхода к тексту состоит в рассмотрении текста как единицы коммуникации, как продукта речи, детерминированной потребностями общения [Белянин 1988]; текст не существует вне его создания и восприятия [Леонтьев 1969]. Текст как процесс и текст как продукт - две связанные, но различные стороны одного явления [Дымарский 1999].
Определение категории дискурса предполагает некоторую идеологическую ориентацию, собственную точку зрения на анализ языкового общения [Макаров 1998]. С позиций формально ориентированной лингвистики дискурс определяется как два или несколько предложений, находящихся друг с другом в смысловой связи [Звегинцев 1976]; язык выше уровня предложения или словосочетания [Stubbs 1984; Schiffrin 1994]. Дискурс есть речь, «погруженная в жизнь» [Арутюнова 2000: 136-137]; текст, погруженный в ситуацию общения [Карасик 2000].
В.Е. Чернявская сводит различные понимания дискурса к двум основным типам: 1) конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном пространстве; 2) совокупность тематически соотнесенных текстов [Чернявская 2001].
По мнению Б.М. Гаспарова, дискурс можно рассматривать как языковое существование; всякий акт употребления языка представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта [Гаспаров 1996]. Дискурс понимается и как целостное речевое произведение в многообразии его когнитивно-коммуникативных функций [Седов 1999]; рассматривается как центральная интегративная единица речевой деятельности, находящей отражение в своем информационном следе -устном/письменном тексте [Зернецкий 1988]. П. Серио выделяет несколько значений термина «дискурс», среди которых - эквивалент понятия «речь» (в терминах Ф. Соссюра); единица, по размерам превосходящая фразу; воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации; употребление единиц языка, их речевая актуализация; теоретический конструкт, предназначенный для исследования условий производства текста [Серио 2002].
С позиций интерреляции терминов «текст» и «дискурс» Е.И. Шейгал рассматривает четыре наиболее распространенных подхода к разграничению данных понятий: 1) категория дискурса относится к области лингвосоциального, текст - к области лингвистического; 2) дискурс и текст соотносятся как процесс и результат; 3) дискурс и текст представлены в оппозиции «актуальность» - «виртуальность»; 4) дискурс и текст представлены в оппозиции «устный» - «письменный» [Шейгал 2000].
Подобные парадигмы, определяющие интерреляцию текста и дискурса, приводит М.Л. Макаров: 1) разграничение по линии «письменный текст» -«устный дискурс»; 2) оппозиция «монолог, принадлежащий одному автору» -«диалог как интерактивный способ речевого взаимодействия»; 3) определение дискурса как более широкого понятия, включающего в себя речь и текст [Макаров 1998; Макаров 2003].
Таким образом, к наиболее общим подходам разграничения понятий «текст» и «дискурс» можно отнести противопоставление устного дискурса и письменного текста, противопоставление процесса и продукта (результата), широкую трактовку дискурса, включающую речь и текст.
Современные подходы к исследованию дискурса
Современные подходы к исследованию дискурса Основу аналитических подходов к исследованию дискурса составляет положение философии лингвистики, структуралистской и постструктуралистской: реальность воспринимается нами посредством языка, и именно с помощью языка мы создаем представление о реальности, которое не просто отражает, но и конструирует ее.
Дискурсная теория Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe), иногда сокращенно теория дискурса, направлена на понимание социального как дискурсивной конструкции. Согласно этой теории, дискурс формирует социальный мир с помощью значений. Социальное явление никогда не бывает законченным или полным; из-за нестабильности языка значение никогда не может быть постоянным. Трактовка дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф близка пониманию структуры как фиксации знаков сети отношений в работах Ф. де Соссюра. Каждая конкретная фиксация значения знака - условна: она возможна, но не необходима [Laclau, Mouffe 1985]. Следовательно, ни один дискурс не является замкнутым и завершенным; он, скорее, постоянно изменяется благодаря контактам с другими дискурсами.
Дискурсом исследователи называют все структурное единство, появившееся в результате артикуляционной практики [Laclau, Mouffe 1985: 105]. Дискурс сформирован частичной фиксацией значений вокруг некоторых узловых точек (привилегированных знаков, вокруг которых упорядочиваются и приобретают свое значение другие знаки). Дискурс авторы представляют как сокращение возможностей; все исключенные из дискурса возможности («добавочные значения», производимые практикой артикуляции) составляют, по их мнению, область дискурсивности [там же, с. 111-112].
Исследователи считают социальную практику полностью дискурсивной; дискурсы в их теории материальны [там же, с. 108]; важной составляющей теории дискурса Лакло и Муфф является понятие «субъекта», определяемое как субъектная (подчиненная) позиция в пределах дискурсивной структуры [там же, с. 115]. Согласно теории дискурса, в соответствии с установленными дискурсом субъектными позициями проявляются ожидания участников дискурса: как действовать, что говорить, что не говорить [Филлипс, Иоргенсен 2004: 71]. Субъект не автономен, он определяется дискурсами; кроме того, субъект фрагментирован: его позиция не устанавливается лишь одним способом и только одним дискурсом, скорее, ему различными дискурсами предписывается множество различных позиций. В терминах более ранних исследований субъекта дискурса (например, [Lacan 1977]) позиции субъекта, предписанные ему дискурсами, понимаются как идентичности субъекта. Развивая положение Лакана об идентичности, Э. Лакло и Ш. Муфф приходят к следующим характеристикам субъекта дискурса: а) субъект расщеплен, или децентрирован; идентичности субъекта определяются теми дискурсами, частью которых он является; б) идентичность, как и дискурс, изменчива; в) субъект сверхопределен; он всегда имеет возможность иной идентификации в определенных ситуациях [Laclau, Mouffe 1985].
В теории дискурса Лакло и Муфф мы находим два типа идентичности: индивидуальную идентичность (личность) и коллективную идентичность (группу). Формирование коллективной идентичности в теории дискурса понимается как сокращение возможностей: индивиды объединяются в группы, поскольку некоторые возможности идентификации становятся приоритетными [Филлипс, Йоргенсен 2004: 76].
Важным элементом в процессе формирования группы является представительство, или репрезентация. В терминах теории дискурса группа не существует, пока кто-нибудь не говорит о ней (или от ее имени) или не сообщает, что она существует как группа [Laclau 1993b: 289]. Коллективный субъект в роли представителя проходит в дискурсе процесс коллективной идентификации, наполняя соответствующими значениями представления о действительности.
Положение о представительстве и коллективной идентичности, на наш взгляд, перекликается с положениями социолингвистики, условно разделяющей все типы дискурсов на две группы: группу персональных (личностно-ориентированных) и группу институциональных (статусно-ролевых) дискурсов. Для каждого потенциального вида дискурса характерна своя мера соотношения статусных и персонально-личностных признаков; коллективный субъект отражает аспект институциональности дискурса.
Понятие и конститутивные признаки ДД
Для определения содержания понятия «дипломатический дискурс», выявления его основных конститутивных признаков и специфических особенностей необходимо дать определение понятию «дипломатия» и проанализировать ДД с позиций описанных выше современных подходов к анализу дискурса.
В словаре В.И. Даля дипломатия определяется как «наука о взаимных сношениях государей и государств вообще» [Даль 1998]. СИ. Ожегов в своем словаре указывает, что дипломатия есть «деятельность правительства по осуществлению внешней, международной политики государства» [Ожегов 1994]. Достаточно широкое определение дипломатии приводится в Малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «отрасль государственной деятельности, касающаяся представительства и политических сношений между государствами; заботится об охране национальных и международных интересов данного государства, также о поддержании мира, упрочении и развитии экономических и духовных интересов международного общения» [http://slovari.vandex.ru/dict/brokminorl.
Приведем ряд дефиниций, наиболее близких к современному пониманию термина «дипломатия» и наиболее интересных для нас с позиций задач данного сопоставительного исследования. Дипломатия - это совокупность знаний и принципов, необходимых для правильного ведения публичных дел между государствами; применение ума и такта к ведению официальных сношений между правительствами независимых государств; ведение дел между государствами с помощью мирных средств [Сатоу 1961]. Дипломатия есть ведение международных отношений посредством переговоров, метод, при помощи которого эти отношения регулируются и ведутся; работа или искусство дипломата; создание международного доверия [Никольсон 1941; 1962]. Дипломатия - способ реализации внешней политики государства; осуществляется в форме официальной деятельности глав государств, правительств, органов внешних сношений государства и непосредственно дипломатов, способствующих достижению целей и задач внешней политики и защите интересов своего государства и отдельных граждан за границей Г www, glossary .ш]. Дипломатия - принципиальная деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государства, а также по защите прав и интересов государства за границей.
Внешняя политика основывается на равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношениях, принципы которых регулируются национальным законодательством (например, Концепция внешней политики РФ, Концепция национальной безопасности РФ) и нормами международного права (Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, регламенты международных встреч и конференций, другие международные нормативные акты).
С позиций настоящего исследования вышеизложенные положения позволяют сделать два важных вывода относительно специфики дипломатического дискурса. Дипломатия есть публичная, официальная деятельность, осуществляемая официальными лицами и органами на государственном уровне; отталкиваясь от этого положения, мы можем заключить, что дипломатический дискурс носит ясно выраженный институциональный характер. Дипломатия есть деятельность, осуществляемая мирными средствами и направленная на создание международного доверия, упрочение и развитие международных отношений; следовательно, дипломатический дискурс характеризует совокупность лингвистических средств, направленных на сотрудничество и достижение взаимопонимания.
Институциональность и коммуникативно-кооперативный характер дипломатического дискурса составляют, на наш взгляд, основу данного вида дискурса, определяемую самим понятием дипломатии. Содержание, особенности дипломатического дискурса, круг его участников раскрываются через понимание этих базовых характеристик.
Как указывалось ранее, все типы дискурсов принято условно делить на две группы: персональные (личностно-ориентированные) и институциональные (статусно-ролевые) дискурсы. Персональный дискурс существует, по мнению В.И. Карасика, в двух основных разновидностях: бытовое и бытийное общение; институциональный дискурс включает политический, дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-информационный дискурсы [Карасик 2000].
Типология дискурсов, предложенная в работе О.Ф. Русаковой, причисляет дипломатический дискурс к группе публичных дискурсов, наряду с дискурсом публичного выступления и PR-дискурсом [Русакова 2006]. Обе приведенные классификации подтверждают вывод об институциональном характере ДД.
Вслед за В.И. Карасиком отметим, что противопоставление персонального и институционального дискурсов является исследовательским приемом; в действительности мы достаточно редко сталкиваемся с абсолютно безличным общением [Карасик 2000]. В терминах современных исследований, бытовое общение происходит между хорошо знакомыми людьми, оно сводится к поддержанию контакта и решению обиходных проблем; общение происходит на сокращенной дистанции; участники общения не проговаривают детально того, о чем идет речь; это разговор об очевидном и легко понимаемом [Карасик 2000]. Цели современной дипломатической деятельности, ее официальный, публичный, регламентированный характер, высокая степень документированное не отрицают возможности применения в ДД средств персонального бытового дискурса, однако не предполагают широкого их использования. Предметная сфера ДД, таким образом, определяется соответствующим социальным институтом, а не рамками персональных дискурсов отдельных участников.
Компонентная структура дискурса представляет собой набор его базовых системообразующих признаков, которые можно определить как необходимое и достаточное условие возникновения и существования дискурса, как наиболее общие, обязательные признаки, по которым определяется дискурс как таковой.
Стратегия дискредитации
Одной из основных семантических стратегий ДЦ (связанной с нарушением ценностей дискурса) представляется стратегия дискредитации. Современные международные отношения и внешнеполитические интересы требуют положительной самопрезентации государства, побуждения международного сообщества к тем или иным действиям, разграничения сфер влияния на международной арене. Описание стратегий дипломатической коммуникации без описания неизбежной в дипломатии стратегии дискредитации представляется неполным.
Разграничение «своих» и «чужих» через дискредитацию противника является неизбежным приемом политического и внешнеполитического взаимодействия. Стратегию дискредитации представляется возможным рассмотреть в рамках глобальной стратегии в области коммуникативного воздействия, которую можно обозначить как «игру на понижение» (Larson 1995, Иссерс 2006).
По мнению О.С. Иссерс, стратегия дискредитации включает коммуникативные действия оскорбления, обвинения, обиды, насмешки, издевки [Иссерс 2006]. На наш взгляд, в ДЦ с учетом его институционального характера стратегия дискредитации может быть представлена комплексами коммуникативных действий двух типов: объективной дискредитации (цель - выразить объективную негативную оценку) и субъективной дискредитации (цель - подорвать доверие, вызвать сомнение в положительных качествах партнера, представить его негативно). Становится возможным предположить, что объективная дискредитация включает использование тактики объективной критики и тактики обоснованного обвинения. Средствами реализации стратегии субъективной дискредитации служат тактики необоснованного обвинения, оскорбления, высмеивания, провокации.
Тактика объективной критики, выражаемая, на наш взгляд, эксплицитно, может быть представлена следующим фрагментом: Progress has been impeded by absence of a legal agreement, which has made site access difficult and uncertain, and by difficulties in reconciling grant-in-aid to companies with the Russian tax code. Тактика обоснованного обвинения, базирующаяся на принципах объективности, выражается, на наш взгляд, как эксплицитными, так и имплицитными средствами. Обвинение, в отличие от оскорбления, не предполагает намерения унизить, уязвить, выставить в смешном виде [Федосюк 1996: 60-67]; с обвинением можно частично согласиться.
Эксплицитно тактика обоснованного обвинения может быть выражена, например, следующим образом: we agreed that, if the Government of Sudan and the rebel movements continue to fail to meet their obligations... [Heiligendamm, 8 June 2007 Chair s Summary]. Обвинение в адрес правительства Судана и движений повстанцев, представленное сложноподчиненным предложением с придаточным условия и дискурсивной формулой fail to meet obligations, сформулировано в соответствии с принципом вежливости, но носит эксплицитный характер: в тексте есть прямое указание на невыполнение обязательств, что противоречит ценностям ДД.
Имплицитные способы выражения обоснованного обвинения в тексте включают, на наш взгляд, следующие коммуникативные ходы: сомнение, намек, предположение, ссылка на третьих лиц, иллюзия совместного семантического вывода, риторический вопрос с имплицитным негативным выводом.
Сомнение как коммуникативный ход, направленный на имплицитное выражение обоснованного обвинения: Kosovo s uncertain political status has left it unable to access international financial institutions; коннотация «сомнение» передается лексической единицей uncertain и морфологическим сходством форм uncertain и unable.
Иллюзия совместного семантического вывода как коммуникативный ход в рамках тактики обоснованного обвинения отражена в следующем примере: Looking back, the Cold War was an epic struggle that incurred epic costs. I believe we all agree that incurring those costs was preferable to the alternatives: catastrophic conflict or totalitarian domination. The range of challenges and threats we face today will also test our willingness to meet our commitments to spend the money and take the risks - indeed, to fully embrace our shared responsibility to protect our shared interests and values [Robert M. Gates, Secretary of Defense, USA Speech at the 43rd Munich Conference on Security Policy February 11, 2007]. Очевидно, что «холодная война» вызывает крайне негативное отношение; адресуя своего рода «обвинение в прошлое», субъект дискурса находит некую общую «платформу» негативного восприятия явления «холодной войны» и затем подводит аудиторию к следующему положению своего выступления, не связанного непосредственно с подвергнутым оценке явлением.
I am convinced that the only mechanism that can make decisions about using military force as a last resort is the Charter of the United Nations. And in connection with this, either I did not understand what our colleague, the Italian Defence Minister, just said or what he said was inexact. In any case, I understood that the use of force can only be legitimate when the decision is taken by NATO, the EU, or the UN. If he really does think so, then we have different points of view. Or I didn t hear correctly.
Коммуникативный ход «намек» как имплицитное средство выражения обоснованного обвинения представлен, на наш взгляд, в следующем фрагменте:
Убежден: единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился неточно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО или в Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я ослышался.