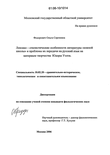Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Ирония как объект лингвистического исследования 11
1.1 Реализация иронии на лексическом уровне 16
1.2. Синтаксические средства реализации иронии 20
1.3. Реализация иронической модальности на уровне текста 23
1.4. Проблемы адекватности и эквивалентности перевода и передача иронии с английского языка на русский язык 27
Выводы по первой главе 42
Глава 2. Авторская ирония в романе О. Хаксли «Желтый Кром» и ее межъязыковая передача 45
2.1. Социокультурные условия в Англии в начале XX века, повлиявшие на создание образов в романе О. Хаксли «Желтый Кром» 45
2.2. О. Хаксли и его роман «Желтый Кром» 48
2.3. Передача иронии О. Хаксли на русский язык 52
2.3.1. Ирония, выраженная на лексическом уровне 52
2.3.2. Ирония, реализованная на синтаксическом уровне 57
2.3.3. Реализация иронической модальности на уровне текста 58
Выводы по второй главе 86
Глава 3. Авторская ирония в романе Дж. Мередита «Эгоист» и ее межъязыковая передача 88
3.1. Социокультурные условия в Англии XIX века, повлиявшие на создание образов в романе Дж. Мередита «Эгоист» 88
3.2. Дж. Мередит и его роман «Эгоист» 91
3.3. Передача иронии Дж. Мередита на русский язык 94
3.3.1. Ирония, выраженная на лексическом уровне 94
3.3.2. Реализация иронической модальности на уровне текста 117
Выводы по третьей главе 133
Заключение 136
Список использованной научной литературы 144
Список использованных словарей 157
Список художественных произведений, послуживших источниками фактического материала 158
- Реализация иронии на лексическом уровне
- О. Хаксли и его роман «Желтый Кром»
- Социокультурные условия в Англии XIX века, повлиявшие на создание образов в романе Дж. Мередита «Эгоист»
- Реализация иронической модальности на уровне текста
Введение к работе
Реферируемая диссертация посвящена исследованию проблем передачи иронии с английского языка на русский.
Главная функция перевода – коммуникативная, и задача переводчика состоит в том, чтобы помочь людям, говорящим на разных языках, понять друг друга. В данном случае синонимом слову «понять» можно считать выражение «найти общий язык». А это иногда достаточно сложно. Речь идет не о простом переводе слов, словосочетаний и грамматических конструкций, но о целом ряде нюансов, которые должны быть учтены в переводе, чтобы передаваемая информация была полной, точной и понятной собеседникам. Любое событие необходимо рассматривать в контексте его исторической и социокультурной обстановки. Чувства и эмоции, выраженные собеседниками, также нужно отразить в переводе. Каждую фразу в переводе следует строить с учетом подготовленности собеседников, чтобы избежать недопонимания. Переводчик должен знать не только иностранный язык, но и культуру страны, ее историю, традиции и обычаи, особенности характера народа.
Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловливается тем, что на современном этапе, когда международная коммуникация и интеграция развиваются небывалыми темпами, становится все более важной именно проблема передачи иронии с английского языка на русский. Этому способствуют две причины: 1) ирония и самоирония являются отличительными чертами британской нации; 2) поскольку перевод необходим для обеспечения понимания между народами и отдельными людьми, переводчик должен учитывать особенности менталитета носителей языка, чтобы адекватно передать информацию, содержащуюся в сообщении. Сегодня примеры английской иронии можно встретить в газетах, журналах, на телевидении, в художественных произведениях и устной речи. Но если речь идет о языке, то именно художественные произведения, в первую очередь, представляют культуру страны. Романы Дж. Мередита «Эгоист» и «Желтый Кром» О. Хаксли являются не только одними из наиболее ироничных произведений английской литературы. Они еще и в некоторой степени автобиографичны. Таким образом, анализ иронии, встречающейся в этих произведениях, дает возможность ознакомиться не только с авторской оценкой персонажей, но и социокультурной обстановкой, в которой создавались произведения Дж. Мередита и О. Хаксли. Несмотря на то, что роман Дж. Мередита был написан в конце XIX века, а О. Хаксли – в начале ХХ, их идеи не утратили свою остроту и сегодня. Это обусловлено тем, что ирония этих авторов направлена на проблемы образования, философии, культуры и межличностных отношений, то есть темы, которые остаются ключевыми и сегодня, поскольку чувства и эмоции человека, стремление к прогрессу и поиски своего места в жизни всегда будут важны. Дж. Мередит и О. Хаксли являются типичными представителями своей нации, поэтому именно на примерах их иронии и ее передаче на русский язык можно понять, какое место занимает ирония в жизни британцев. Таким образом, актуальность данной работы обусловлена той ролью, которую играют лингвистические средства выражения иронии в творчестве английских писателей, а также особенностями их передачи на русский язык, которые характерны для перевода явной и скрытой иронии.
В работе выдвигается гипотеза о том, что ознакомление с социокультурной обстановкой, современной авторам, и особенностями их биографий позволяет сделать предварительные выводы о возможности актуализации иронии в произведениях и об объектах иронизирования. Такой предварительный анализ облегчает задачу переводчика на самом сложном этапе передачи иронии – на этапе ее декодирования. Особенно актуальной эта проблема становится, если речь идет о скрытой иронии, реализованной автором на разных уровнях.
Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что впервые осуществляется систематический анализ языковых средств создания иронии, выраженной на разных уровнях в романах «Желтый Кром» О. Хаксли и «Эгоист» Дж. Мередита, и основных приемов их межъязыковой передачи в существующих русских переводах. Также впервые осуществлен анализ возможности актуализации иронии и выбора автором предмета иронизирования в произведениях, имеющих автобиографические черты.
Объект исследования – языковые средства создания иронии в произведениях О. Хаксли и Дж. Мередита и способы их передачи на русский язык.
Предмет исследования – лексические и грамматические трансформации, применяемые переводчиками для передачи иронии.
Материалом для проведения исследования послужили оригинальные английские тексты романов О. Хаксли “Crome Yellow” [1921] и Дж. Мередита “The Egoist” [1879] (общее количество проанализированных страниц на английском языке – 885), а также их переводы на русский язык «Желтый Кром» и «Эгоист» (общее количество проанализированных страниц русскоязычного текста – 950), выполненные Л.К. Паршиным и Т.М. Литвиновой соответственно.
Всего методом сплошной выборки было отобрано 49 примеров иронии, из которых 27 примеров иронии, выраженной на лексическом уровне, 4 примера – на синтаксическом уровне и 18 примеров реализации иронической модальности на уровне текста.
Цели диссертационного исследования: обзор российской и зарубежной литературы, посвященной проблеме иронии; анализ вариантов трактовки иронии; выявление и анализ переводческих закономерностей при передаче иронии на русский язык и анализ основных критериев, обусловливающих степень адекватности и эквивалентности перевода в зависимости от выбранной стратегии перевода и конкретных особенностей ее реализации.
В соответствии с указанными целями, определяются следующие задачи исследования:
1) исследовать теорию перевода иронии в художественных текстах;
2) указать социокультурные факторы, повлиявшие на актуализацию иронии и объекты иронизирования в романах О. Хаксли «Желтый Кром» и «Эгоист» Дж. Мередита;
3) изучить тексты романов О. Хаксли “Crome Yellow” и Дж. Мередита “The Egoist”; проанализировать их семантико-стилистические особенности; дать классификацию примеров иронии, созданной авторами, с учетом уровней ее реализации;
4) осуществить лингвостилистический анализ переводов художественных произведений на русский язык и дать их оценку с точки зрения переводческой адекватности и эквивалентности;
5) провести сопоставительный анализ полноты решения проблемы адекватности и достигнутых уровней эквивалентности в переводах, выполненных Л.К. Паршиным и Т.М. Литвиновой;
6) на основе проведенного анализа выявить причины достижения переводчиками разных уровней эквивалентности.
Методы исследования отбирались в соответствии с поставленными целями и указанными задачами исследования. В работе использовались следующие методы и приемы анализа: гипотетико-дедуктивный метод анализа, описательный и сопоставительный методы, метод сплошной выборки, а также лексико-стилистический, контекстологический и компонентный анализ.
1) Гипотетико-дедуктивный метод анализа состоял из следующих этапов: установка критериев подлежащего исследованию объекта; сбор фактического материала; обобщение собранного материала индуктивным путем, в котором мысль развивается от знания единичного и частного к знанию общего; создание теории в виде гипотезы; уточнение гипотезы; этап дедукции, то есть выведение новой мысли из признанных истинными данных логическим путем;
2) описательный метод применялся для изучения социального функционирования языка;
3) сопоставительный метод – для выявления сходства и различия структуры языков;
4) метод сплошной выборки использовался для сбора фактологического материала;
5) лексико-стилистический анализ был применен для характеристики лексики с точки зрения ее лексической окраски;
6) контекстологический анализ – для изучения языковой единицы в контексте;
7) компонентный анализ – для раскрытия семантики слов.
Теоретическая значимость проведенного исследования может быть определена необходимостью выявления национально-культурной специфики иронии в английском и русском языках, которая важна для разработки теории перевода. Теоретической основой послужили труды отечественных и зарубежных лингвистов, рассматривающих проблемы перевода: И.С. Алексеева, В.В. Алимов, Л.С. Бархударов, Е.И. Белякова, Л.И. Борисова, А.Л. Бурак, В.С. Виноградов, Н.К. Гарбовский, Ю.И. Гурова, Т.А. Казакова, Дж.К. Катфорд, Ч.К. Кво, А.В. Клименко, В.Н. Комиссаров, В.Н. Крупнов, Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман, Ю.Н. Марчук, Р.К. Миньяр-Белоручев, Г.Э. Мирам, Ю.А. Найда, Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни, Ю.Л. Оболенская, А.В. Паршин, И.В. Полуян, З.Г. Прошина, И.А. Пушнов, Я.И. Рецкер, Л.И. Сапогова, В.В. Сдобников, М.Ю. Семенова, В.С. Слепович, Г.В. Терехова, А.В. Федоров, И.А. Цатурова, А.Д. Швейцер. Иронии уделено внимание в работах Е.М. Кагановской, Т.А. Казаковой, В.М. Пивоева, С.И. Походни, В.Я. Проппа, Б. Беннета, Э. Бехлера, В.С. Бута, А. Буна, Дж. Боумена, Дж. Винокура, Дж.С. Грегори, Дж.А. Дейна, М. Джонсона, К. Колбрука, Н. Конкса, А.Л. Кука, С.О. Кьеркегора, С. Ланга, Э. Лаппа, Р. Ледерера, А.Р. Майера, Д.С. Мюкке, Р. Рорти, С.Дж. Сверинжера, Дж. Седжвика, Б. Сидиса, Л.Р. Фурста, Дж. Хэймана, Г.Дж. Хендверка, А.С. Хорнби, Р. Шарпа, Р. Якобсона .
Практическая ценность работы состоит в том, что данные, полученные в ходе исследования, помогают выявить типологию трудностей при декодировании и передаче иронии на русский язык в художественных текстах, имеющих автобиографические черты. Результаты проделанного исследования могут использоваться в курсах по теории и практике художественного перевода, сопоставительной типологии английского и русского языков, при проведении семинарских занятий по тем же предметам.
На защиту выносятся следующие положения:
1) Поскольку на сегодняшний день не существует единого подхода к пониманию и трактовке иронии, выходящей за рамки антифразиса, можно говорить о переходном периоде в изучении этого явления.
2) Поскольку подход к оценке качества перевода с точки зрения его «точности» вызывает много споров, предпочтительнее анализировать его с учетом того, насколько полно решены проблемы адекватности и эквивалентности переводного текста исходному.
3) Социально-культурные ассоциации у разных народов часто не совпадают, поэтому при передаче иронии с английского языка на русский язык необходимо уделять больше внимания проблеме адекватности, а не эквивалентности.
4) Адекватность перевода иронии часто напрямую не зависит от достигнутого переводчиком уровня эквивалентности.
5) Вероятность актуализации иронии в художественных произведениях, имеющих автобиографические черты, часто можно спрогнозировать.
6) Нет и не может быть четко оговоренных правил перевода иронии, реализованной на уровне текста.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования изложены в пяти публикациях (в том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК) и обсуждались на заседаниях кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета (2011– 2013 гг.).
Структура диссертации. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.
Реализация иронии на лексическом уровне
Определения иронии, выраженной на лексическом уровне, которая реализуется отдельным самостоятельным словом, свободным словосочетанием или путем реализации двух лексико-семантических вариантов полисемантического слова, можно встретить в работах И.В. Арнольд: «Выражение насмешки путем употребления слова в значении прямо противоположном его основному значению и с прямо противоположными коннотациями, притворное восхваление, за которым в действительности стоит порицание, называется иронией» [Арнольд, 1973, с. 149] и И.Р. Гальперина, который дает следующее определение иронии: «Ирония — это стилистический прием, посредством которого в каком-либо слове появляется взаимодействие двух типов лексических значений: предметно-логического и контекстуального, основанного на отношении противоположности (противоречивости)» [Гальперин, 1958, с. 133] Он утверждает, что «таким образом, эти два значения фактически взаимоисключают друг друга» [Там же. С. 133].
Б.О. Дземидок пишет об иронии, определяя ее как замаскированную насмешку, где скрытый смысл является отрицанием буквального [Дземидок, 1974, с. 102]. По тому же пути пошел и филиппинский писатель А.Е. Кристобаль, который в статье «Республика иронии» дает следующее определение: «Асимметрия между словом и действием, намерением и результатом называется «ирония» [Cristobal, 2005, р. 2].
СО. Кьеркегор указывал на скрытый смысл, который заложен в иронии. Он определяет иронию как «троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному» [Kierkegaard, 1992, р. 248].
Э. Лапп отмечает, что хотя ирония и скрывает прямой смысл высказывания, очень важно отличать ее от обмана [Lapp, 1995, р. 179].
На лексическом уровне чаще всего ирония реализуется словом в составе словосочетания или отдельным самостоятельным словом. По мере усложнения плана выражения (полисемантические слова) усложняется, и объем понятий, выражаемых прямыми и переносными значениями лексических единиц. Переносное значение не всегда является полным отрицанием прямого, отношения между ними гораздо сложнее и часто не сводятся к антифразису.
Самым простым случаем реализации иронии является тот, когда ирония реализуется отдельным самостоятельным словом. Лексические единицы положительной (реже нейтральной) семантики благодаря контексту изменяют свое значение и приобретают отрицательную семантику. В данном случае именно изменение положительного словарного значения на отрицательное контекстуальное значение создает иронию. Значительно реже происходит обратный процесс, когда отрицательное словарное значение в контексте изменяется на положительное.
На тот факт, что для облегчения процесса декодирования иронии в тексте довольно часто используются кавычки, обратила внимание Т.А. Казакова: «Также простейшим способом выражения иронии в английском и русском языках являются кавычки, когда вполне стандартное и ожидаемое слово или фраза берутся в кавычки в стандартном контексте» [Казакова, 2000, с. 273]. Т.А. Казакова уточняет, что «такие ситуации, как правило, легко переводятся аналогичным приемом, за исключением области закавычивания, которая может меняться в зависимости от совпадения или расхождения грамматических составляющих исходной единицы» [Там же. С. 273].
В словосочетаниях чаще всего именно прилагательные становятся тем центром, в котором создается ирония, так как им в большей мере, чем другим частям речи, присуще наличие семы оценочности. Э.С. Азнаурова указывала на актуализацию ими признака квалификативного характера, что и приводит к индуцированию эмоционально-оценочных сем [Азнаурова, 1975, с. 94-95]. К тому же, сама природа атрибутивных словосочетаний с субъективным компонентом их значения, вносимым определением, способствует прямому или косвенному выражению оценки и отношения говорящего. О словосочетаниях В.В. Виноградов писал: «Словосочетания (как и слова) могут и должны быть изучены не только в составе предложения как его структурные элементы, но и как разные виды сложных названий» [Виноградов, 1959, с. 45]. В данном случае семантика существительного имеет второстепенное значение, так как существительным обозначается только предмет иронизирования.
Иногда существительные могут способствовать выявлению изменения в контексте семантики прилагательных, усиливая иронию. Это происходит в тех случаях, когда сема оценки присутствует в самом существительном. Но в основном в текстах преобладают существительные с нейтральной семантикой. Среди словосочетаний, создающих иронию на лексическом уровне, иногда встречаются и стереотипные словосочетания, которые В.В. Виноградов относил к фразеологическим единствам: «К области фразеологических единств относятся и многие фразовые штампы, клише, типичные для разных литературных стилей, и литературные цитаты, и крылатые выражения, и народные пословицы, и поговорки» [Виноградов, 1959, с. 133]. Этимологически все эти словосочетания -бывшие метафоры, которые со временем утратили свою образность. Сейчас при употреблении в новых контекстах они могут создавать и новые художественные образы. Несмотря на некоторые ограничения в применении, они обладают очень важным для создания иронии качеством, так как сохранили в своей семантике следы контекстов своего употребления. СИ. Походня рассматривал роль, которую играют авторские окказионализмы в создании иронии, некоторые из которых реализуют более сложные, чем антифразис, корреляции с текстовой ситуацией: «Особняком стоит группа авторских окказионализмов, которая обнаруживает более сложные корреляции семантики слов с текстовой ситуацией, чем ирония, основывающаяся на антифразисе» [Походня, 1989, с. 11].
Появление в тексте окказионализмов зависит от богатства фантазии автора. В иронии они могут содержаться в эпитетах, метафорах, метонимии, литотах, гиперболах или сравнениях. Следует уточнить, что при антифразисе автор противопоставляет характеристику денотата его реальным качествам чаще всего с целью насмешки. СИ. Походня также отмечал образность, свойственную авторским окказионализмам: «Иногда такие гиперсемантизированные атрибуты создаются несвойственными для актуализации англоязычной иронии морфологическими средствами типа суффиксации (a shortish fairish youngish man; tallish, thinnish and high brow)... в английском языке, для которого номинализация является одним из ведущих механизмов словообразования, весьма часто образуются сложные слова именно этим путем: tannedohe corneas chorus boy: a cat-who-has-just-lunched-on-prime-canary quality in his voice, sardonic, martini-dry wit; bloody-Mary wash of the sunset» [Там же. С. 27]. Он указывал на то, что «экспрессивность подобных индивидуальных новообразований способствует выведению иронии на поверхность, превращению ее из скрытой в явную» [Там же. С. 27].
И.Р. Гальперин рассматривал и возможность создания иронии с помощью архаизмов: «Архаизмы могут служить и для выявления насмешливо-иронического отношения говорящего к предмету высказывания, а также выполнять функцию сатирическую» [Гальперин, 1977, с. 71].
Другая разновидность иронии, выраженной на лексическом уровне, реализуется в тексте путем одновременной актуализации двух или нескольких лексико-семантических вариантов полисемантичного слова. В таких случаях только контекст может выявить словарную многозначность лексических единиц. При создании иронического образа путем одновременной актуализации двух лексико-семантических вариантов полисемантичного слова соотношения между денотатом и модальной авторской характеристикой сложнее, чем в случае антифразиса. В этом случае могут передаваться разные оттенки отношения автора высказывания к денотату.
Ирония также может быть создана с помощью употребления переносного значения слова или омонимов. Такие случаи часто сложны для перевода, так как употребление таких значений и слов редко совпадают в разных языках.
О. Хаксли и его роман «Желтый Кром»
Олдос Хаксли (1894-1963) - один из признанных мастеров британской прозы XX века - родился в семье, сыгравшей заметную роль в научной и культурой жизни Англии. Его отец, Леонард Хаксли, был известным литератором, дед, Томас Генри Хаксли (в русской транскрипции - Гексли), знаменитым биологом. Семейные традиции определили направление интересов и склонностей юного Хаксли. Он всерьез намеревался заняться медициной, но этому помешало начавшееся в шестнадцать лет заболевание глаз. Оставалась другая семейная профессия - литератор. После окончания Итона и одного из самых престижный колледжей Оксфорда - Бэллиол-колледжа, Хаксли становится профессиональным литератором.
Роман О. Хаксли «Желтый Кром» как тематикой, так и манерой во многом созвучен книгам писателей «потерянного поколения». Сам он, правда, в войне не участвовал, но немало его друзей и родственников пали на полях сражений.
Чувство «потерянности» преследует большинство героев раннего Хаксли, но «потерялись» они не в окопах, а в поместьях, клубах и светских гостиных послевоенного Лондона и его предместий. Война и ее последствия отняли у героев Хаксли уверенность в завтрашнем дне, унесли веру в идеалы буржуазного либерализма, обнажили непрочность человеческих связей.
Известный английский критик У. Аллен писал: «Невозможно представить 20-ые годы без Хаксли. Он приложил руку к созданию духовной атмосферы тех лет, и он же готовил перелом, наступивший в конце десятилетия» [Аллен, 1970, с. 86]. Замечание это вполне справедливо. «В 20-х годах в английской литературе наметилось довольно отчетливое размежевание направлений и сил», - отмечает В.В. Ивашева [Ивашева, 1967, с. 6].
Роман Хаксли написан в русле британской реалистической традиции XVIII—XIX веков. Хаксли высмеивает ничтожность и порочность британского высшего и среднего класса, издевается над лицемерием британского «света».
Формально есть все основания искать автобиографический элемент в образе центрального персонажа, Дэниса Стоуна, приезжающего погостить в имение своих друзей «Желтый Кром». Дэнис, как и сам Хаксли в те годы, - начинающий поэт. Более того, «Кром» имеет свой точный прототип, давно установленный современниками. Это находившееся в шести милях от Оксфорда небольшое поместье Гарсингтон, принадлежавшее одной из признанных хозяек британских литературных салонов тех лет, леди Оттолайн Моррелл. Богатый материал для наблюдательного юноши являли собой и гости Гарсингтона.
Молодой писатель вовсе не стремился писать с натуры - он просто умел подмечать в приятелях и знакомых характерное и комическое и щедро наделял этими качествами своих чудаковатых персонажей.
Смысл творческих достижений Хаксли-сатирика не столько в создании запоминающихся и остроумных шаржей на окружавших его людей, сколько в художественном столкновении разных, часто совершенно противоположных позиций и концепций, парадоксальных методов и систем мышления. В ранних книгах писателя ирония была грозным оружием, которым он развенчивал идеи и мнения, казавшиеся ему неверными и ничтожными. Если рассмотреть персонажей «Желтого Крома» под этим углом зрения, то окажется, что почти все они показаны в ироническом ключе. Таков, прежде всего, и сам Дэнис Стоун. Он романтичен и в то же время возмутительно банален. И сам Хаксли относится к юноше хотя и не без сочувствия, но с изрядной долей иронии.
Искусство в «Желтом Кроме» еще остается вечной, непреходящей ценностью. Писатель верит в его могущество и бессмертие. В каком-то смысле оно служит своеобразным эталоном, в сравнении с которым еще мельче и ничтожнее кажутся обитатели Крома, отгораживающиеся от могучего потока реальной жизни.
Каждый персонаж книги, как нетрудно заметить, выражает некую персонифицированную идею, но идея эта никогда не остается лишь иллюстрацией. Она оживлена, одухотворена прикосновением язвительного пера, и потому личность, ее воплощающая, индивидуальна и неповторима.
Роман построен, исходя из классических образцов XVIII века. Он состоит из ряда эпизодов, соединенных между собой лишь общим местом действия, потому в него легко и органично вплетаются вставные новеллы. Такая вольная композиция позволяет автору свободно вводить или убирать со сцены любого персонажа по мере необходимости. В «Желтом Кроме» нет развития характеров, они статичны, но есть щедрая россыпь теорий и мыслей, богатство остро поставленных вопросов, которые будут волновать не только Олдоса Хаксли, но и многих других писателей XX века. Так называемая «некоммуникабельность»? В «Желтом Кроме» множество примеров, свидетельствующих о невозможности настоящего человеческого общения. Боязнь наступления технократической цивилизации? Пророчества Скоугена. Модные теории в психологии, социологии, искусстве? В романе есть не только их изложение, но, в большинстве случаев, и авторская оценка.
Сопоставив современные автору социокультурные условия и факты из его биографии, мы можем сделать предварительные выводы о возможности актуализации иронии и предметах иронизирования в романе «Желтый Кром», которые приведены в Таблице 1.
Социокультурные условия в Англии XIX века, повлиявшие на создание образов в романе Дж. Мередита «Эгоист»
Девятнадцатый век был временем расцвета Великобритании. Британия в то время была империей, которая контролировала большие территории по всему миру. До последней четверти столетия она производила больше товаров, чем любая другая страна мира.
Быстрый рост среднего класса частично был обусловлен быстрым ростом населения. Этот рост и перемещение людей из провинции в города изменили политический баланс, и к концу века большинство мужчин имели право голосовать. В это время именно средний класс стал определять политику и государственные дела. Аристократы и монархия к концу девятнадцатого века обладали совсем незначительным влиянием. Что касается рабочего класса, то он еще не нашел своего места в обществе и делах государства.
У Англии никогда не было цели колонизировать все земли. Были лишь некоторые территории, которыми она хотела обладать для усиления политического влияния и успешной торговли.
Забота о поддержании баланса в Европе была главной задачей британской внешней политики столетия.
До середины века Британии угрожала внутренняя, а не внешняя опасность. Войны с Наполеоном были окончены, и оружие, одежда и другие товары, так необходимые во время войны, уже не требовались в таких количествах. Безработицу усилило возвращение 300 тысяч солдат, которые теперь искали работу. Быстро поползли вверх цены, повысился уровень преступности. Пойманных воров отсылали в новую колонию - в Австралию.
Между 1815 и 1835 годами Британия, где раньше преобладало сельское население, превратилась в страну, где большинство населения жило в городах. В первые тридцать лет девятнадцатого века население таких городов, как Лидс, Манчестер и Глазго увеличилось более чем вдвое. Лондон, однако, по-прежнему оставался самым большим городом Великобритании.
Необходимо было провести реформу общества. Тори хотели, чтобы парламент представлял собственность, радикалы - простых людей. Виги, или либералы, желали изменений, которые помогли бы избежать революции.
Во второй половине восемнадцатого века средний класс увеличился с ростом числа промышленников и владельцев фабрик и стал более разнородным, включив в себя профессиональных работников, таких, как священнослужители, юристы, доктора, дипломаты, банкиры, военные и коммерческие классы, которые были истинными создателями богатства нации. Часто это были люди, поднявшиеся из низов.
Несмотря на тот факт, что общество оставалось разделенным на классы, Викторианская эпоха была временем больших перемен в обществе. Дети промышленников часто предпочитали финансовый и торговый сектор, а некоторые из них даже обучались профессиям. Самые выдающиеся из них получили рыцарство или титул лорда и стали принадлежать к высшим кругам общества.
Далее последовал обратный процесс оттока среднего класса из городов в пригороды. Города были перенаселенными и грязными.
Большая часть современной государственной системы Великобритании была создана в 1860-х-70-х годах. Рост числа газет, в особенности «популярных» газет для полуобразованного населения, послужило толчком к увеличению важности мнения общества. Быстро распространялась демократия. Определилась политическая карта Великобритании: Англия, особенно юг Англии, была консервативной, в то время, как Шотландия, Ирландия, Уэльс и северная Англия придерживались радикальных взглядов. Палата общин выросла, а Палата лордов теряла остатки своего влияния.
Королева Виктория правила с 1837 года и до своей смерти в 1901 году. Она стала самой популярной королевой за всю историю Британских островов. Тем временем Великобритания расширяла свои колониальные владения. После потери американских колоний идея новых поселений была не очень популярна, поэтому до 1840 года Британия в основном лишь защищала свои интересы и торговые пути.
Колониям, населенным белыми выходцами из Великобритании, такие, как Канада, Австралия и Новая Зеландия, скоро было позволено создать свое собственное правительство, и они уже не зависели от Великобритании. Однако они должны были признавать монарха главой своего государства.
К концу девятнадцатого века Британия контролировала океаны и большую часть суши земли. Но даже тогда, в период расцвета империи, колонии уже становились тяжелым грузом, на которую тратилось все больше и больше денежных средств. Этот груз стал непосильным в двадцатом веке, когда колонии потребовали независимости.
В 1870 и 1871 году были приняты законы о всеобщем образовании. Согласно этим законам, все дети должны были ходить в школу до тринадцати лет. В Шотландии государственная система образования существовала со времен Реформации. Там было четыре университета, три из которых были основаны в средних веках.
В Уэльсе с начала девятнадцатого века стало резко расти количество школ и появилось два университета.
По всей Англии появлялись новые университеты, в которых, в отличие от Оксфорда и Кембриджа, преподавали в основном естественные науки и технологии, чтобы удовлетворить спрос британской промышленности.
Власть переместилась из провинции в города. Была введена в действие существующая до сих пор система местного самоуправления. Власть церкви пошатнулась, к 1900 году только 19% жителей Лондона посещали церковь по воскресеньям, остальные же горожане находили другие, более привлекательные способы проведения выходных. Изобретение железной дороги и велосипеда также послужили причинами перемен в обществе.
Реализация иронической модальности на уровне текста
Ирония автора, направленная на главного героя романа, выражена не только на лексическом уровне, но и на уровне текста:
"Well, footmen and courtiers and Scottish Highlanders, and the corps de ballet, draymen too, have legs, and staring legs, shapely enough". «Лакеи и придворные, скажете вы, а также шотландские горцы сохранили ногу и поныне; ее еще можно увидеть в кордебалете - стройную на заглядение; сохранилась она и у ломовых извозчиков». "But what are they?" «Но разве это нога?» "Not the modulated instrument we mean - simply legs for leg-work, dumb as the brutes". «Разве ее имели мы в виду, говоря об этом тончайшем инструменте?» "Our cavalier s is the poetic leg, a portent, a valance". «Это просто ноги, выполняющие ножную работу, бессловесные, как скот. Мы же говорим о ноге кавалера, об этом чуде поэзии и доблести». "Не has it as Cicero had a tongue". «Кавалер владеет ею, как Цицерон -языком». "It is a lute to scatter songs to his mistress; a rapier, is she obdurate. In sooth a leg with brains in it, soul". «Это лютня, на которой он воспевает свою возлюбленную, или, если она к нему жестока, - рапира, которою разит ее в самое сердце. Словом, это нога, одаренная душой и разумом».
"And its shadows are an ambush, its lights a surprise". «Вот по ней пробежала тень - берегитесь, то ловушка!» "It blushes, it pales, can whisper, exclaim". «Но вот она засияла - и вы застигнуты врасплох». "It is a peep, a part revelation, just sufferable, of the Olympian god - Jove playing carpet-knight" [Meredith, 1987, p. 45]. «Она приоткрывает завесу, позволяя взглянуть (но только на мгновение, иначе бы вы ослепли!) на олимпийского бога, на Зевса, примявшего обличье паркетного рыцаря» [Мередит, 2011, с. 18-19].
Предложение "But what are they?" («Но какие они?») является информационно недостаточным, поэтому Т.М. Литвиновой пришлось использовать прием конкретизации: «Но разве это нога?». При переводе информационно недостаточного словосочетания "not the modulated instrument we mean", были применены экспрессивная конкретизация и прием смыслового развития: «Но разве это нога? Разве ее имели мы в виду, говоря об этом тончайшем инструменте?». В результате чего предложение стало слишком длинным и сложным для восприятия. Поэтому пришлось сделать грамматическую трансформацию и разделить его на два. Эпитет "the poetic leg" («поэтическая нога») и перечисление "a portent («чудо»), a valance («доблесть»)" переведены метафорой: «чудо поэзии и доблести». Интересен перевод словосочетания "Olympian god - Jove". В оригинале речь идет о Юпитере. Юпитер - верховный бог в древнеримском пантеоне, он соответствует греческому Зевсу. Читатели в нашей стране, как правило, знакомы с греческой мифологией. Поэтому Т.М. Литвинова сделала культурно-ситуативную замену и перевела "Jove" как «Зевс».
"Of the young Sir Willoughby, her word was brief; and there was the merit of it on a day when he was hearing from sunrise to the setting of the moon salutes in his honour, songs of praise and Ciceronian eulogy". «Афоризм миссис Маунтстюарт, посвященный юному Уилоби, был еще лаконичнее, и это достоинство особенно выделялось в день, когда виновник торжества от зари и до зари только и слышал что дифирамбы, славословия и панегирики в традициях Цицеронова красноречия». "Rich, handsome, courteous, generous, lord of the Hall, the feast and the dance, he excited his guests of both sexes to a holiday of flattery". «Один вид этого богатого, красивого, любезного и щедрого джентльмена, казалось, вдохновлял гостей обоего пола на оргию лести». "And, says Mrs Mountstuart, while grand phrases were mouthing round about him, "You see he has a leg" [Meredith, 1987, с 42-43]. «И вот, когда все кругом торжественно и пространно превозносили до небес его достоинства, миссис Маунтстюарт сказала просто: «Сразу видно человека с ногой» [Мередит, 2011, с. 15-16].
При переводе словосочетания "her word" была сделана экспрессивная конкретизация: «афоризм». Тот же прием был применен Т.М. Литвиновой для передачи существительного "salute" («проявление расположения, уважения») 119 «дифирамбы», словосочетания "songs of praise" ("praise" - «похвала», «восхваление») - «славословия», и существительного "eulogy" («хвалебная речь») -«красноречие». Для того чтобы компенсировать сделанные ранее экспрессивные конкретизации, эмоционально окрашенное словосочетание "lord of the Hall" («повелитель зала») передано нейтральным «джентльмен».
Дж. Мередит продолжает: "Mrs Mountstuart touched a thrilling chord". «Миссис Маунтстюарт задела трепетную струну».
"In spite of men s hateful modern costume, you see he has a leg."
«Несмотря на отвратительный костюм, который вынужден носить современный мужчина, видно, что Уилоби - обладатель Ноги с большой буквы».
"That is, the leg of the born cavalier is before you: and obscure it as you will, dress degenerately, there it is for ladies who have eyes". «Иначе говоря, перед вами нога прирожденного кавалера: как бы вы ее ни прятали, в какие бы нелепые одежды ни облекли, все равно она существует - для дам, у которых есть глаза». "You see it: or, you see he has it". «Вы видите эту ногу или, во всяком случае, видите, что она у него есть». "And the ladies knew for a fact that Wiloughby s leg was exquisite; he had a cavalier court-suit in his wardrobe". «А что нога у Уилоби была и в самом деле на удивление стройной - это дамы знали точно: недаром в его гардеробе хранился костюм придворного кавалера».
"Mrs Mountstuart signified that the leg was to be seen because it was a burning leg. There it is, and it will shine through". «Миссис Маунтстюарт как бы утверждала, что ногу его видно при всех условиях, ибо контуры ее выжжены огнем - они так и просвечивают!» "Не has the leg of Rochester, Buckingham, Dorset, Suckling; the leg that smiles, that winks, is obsequious to you, yet perforce of beauty self-satisfied; that twinkles to a tender midway between imperiousness and seductiveness, audacity and discretion; between "you shall worship me", and "I am devoted to you"; is your lord, your slave". «Подобно ноге Рочестера, Бэкингема, Дорсета и Саклинга, она улыбалась, лукаво подмигивала или выражала покорную мольбу, не теряя при том своей уверенной красоты; то властная, то нежная, то дерзкая, то скромная, она как бы говорила: «Вы будете меня боготворить», затем лишь, чтобы тут же сказать: «Я вам предан до гроба». Нога, которая является одновременно вашим господином и рабом». "Self-satisfied it must be". «Без самодовольства ей никак нельзя». "Humbleness does not win multitudes or the sex". «Смирением не покоришь ни женщину, ни народы». "It must be vain to have a sheen". «Без гордости нет блеска! Довольство собою - неизбежный спутник осознанного совершенства». "Captivating melodies (to prove to you the unavoidableness of self-satisfaction when you know that you have hit perfection), listen to them closely, have an inner pipe of that conceit almost ludicrous when you detect the chirp" [Meredith, 1987, p. 44-45]. «Прислушайтесь к любой мелодии, что вас пленяет, прислушайтесь внимательно, и вы непременно различите в ней этот внутренний голосок самомнения, - право же, очень потешный!» [Мередит, 2011, с. 17-18].
Прилагательное "hateful" («ненавистный», «отвратительный», «мерзкий») переведено эвфемизмом «нелепый». Словосочетание "he has a leg" лексически нейтрально, но благодаря контексту метафорично по своей сути. Поэтому Т.М. Литвиновой для адекватной передачи его на русский язык пришлось использовать прием экспрессивной конкретизации «обладатель Ноги с большой буквы». При переводе следующих двух предложений «Mrs Mountstuart signified that the leg was to be seen because it was a burning leg. There it is, and it will shine through» была сделана грамматическая трансформация, и они были объединены в одно. В условиях информационной недостаточности словосочетания "burning leg" пришлось сделать добавление («контуры») и применить прием смыслового развития: «при всех условиях». Прилагательное "vain" («тщеславный»; «самодовольный», «самовлюблённый») передано эвфемизмом: «гордость». В условиях информационной недостаточности переводчик добавила целое предложение: «Довольство собою - неизбежный спутник осознанного совершенства».