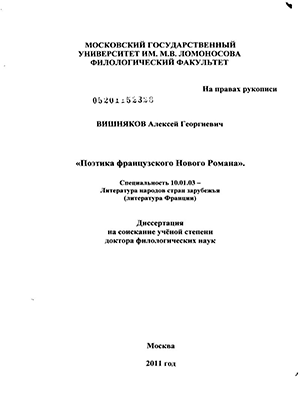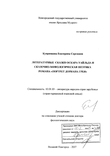Введение к работе
Настоящая диссертация посвящена комплексному изучению поэтики французского Нового Романа – последнего по времени значительного явления французской литературы ХХ века.
Актуальность данной темы обуславливается не только недостаточной изученностью этого литературного течения в современном литературоведении, но и рядом более сложных причин. Признавая заслуги таких французских исследователей, как М.Надо, Р.Барт, много сделавших для критического осмысления поэтики первых произведений новороманистов, как Ж.Рикарду, давшего первую и наиболее законченную типологическую модель Нового Романа, как Л.Гольдман, Ж.Женетт, С.Сикс, Р.Альман, М.Каль-Грюбер, Ж.Тораваль, А.Дункан, В.Госель, Д.Виар, Ф.Дюга-Порт, исследовавших творчество отдельных писателей и сделавших значительное количество точных и не утерявших ценности наблюдений и выводов, следует отметить, что их хронологическая и физическая приближенность к объекту изучения не могла не наложить на их работу многочисленных и разнообразных ограничений, которые нередко были заметны и им самим, и воспринимались ими как объективные и имманентные всякому структурированию столь противоречивого и подвижного образования, как Новый Роман.
Крайняя сложность систематизации Нового Романа и построения его «общей теории» стали особенно заметны после попытки Рикарду (вторая половина 60-х – начало 70-х годов), отвергнутой в конечном итоге и самими новороманистами, и французским литературоведением. Последующие опыты в этом направлении (Тораваль, 1976, Альман, 1992-2002, Дюга-Порт, 2001) были гораздо скромнее по систематизирующему усилию, масштабности обобщений и прагматичнее по направленности. Проблема выведения из творчества отдельных новороманистов некоей общей поэтики была отставлена французскими литературоведами как под давлением самих писателей, видевших в такой постановке проблемы раздражавший их «вопрос влияний» и потому постоянно отвергавших и её, и сам факт существования «школы Нового Романа», так и ввиду трудности самой задачи, не поддающейся удовлетворительному решению применявшимися чаще всего по отдельности методами историко-литературными, биографическими, социально-историческими, сравнительными, философско-психологическими, структуральными, семиотическими или нарративными.
Там, где французские исследователи отступили перед сложностью и запутанностью проблемы «поэтики Нового Романа», отечественное литературоведение на первых порах не усмотрело никакой (во всяком случае, именно такое ощущение складывается при знакомстве с советским (а затем и российским) подходом): «Разрушение романа (о «новой школе» французской прозы) (1959), «На холостом ходу» (1963), «В лаборатории расчеловечивания» (1963) (все три характеристики – С.Великовский); «"антироман", поднявший знамя безответственности и безыдейности искусства», питающийся «"пылью" рассыпавшегося мира» (1987) (Л.Г.Андреев).
Парадоксальность ситуации состоит в том, что благодаря усилиям именно С.И.Великовского и Л.Г.Андреева, преодолевшим для этого значительное – и с точки зрения цензуры, и просто косности – сопротивление, советский читатель впервые познакомился сначала в отрывках (1963), а затем в виде четырёх романов (1983) с поэтикой новороманистов. Более нюансированные, хотя в целом вполне уничижительные, характеристики даёт автор единственной советской монографии о «новом романе» Л.А.Еремеев (1974).
Наибольший интерес на фоне вышеупомянутых представляет книга эссе Л.Зониной «Тропы времени» (1984), свободная от многих инвектив в адрес новороманистов, часто вытеснявших и подменявших анализ их творчества. В 2002 году была опубликована монография О.Б.Евгеньевой «"Новый роман" во французской литературе ХХ века», построенная как краткий очерк жизни и творчества Н.Саррот, А.Роб-Грийе, М.Бютора и анализ их произведений – «Золотых плодов», «Ревности» и «Изменения».
В разное время отечественными исследователями были защищены кандидатские и докторские диссертации на темы, связанные с Новым Романом и творчеством отдельных новороманистов. Среди их авторов: Г.К.Косиков (Проблема жанра романа и французский «новый роман» (на материале творчества Натали Саррот), 1972), И.Ф.Александрова (Романы М.Бютора 1950-х годов (теория и практика), 1985), О.А.Васильева (Романы Мишеля Бютора. Проблема жанра,1995), Л.А.Черницкая (Поэтика романов Натали Саррот, 1995), Л.А.Гапон (Поэтика романов Алена Роб-Грийе (строение и функционирование художественного текста), 1998), Т.А.Гниненко (Роман «Любовник» в контексте творчества Маргерит Дюрас, 2003), Ю.А.Маричик (Формы письма в современном французском романе: вербальное и визуальное в творчестве М.Дюрас, 2007), И.В.Савельева (Творчество А.Роб-Грийе 1965-2001 годов и стратегия обновления романа, 2008), Э.Н.Шевякова (Современная французская проза рубежа веков: модификация романной формы, 2009, докторская диссертация).
Подлинным памятником переходной эпохи в отечественном литературоведении стал том, опубликованный ИМЛИ им.А.М.Горького в 1995 году. Составленный из трудов литературоведов, представлявших различные поколения и школы, готовившийся в кризисный для страны и литературы период, стремящийся к преемственности с «Историей французской литературы», выходившей с 1946 по 1963 годы и в то же время – к открытости всему новому в мировом и отныне неподцензурном отечественном литературоведении, он даёт широкий, разноуровневый и глубокий обзор французской послевоенной литературы на богатом социокультурном и личностно-ориентированном (в Указателе имён – около 1200 персоналий!) фоне.
Новому Роману и близким новороманистам явлениям здесь посвящён целый ряд статей таких исследователей, как А.Ф.Строев (статья о «новом романе», статьи о Роб-Грийе, Саррот, Бюторе), Л.А.Зонина (статья о Симоне), Н.Ф.Ржевская (статья о литературе 60-годов «Общая панорама», статья о Дюрас), С.Н.Зенкин (статьи о Бланшо и Барте). Здесь высказываются гораздо более взвешенные и близкие к реальной поэтике Нового Романа идеи и мнения, творчество новороманистов рассматривается непредвзято и достаточно подробно и системно. Основную тяжесть изучения Нового Романа в коллективе авторов на себя принял А.Ф.Строев.
Принципиально иной подход к обобщающему изучению Нового Романа становится возможен именно ввиду относительной слабоизученности этого течения не только в нашей стране, но и во Франции, где совсем недавно был снят негласный запрет на диссертационное изучение произведений пока живых авторов. Эта свобода в выборе направления, скорости, уровней, оптики для исследования была использована в данной работе для реализации всех трёх принципов научного познания: детерминизма (предшествующее влияет на последующее), соответствия (новое должно на своих границах коррелироваться с устоявшимся) и дополнительности (т.е. восприятия противоречий как возможности объёмно взглянуть на явление или проблему, сознательное использование в исследовании взаимоисключающих методов, уровней, групп феноменов, сфер приложения).
Доказательству концепции нашего исследования должна способствовать следующая гипотеза.
Гипотеза нашего исследования. Мы исходили из предположения о возможности комплексного изучения поэтики Нового Романа и её эволюции, при условии, что удастся
- выработать алгоритм изучения Нового Романа как разнонаправленного противоречивого целого и анализа поэтики и письма каждого отдельно взятого новороманиста и его произведений;
- очертить и выработать соответствующий понятийный и терминологический аппарат, необходимый для рассмотрения теоретических и практических вопросов истории письма и теоретических воззрений новороманистов на всём протяжении полувековой эволюции Нового Романа;
- вписать Новый Роман в социокультурный контекст своего времени и изучить его взаимодействие с основными социальными, культурными, политическими движениями второй половины ХХ века;
- всесторонне рассмотреть важнейшие особенности поэтики Нового Романа в их связи с литературной ситуацией второй половины ХХ века и с историей и теорией литературы;
- систематизировать материал по тематико-структурному анализу поэтики Нового Романа и затем представить его в виде поддающейся статистической обработке и объективной проверке систематической таблицы лейтмотивов Нового Романа, использованной затем для формулирования выводов из работы;
- дать краткий, но репрезентативный очерк истории Нового Романа как течения и эволюции творчества его главных представителей;
- достаточно полно очертить и изучить персональный круг тех, кого в разное время и по разным причинам причисляли к новороманистам;
- воссоздать контекст возникновения Нового Романа и выработки основ его поэтики в теоретических работах самих писателей и под влиянием современной им журнальной и университетской критики или в полемике с ними;
- доказать, что в романах конца 1950-х – начала 1960-х годов уже содержатся в более или менее окончательном и развитом виде все лейтмотивы поэтики Нового Романа;
Концепция нашей работы, сформулированная на основе вышеизложенной гипотезы, может быть представлена в виде тезисов:
1.Комплексное изучение поэтики Нового Романа в принципе возможно, несмотря на целый ряд субъективных и объективных трудностей, главные из которых следующие:
- отказ практически всех (за исключением А.Роб-Грийе) включаемых в разное время и на разных основаниях в группу Нового Романа авторов признать свою к ней принадлежность и сам факт её существования;
- изначальная и ставшая принципиальной конфликтность теоретических воззрений новороманистов и их художественной практики, приводившая к изыманию их из общекультурного и литературного контекста и отказу от простейшего и древнейшего метода познания истины – через сравнение. Лишь сами писатели определяли, с кем их можно сопоставлять, и этот «круг дозволенных сравнений» оставался до 1990-х годов крайне узким и субъективно-тенденциозным;
- специфическое отношение новороманистов к теоретическому осмыслению их творчества: сами предаваясь время от времени теоретико-критическим упражнениям, они ревниво и пристально следили за исследованием литературоведами их поэтики и письма;
- насторожённое, сложившееся на фоне непонимания и искажённого понимания их книг в начальный период существования группы, отношение к текущей журнальной критике, от которой в значительной степени зависит коммерческая судьба книг;
- протеизм и непрестанная эволюция, причём нередко в форме качественных рывков и разрывов, поэтики и письма каждого новороманиста, приводившая к значительным, часто и многим представлявшимся непреодолимыми, трудностям в осмыслении их как развивающегося целого;
- разнообразие и обилие текстов, созданных новороманистами за пятьдесят лет в различных жанрах, вне их и на их стыке, использование техники и опыта других видов искусства, вплоть до архаических и ритуальных, попытка опереться на достижения точных наук, а также выбор самой крупной прозаической формы, романа, для самореализации, усложняющие осмысление поэтики Нового Романа как целого, потребовали во многом аналогичных изменений и в исследовательских дискурсе и методах.
2.Для преодоления многочисленных и разнообразных трудностей было предпринято соединение диахронического и синхронического подходов, воссоздание эволюции поэтики и письма Нового Романа на широком историко-культурном фоне и детальный текстуальный микро- и макроскопический анализ избранных текстов, изучение особенностей отдельно взятых конкретных произведений и динамическое прочтение их моделей в виде «рамок».
3.Всё вышеприведённое привело к выработке соответствующих методов и к поиску путей решения заявленной проблемы, основные из которых следующие:
- выбор между прескриптивными и дескриптивными методами в пользу последних, ориентация на проблемность, гипотетичность, многовариантность, динамизм, гибкость в подходах и формулировках;
- вычленение принципиальных феноменов, процессов, уровней анализа и сужение «операционного поля» нашего исследования для создания некоей модели Нового Романа, что призвано позволить вписать его в социокультурный контекст своей эпохи;
- попытка формулирования и систематизации важнейших особенностей поэтики и письма Нового Романа;
- ограничение хронологических рамок нашего исследования первым десятилетием существования Нового Романа (а точнее – концом 50-х – началом 60-х годов) и сведение изучаемых романов к одному-двум от каждого новороманиста);
- привлечение данных других искусств, способных по-новому осветить проблематику и поэтику Нового Романа;
- формирование и выбор как базовой структурной единицы анализа «пороговых структур» или «рамок» избранных романов как ёмкой и репрезентативной модели текста в целом;
- опробование выработанного научного инструментария в форме «микрочтений» моделей шести произведений новороманистов.
Такие направленность, характер и последовательность действий сделали возможным системное, комплексное, плодотворное изучение поэтики Нового Романа.
Материалом для диссертации стали произведения новороманистов 1950-х – 1960-х годов. Большое место занимает рассмотрение разнообразных событий, феноменов, суждений, связанных с деятельностью предшественников и современников Нового Романа, повлиявших – явно или латентно – на их творчество.
Цели работы:
1.Моделирование обстановки возникновения Нового Романа во второй половине 1950-х годов, выяснение особенностей начального этапа формирования поэтики и письма каждого новороманиста.
2.Рассмотрение важнейших особенностей поэтики Нового Романа на фоне и в связи с общелитературными процессами своего времени.
3.Попытка построения целостной системы основных особенностей поэтики Нового Романа и апробация полученной системы при анализе «пороговых структур» отдельных романов.
Задачи исследования:
1.Показать принципиальную возможность систематизации и комплексного изучения поэтики Нового Романа.
2.Обосновать правомерность разноуровневого изучения Нового Романа, объединяющего диахронический и синхронический, теоретический и историко-литературный подходы, обобщённый и детальный анализ отдельного текста и творчества писателя вообще.
3.Привлечь максимально широкий круг разнородных феноменов и материалов: политико-идеологических, эстетических, психологических, социокультурных, философских, исторических, биографических и установить между всеми ними отношения, стремящиеся к воссозданию, для последующего изучения, действующей модели Нового Романа.
4.Выявить специфику новороманного письма, объединяющего в себе особенности традиционного и авангардистского текста, структурированность и алеатуарность, жёсткие принципы квазиматематического построения и свободный динамизм почти органического, ризомоподобного разворачивания, демонстративный аналитизм и зачастую скрытый синтетизм, изощрённый формализм и внимание к сущностной стороне.
5.Проанализировать основные тенденции эволюции поэтики Нового Романа и письма его основных представителей в их противоречивой сложности и динамике.
6.Раскрыть специфические черты поэтики Нового Романа в их связи и в контексте предшествующих и современных ему литературы и литературоведения.
7.Обосновать выработанные методику и методология и апробировать их практические возможности и научно-исследовательский потенциал.
8.Доказать валидность и репрезентативность «рамок» как модели всего текста на примере одного из произведений Нового Романа.
9.Доказать валидность и репрезентативность полученной таблицы лейтмотивов Нового Романа на материале десяти романов, давших основной материал для исследования.
Методология работы. В основе диссертации лежит понимание поэтики Нового Романа как противоречивого, динамичного, разнонаправленного и разноуровневого целого. Для адекватных понимания, систематизации, моделирования и интерпретации поэтики Нового Романа как целого выдвигается гипотеза об эксцентричности художественного текста и возможности его динамического анализа на материале текстуальной модели произведения – его «рамок». В этом мы опирались на суждения и практические примеры подобного анализа, почерпнутые у Ю.Тынянова, Б.Эйхенбаума, Ц.Тодорова, Р.Барта, Ж.Женетта, В.Руднева. В установлении хронологии эволюции Нового Романа были использованы результаты Р.Альмана. На сам принцип пристального прочтения в значительной степени повлиял опыт анализа «структуры художественного текста» Ю.Лотмана. В общетеоретическом плане для нас был важен опыт работ 1920-х – 1930-х годов В.Шкловского, Б.Томашевского, В.Проппа, А.Лосева. От чрезмерного увлечения теориями и подгонки под них художественных текстов нас удержало изучение собственных теоретических «опытов» новороманистов: в первую очередь А.Роб-Грийе, Н.Саррот, М.Бютора, но и не склонных к системному теоретизированию К.Симона, М.Дюрас и Р.Пенже.
Конкретная методика нашего исследования состоит в по возможности логичном, историчном, системном, динамическом изучении важнейших особенностей поэтики Нового Романа и последующем создании на этой основе поддающейся проверке модели новороманной поэтики в виде таблицы лейтмотивов для последующего её практического приложения к отдельным романам.
Теоретическое значение работы состоит в том, что это первый в отечественном литературоведении опыт системного историко-теоретического и междисциплинарного изучения поэтики Нового Романа в контексте мировой и французской культуры, произведённый с привлечением значительного фактического материала, на основе рассмотрения которого предпринята попытка создания научной гипотезы об эксцентричности художественного текста, апробированной затем при анализе конкретных текстов.
Научная новизна. Впервые в отечественной и зарубежной науке начаты систематические, на единой методологической основе, исследования новой предметной области – общей поэтики Нового Романа как динамично развивавшейся, диалектически противоречивой целокупности. В отечественный научный контекст впервые вводится целый ряд до сих пор непереведённых или малоизвестных текстов новороманистов, как художественных, так и теоретических (второе особенно важно для таких авторов, как Симон, Дюрас, Пенже). Впервые осуществлена систематизация основных особенностей поэтики Нового Романа и воссоздан в его принципиальных чертах биографический и творческий путь новороманистов. Предпринята попытка теоретического осмысления роли «рамок» в литературе и культуре и путей возможного использования полученных результатов. Впервые предложена методика комплексного анализа поэтики и письма автора и литературного направления на минимальном по объёму тексте «рамок» такой крупной прозаической формы, как роман.
Практическая значимость. Материалы диссертации могут использоваться для фундаментальных исследований, посвящённых истории и эволюции современной литературы, а также в теоретических трудах, посвящённых проблеме межкультурных коммуникаций. Полученные результаты могут быть использованы также в вузовских курсах истории и теории мировой литературы, культурологии, при разработке спецкурсов, учебных и учебно-методических пособий, посвящённых проблемам современного искусства, а также при проведении занятий по интерпретации и анализу текста.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1.Период второй половины 1950-х – первой половины 1960-х годов оптимально подходит для поисков и вычленения особенностей поэтики, общих для всех новороманистов, т.к. именно в это время они были вынуждены сплотиться для отстаивания позиций, важных для всех. В это время группа была наиболее многочисленной и репрезентативной, включая в себя даже К.Мориака, К.Олье и С.Беккета.
2.Именно в этот период достигла своего пика активность новороманистов по разъяснению и теоретизации важнейших особенностей их поэтики и письма. Борьба за читателя шла на фоне декларативных заявлений об отказе от Традиции и о разрыве с ней, что не подтверждалось реальной писательской практикой, во многом продолжавшей, пусть и в значительно переосмысленном виде, развитие жанровых, идейных, эстетических и формальных потенций традиционного романа.
3.Открытость всему новому, отказ от догматизма и внутригрупповой дисциплины, интерес ко всему бурно развивающемуся, борющемуся за место под солнцем, нонконформизм, полемичность, твёрдость в отстаивании своих идей и методов именно в это время достигли апогея, что делает изучение поэтики Нового Романа на базе этого периода ещё более трудным, но и более репрезентативным.
4.Создание действующей историко-теоретической модели Нового Романа, её описание, изучение в сопоставлении с её непосредственным социокультурным окружением и на материале конкретных произведений новороманистов – одна из основных задач нашего исследования.
5.Ни один из новороманистов не может претендовать на роль важнейшего автора и представителя теоретического потенциала всей группы. Поэтика Нового Романа – результат творческой деятельности всех новороманистов, рождавшаяся в диалектическом споре друг с другом и с десятками внешних – предшествующих и современных – феноменов, что делает принципиально важным комплексное изучение творчества новороманистов на самом широком историко-литературном фоне.
6.Для достаточно доказательной систематизации поэтики Нового Романа необходим понятийный аппарат и методологический инструментарий, которые соответствовали бы своему необычному по сути, подвижному до почти полного распыления, противоречивому и разнонаправленному предмету. При выработке этих аппарата и инструментария допустимо использование как достижений традиционного и авангардного литературоведения, так и самостоятельно исследователем сформулированных понятий и сконструированных инструментов, методов, концептов.
7.Несмотря на обилие именно в этот период созданных новороманистами (в первую очередь Саррот, Роб-Грийе и Бютором) литературоведческих манифестов не стоит преувеличивать их значения для формулирования на их основе положений поэтики Нового Романа – чем грешили многие французские и зарубежные (в том числе и отечественные) исследователи. Только при максимально полном учёте мнений всех новороманистов и при постоянной проверке получаемых результатов в приложении к реальным текстам можно приступить к формулированию общих положений поэтики Нового Романа.
8.Особого изучения заслуживают отношения новороманистов с Бартом и шире – с зарождающимися структурализмом и семиотикой. Не менее яркими и драматичными были и отношения новороманистов с такими исследователями текста, как Ж.Рикарду, Ж.Лакан и Л.Гольдман.
9.Взаимоотношения представителей Нового Романа с читателями – особая и принципиально важная проблема. Широко распространённое обвинение в презрении к читателю – одно из многих заблуждений, которое важно рассеять. Новороманисты терпеливо годами ждали своего читателя, декларативно отвергая всякий компромисс с читательско-издательскими требованиями, но в своей писательской практике неустанно возобновляя попытки улучшить и закрепить контакт с постепенно увеличивающейся «своей публикой», что также не могло не отразиться на формирующейся в эти годы поэтике Нового Романа.
10.Важнейшие особенности поэтики Нового Романа: роль и функции взгляда на нарративном и фикциональном уровнях новороманного текста; нарративная и фикциональная редупликация; имя персонажа как поле и отражение всех катаклизмов, потрясших роман в ХХ веке; мифологичность и мистерийность Нового Романа; оригинальная трактовка всех проблем, связанных с хронотопом и литературным описанием.
11.Несмотря на значительную долю субъективности и условности, присущих всякому структурально-тематическому систематизированию, опыт выделения лейтмотивов Нового Романа полезен и сам по себе, и для достижения целей нашего исследования.
12.Прочтение модели текста в форме «пороговых структур», основанное на гипотезе об эксцентричности художественного текста позволяет увидеть и изучить многие особенности письма и поэтики Нового Романа, выявив пребывавшие скрытыми характерные черты сходства и не менее важные различия между произведениями новороманистов. Такое прочтение текста в неразрывной амбивалентной динамике его отношений с поэтикой Нового Романа позволяет использовать потенциал как аналитических, так и синтетических литературоведческих подходов.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования апробированы в докладах на межвузовских и международных конференциях в Москве, Париже, Лозанне, Орехово-Зуеве, Электростали; изложены в публикациях, в том числе в двенадцати журналах, рекомендованных ВАК. Одновременно и в связи с подготовкой диссертации автор предпринял пять научных командировок во Францию и Швейцарию, опубликовал две монографии, провёл научное редактирование и написание комментариев к тому переводов произведений А.Роб-Грийе, подготовил перевод романа К.Симона «Трава» и подал заявку на его публикацию с его статьёй и комментариями в серии «Литературные памятники». Материал диссертации использован в курсах по истории зарубежной литературы и стилистики текста, прочитанных автором в Московском Государственном областном гуманитарном институте (Орехово-Зуево) и в Новом Гуманитарном институте (Электросталь) и в учебно-методических комплексах, составленных автором единолично или в соавторстве и опубликованных в МГОГИ.
Структура исследования – диссертация состоит из Введения, четырёх глав, Заключения, Библиографии и Приложения.
Во Введении излагаются теоретические и историколитературные основы исследования, кратко характеризуется контекст возникновения и бытования Нового Романа как литературного феномена и литературоведческой проблемы, делается обзор основной литературы и обосновывается структура и концепция диссертации.
В качестве основной цели выдвигается и обосновывается комплексное изучение поэтики Нового Романа на основе достаточно чётко очерченного периода его эволюции – времени его становления во второй половине 1950-х и начале 1960-х годов и на материале произведений, созданных в эти годы. Здесь же очерчивается проблематика, связанная с изучением Нового Романа в СССР и России и перечисляются основные причины относительно слабой изученности этого течения в нашей стране, а также выдвигаются гипотеза, концепция, цели и задачи всей работы и характеризуются методология и методика проведённого исследования.
В Первой главе Новый Роман рассматривается как проблема истории и теории литературы. В первом разделе выдвигается и обосновывается предположение о плодотворности избранного для изучения периода существования Нового Романа для выявления и систематизации некоей общей, так или иначе разделяемой всеми писателями, поэтики. Романы Алена Роб-Грийе «Ревность»(1957) и «В лабиринте» (1959), Натали Саррот «Планетарий» (1959) и «Золотые плоды» (1963), Мишеля Бютора «Распределение времени» (1956) и «Изменение» (1957), Маргерит Дюрас «Модерато кантабиле»(1957), Клода Симона «Ветер» (1957) и «Трава» (1958), Робера Пенже «Сынок» (1959), Клода Олье «Мизансцена» (1958) хотя бы по названиям известны всем, кто интересуется современной французской литературой. Они продолжают оставаться в поле зрения критики, появляются всё новые их анализы и интерпретации.
Во втором разделе делается обзор различных вариантов периодизации истории Нового Романа и характеризуются важнейшие особенности всех основных периодов.
1950-1954: приход в издательство «Минюи» Беккета, потом Роб-Грийе и затем Бютора.
1955-1957: бурная деятельность Роб-Грийе в лоне «Минюи» и на внешнем фронте по рекламе новой литературной группы.
1956-1958: историческая встреча Роб-Грийе и Саррот в замке Йо, присоединение к группе Симона и Дюрас, выход на критическую и литературную авансцену.
1959-1970: канонизация нового литературного течения напрямую связана с историческими фото 1959 года, запечатлевшими новороманистов у издательства «Минюи». В эти годы участники группы пишут многочисленные и разнообразные произведения, выходят на международную сцену, начинают активно переводиться и изучаться в университетах всего мира.
1971-1982: коллоквиумы в Серизи-Ля-Саль, посвященные как теоретическому осмыслению поэтики Нового Романа, так и интерпретированию конкретных произведений отдельных новороманистов. В 1982 году Роб-Грийе, Саррот и Симон поставили отказ от приглашения Рикарду главным условием своего участия в коллоквиуме в Нью-Йоркском Университете, который лишний раз подтвердил непримиримо центробежные тенденции новороманистов.
1983-2001: почти все новороманисты начали публиковать откровенно автобиографические тексты и окончательно разошлись в разные стороны.
Очевидно, что вопрос об общей поэтике Нового Романа – один из самых сложных и едва ли разрешимых окончательно и однозначно в принципе, что не отменяет возможности и необходимости попыток его разрешения. Но положение становится ещё более запутанным и неясным, если мы пытаемся говорить об эволюции столь аморфного и принципиально неструктурируемого феномена как Новый Роман. В проблеме Нового Романа как течения мы имеем дело с неким композитным, синкретическим феноменом, с одной стороны весьма и весьма умозрительным, абстрактным, искусно сконструированным; с другой стороны, пытаться начисто отвергать, как это делали почти все – за понятным исключением Роб-Грийе – новороманисты, существование Нового Романа как течения – тоже неверно.
Думается, что в нашем сложном положении единственно верным решением будет понимать под «эволюцией Нового Романа» эволюцию взаимоотношений каждого отдельно взятого новороманиста с тем сложным комплексом читательских ожиданий, теоретических и исторических предпосылок и следствий, личных приязней и неприятия, который так удачно был назван Новым Романом. Причём нам такой ракурс интерпретации проблемы не кажется некоей уступкой всем вовлечённым сторонам: отечественной традиции членения литературного потока на школы и направления, атомарному феноменологическому подходу, присущему практически всему французскому литературоведению, индивидуалистическому нигилизму самих новороманистов, категоричным или эластичным обобщениям Рикарду или Роб-Грийе. Доля компромисса в подобном ракурсе не больше, чем в любом другом структурировании, основывающемся на диалектическом, динамическом факторе. Именно этот фактор призван позволить воссоздать – во всей её сложности и в то же время достаточно схематично – действующую историко-теоретическую модель Нового Романа, что и является сверхзадачей данного исследования. В заключение раздела разбираются отношения каждого новороманиста с этой историко-теоретической моделью.
Третий раздел первой главы посвящён рассмотрению проблем, связанных с использованием в отношении Нового Романа различных терминов и понятий, которые условно разделяются на три группы: авангардные термины и определения, традиционные термины и собственные определения. Здесь же обосновывается необходимость такого многоуровневого решения терминологической проблемы, и рассматриваются важнейшие из использованных в работе терминов и понятий: бриколаж, осмос, Новый Роман, интертекстуальность, письмо, прочтение, микрочтения, мыслесказ, рикардизм, гипотипоз, экфрасис, направление, школа, течение.
В центре четвёртого раздела – теоретические труды и статьи самих новороманистов, содержащиеся как в интервью и публичных выступлениях, так и в виде целостной системы взглядов, в частности – в книге эссе Н.Саррот «Эра сомнения» (1956), А.Роб-Грийе «За новый роман» (1963), М.Бютора «Эссе о романе» (1969). Далее подробно разбираются особенности парадоксального, на первый взгляд, теоретизирования Роб-Грийе и причины, породившие его, а затем анализируются взаимовлияния новороманистов с Рикарду (на примере его «теории генераторов»), с Р.Бартом (на примере его книги «Мифологии» (1957)) и с Л.Гольдманом.
Пятый раздел рассматривает взаимоотношения новороманистов и их читателей, особенно важные в начале их творческого пути. Именно на этом уровне особенно хорошо видна парадоксальная особенность Нового Романа: громогласное отторжение Традиции и глубинное, порой, возможно, скрытое и от самих писателей её изучение, диалог с ней.
Шестой раздел посвящён изучению того, какие функции исполняли и какое место занимали в эволюции поэтики Нового Романа и письма каждого отдельного новороманиста такие понятия как взгляд, зеркало, спираль и важнейший стилистический и композиционный приём – зеркальная конструкция (mise en abyme). Так, по мнению Симона, наименее неудачное наименование для их течения – «школа взгляда».
Именно взгляд на предмет и шире – на объективную реальность – стал некоей связующей инстанцией, переходным модулем между искусством и действительностью в следующем высказывании 1969 года Н.Саррот по поводу приписываемых письму Роб-Грийе и её собственному пресловутых «объективности» и «шозизма»: «/…/ у него речь идёт скорее о человеке, движимом одной страстью, подлинном мономане, видящем всё мироздание через деформирующую призму этой страсти. Нет никакой возможности увидеть хоть что бы то ни было объективно. И человек здесь вовсе не вытеснен предметами. И у меня человек постоянно доминирует, а предметы оказываются только инструментом, которым человек пользуется для выражения своих страхов или их маскировки. Предмет ничто без человека, который смотрит на него и использует его в своих целях (курсив мой – АВ)».
Значительна, причём на самых различных уровнях текста, роль зеркальной конструкции в Новом Романе. Вспомнив замечание Р.Якобсона о глубинно метонимическом характере прозы и метафорическом – поэзии, следует уточнить, что, будучи несомненно верным для традиционного типа повествования с его логическим разворачиванием причинно-следственно обусловленных событий, оно представляется небесспорным для того типа прозы, который представляет Новый Роман и в основе которого лежит такой имманентно метафорический феномен как mise en abyme, превращающий произведение в гибридную форму – между прозой и поэзией. В основу поэтики если не всех, то очень многих новых романов, легла спираль, став и источником и средством для мощной синтезирующей работы по вос-созданию структуры и композиции произведения. Именно так – на уровне формы, структуры, композиции – новороманисты понимали синтез. Их интерес к композиционной, структуральной стороне письма совпал, а во многом был порождён, взлётом структурализма.
Седьмой раздел первой главы посвящён разбору таких принципиальных проблем как эволюция понятия персонажа в Новом Романе, что прослеживается на специфической трактовке новороманистами имени персонажа и самого акта его имянаречения. Имя героя стало в Новом Романе одним из основных генераторов порождения и разворачивания текста, важнейшей деталью той текстуальной машины, которой оказывается всякий новый роман.
Механицизм, взаимозаменяемость многих героев новых романов, маска вместо лица, отказ от антропоморфизма в философском плане и целостности в описании человека (например: «его голова поворачивается» вместо «он поворачивает голову») – всё это проявления того же недоверия к самодовольной позитивистской цивилизации XIX века, потерпевшей поражение в реальности ХХ века, но не желающей сдавать позиции в умах людей. И опять хочется подчеркнуть имманентное стремление Нового Романа не только к анализу, разъятию на части безнадёжно испорченного механизма традиционных мировосприятия и романа, о чём было много написано, но и к синтезу. Будучи одержимы не только демоном аналогии, но и демоном композиции, структуры, формы – определённых и продуманных при всей кажущейся хаотичности, открытости, незавершённости их текстов – новороманисты не могли не придавать огромное значение вос-созданию, моделированию действительности в своих книгах.
Чисто новороманным (и их специфическим образом найденным – технический приём, ставший одной из основ поэтики) методом стало использование «оживающих картин», множество примеров которого можно обнаружить чуть ли не у каждого новороманиста. Хрестоматийные примеры: гравюра «Поражение под Райхенфельсом» из «В лабиринте» Роб-Грийе, фото «В мастерской художника» из «Истории» Симона, фото свадьбы из «Планетария» Саррот, «книга в дорогу» из «Изменения» или витражи, картины и фильмы из «Распределения времени» Бютора, топографическая карта с белым пятном в середине из «Мизансцены» Олье.
Восьмой раздел посвящён рассмотрению проблемы мифологического в поэтике Нового Романа в контексте синкретической неомифологичности, широко распространённой в искусстве ХХ века. Возможно, именно этот синкретизм на уровне структуры, композиции и в конечном итоге – мировосприятия – привлёк к неомифологической поэтике и новороманистов. Восприятие мира как мифа – древнего, циклически и вечно повторяющегося или нового, «авторского», создаваемого из обрывков чужих миров-мифов-текстов (отсюда – один шаг до интертекстуальности) – ещё одна яркая особенность Нового Романа. Неудивительно, что персонажи (повествователи? авторы?), уставшие от мира манекенов, комиксов, девушек с обложки и пр. ищут спасения не в бегстве от, а в погружении в. Особенно яркий характер подобная мифологизация приобрела у Роб-Грийе, но и другие новороманисты активно создавали из подручного материала свою собственную мифологию, вырабатывая свои собственные законы этой космогонической работы или используя те, что присущи используемой мифологии.
С мифологичностью связаны и мистерийность, и загадочность, сыгравшие значительную роль в поэтике Нового Романа. Вот как об этом пишет А.Ф.Строев: «"Новый роман" моделирует непредсказуемую действительность, где происшествия и случайны, и закономерны за счёт внесения в современный мир той архаической логики (хотя так ли уж она архаична? – АВ), той системы представлений, что сохранялась ещё в средние века. Мир предстаёт как система подобий, где люди, вещи, идеи, поступки связаны не причинными, а символическими, метафорическими связями. Поскольку в «новом» и новейшем романах все события пропущены через подсознание, то здесь, как во сне, действует принцип ассоциаций, сопряжения далёких понятий. При этом сюжетный хаос упорядочивается за счёт жёсткой композиции, использования симметричных структур, повествовательных форм чужих жанров (трагедии, детектива), введения лейтмотивов-скреп».
Загадочность, таинственность присущи и метафоре как таковой. Представляется безусловно верным ставшее уже классическим замечание Б.Томашевского о том, что загадка – это всегда сокращённая, зашифрованная метафора. Сама метафора, в свою очередь, это всегда некая криптограмма, более или менее легко расшифровываемая. Будучи не всем новороманистам близка своей образной стороной, метафора влечёт их всех своей криптографичностью, иероглифической таинственной мощью, зримой непостижимостью. Явно мистерийны «Между жизнью и смертью» Саррот, внешне незатейливый «Сынок» Пенже, «Изменение» и «Распределение времени» Бютора, едва ли не весь Симон, «Модерато кантабиле» Дюрас, перемежающая и на нарративном и на фикциональном уровнях кататоническое ритуальное оцепенение с не менее культовыми судорожными конвульсиями и судорогами. Особый вариант мистического находит Роб-Грийе. Не случайно как раз эта сторона его книг– таинство пустоты, метафизика конкретного, аллегоризм там, где он вроде немыслим – составляют фирменный, неповторимый знак поэтики Роб-Грийе. Композиция вокруг таинственной дыры, пустоты, притягивающей и вызывающей ужас, не редка в Новом Романе.
В центре девятого раздела – проблемы хронотопа в Новом Романе. Вначале делается и подкрепляется примерами вывод о присущем критике в этом, как и во многих других вопросах, «грийецентризме», то есть выведении неких общих для всех авторов положений в отношении хронотопа из творчества А.Роб-Грийе. Мир Роб-Грийе в хронотопе Нового Романа – это, конечно, его витрина: яркая, непохожая на окружающее, анализируемая и структурируемая с обманчивой лёгкостью. Но это – не весь хронотоп Нового Романа, которому, как и многим другим особенностям нашей школы присущи многоликость, подвижность, изменчивость, упускаемые из виду (или игнорируемые) многими писавшими о новороманистах, поэтике и проблематике их произведений.
В мире, где кардинально изменились все три его важнейших компонента (объект, находящийся в состоянии покоя или движения во временно-пространственном континууме) не может не измениться и характер движения. Если раньше – при традиционном способе передвижения – на лошади или пешком – мир в своём пространственно-временном объёме разворачивался перед передвигающимся по нему объектом, то теперь – при полёте на самолёте, например – он съёживается, стремительно теряя свои протяжённость, глубину, временную необратимость (при полёте на восток). В плане fiction новый роман, как правило, структурируется вокруг некоего стержня, часто фиксированного в пространстве, обрастающего гипотетическими, фантасти-(фантазмати)ческими ответвлениями: дом и веранда в «Ревности»Роб-Грийе, дом и поле в «Траве» Симона, два собора в «Распределении времени» и купе в «Изменении» Бютора, гора в «Мизансцене» Олье, пятикомнатная квартира тёти Берты в «Планетарии» Саррот, местность «между Фантуан и Агапой» - вымышленная романдская Йокнапатофа Пенже, где происходит действие практически всех его произведений. Действие, точнее – движение письма – происходит (разворачивается, толчётся, топчется, судорожно дёргается на привязи, ветвится) вокруг этого стержня.
Интересно, что свою главную в Новом Романе функцию – подрыв времени (линейного, необратимого, антропоморфного) – движение выполняет не только через максимальное замедление, оцепенение, почти переход в состояние, но и через максимальное ускорение, ускоренное вращение, многократное повторение, что встречается едва ли не в каждом новом романе. Уничтожение, отмена традиционного хронотопа лишь на первых порах была – если вообще была – целью новороманистов, очень быстро самой логикой своего письма приведённых к необходимости переноса понятия хронотопа – как и многих других – с уровня fiction на уровень narration. Целью их письма, о чём они неоднократно заявляли, стало вос-создание реальности текста как единственно существующей.
Соответственно, проблемой десятого раздела стало движение в Новом Романе и то, как оно преломляется – одновременно трансформируя и его – в важнейшем уровне новороманного текста – в описании. Раздел начинается с разбора понятий гипотипоза и экфрасиса – тщательно и разносторонне разработанных в традиционной риторике, но вернувшимися на авансцену литературоведения именно в связи с Новым Романом. Этот анализ продолжается затем с обращением к воззрениям как учёных современности (Рикарду,Бакри, Шервинский), так и прошлого (Лессинг, Поп), выработанным на материале описаний Гомера и Вергилия.
В заключение делается вывод, что Гомер в своём описании использует не столько приёмы будущей живописи, сколько такой потенциал описательных технологий, который значительно шире и глубже любого уровня репрезентации, достигнутого в каждый отдельно взятый момент. Лессинг интерпретирует гомеровское описание с высоты (но и на уровне!) достижений и открытий живописи и скульптуры своего времени, в ХХ веке говорили бы о кинематографичности Гомера, а в XXI веке к ним подойдут, вероятно, с компьютерными 3-D технологиями.
Заключительный, одиннадцатый, раздел первой главы посвящён принципиальной важности для всей работы, обоснованию возможности и рассмотрению принципов выделения лейтмотивов поэтики Нового Романа и их последующей систематизации. Всего выделяется пятьдесят лейтмотивов, которые затем сводятся к ключевым словам или словосочетаниям, что делает выработанную таблицу достаточно компактной и пригодной для дальнейшего использования.
Вторая глава посвящена изучению т.н. «пороговых структур» текста (названию, эпиграфу, посвящению, начальному (инципиту) и заключительному (эксплицит) периодам текста).
В центре первого раздела второй главы – соотношение механического и органического в тексте. Предпринимается попытка показать и доказать, что те же два подхода (условно говоря – механистический и интуитивно-органический) можно выделить и в литературоведении. Выдвигается тезис о том, что два этих, на взгляд многих, взаимоисключающих подхода, могут быть использованы на основе принципа дополнительности, что позволит использовать созидательный потенциал обоих. Как показательная попытка совмещения этих подходов на примере статьи о «русских формалистах» разбираются воззрения виднейшего французского культуролога Ц.Тодорова «постструктуралистского» периода.
Второй раздел излагает историю бытования и эволюции проблемы «пороговых структур» в литературе и литературоведении, а третий – прослеживает особенности проблемы рамок в искусстве вообще, в частности – в живописи, музыке, драматургии, от фресок Геркуланума до Дюшана, Пикабиа и Дали, от Аполлинера до Фуко, от Баха до Вагнера.
В четвёртом разделе формулируется и обосновывается гипотеза об эксцентричности художественного текста, ставится проблема центра и периферии текста, рассматривается проблема делимитации рамок текста и предлагается один из возможных путей её решения, анализируются особенности пороговых структур текста, принципиально отличающие их от любых других видов фрагментов или способов фрагментации того значительного по объёму жанра текста, к которому относится роман.
Прочтение текста через его рамки делает возможным динамическое соучастие в его создании. Но этому прочтению надо учиться – чутко, бережно, внимательно, не спеша и не делая резких и размашистых движений. Мало того, целый ряд очень ценных и сложных в количественном в первую очередь, но и в вытекающем из них качественном отношении выводов, может быть сделан и подтверждён только на материале таких микротекстов как рамочные, пороговые единства. Сама их краткость парадоксально, но совершенно очевидно содержит в себе целостность Текста. Это не более или менее произвольно (и тенденциозно) выхваченный из как бы хаотического кружения Текста один из его атомов, как это нередко ощущается в подборке примеров хрестоматии. Это – сам текст, обладающий всеми необходимыми его атрибутами и особенностями.
Конечно, это не весь текст, более того – это вполне искусственно собранная модель текста, не существующая отдельно от него, незримыми и бесчисленными прожилочками связанная с ним. Но в этой зависимости от основного корпуса текста – залог жизнеспособности рамок. Именно в ней они черпают свою удивительную свободу. Подлинную, не сымитированную, а ту же самую свободу, что движет всем текстом, заставляет его разворачивать ширь и глубь своих смыслов и образов. И здесь уместно опять напомнить о весьма ценной особенности рамок – их количественном минимализме, позволяющем сжать перечисление, сложение – до ёмкого умножения.
В заключение главы и раздела формулируются основные тезисы гипотезы об эксцентричности художественного текста, которые лягут в основу предпринимаемого в четвёртой главе анализа текстов отдельных произведений новороманистов.
Третья глава являет собой по необходимости краткое монографическое историко-биографическое описание основных особенностей поэтики и письма отдельно взятых новороманистов Алена Роб-Грийе (1922-2008), Натали Саррот (1900-1999), Мишеля Бютора (род.в 1926 г.), Маргерит Дюрас (1914-1996), Клода Симона (1913-2005) и их произведений конца 1950-х – начала 1960-х годов: романов «Ревность» (1957) и «В лабиринте» (1959), «Планетарий» (1959) и «Золотые плоды» (1964), «Распределение времени» (1956) и «Изменение» (1957), «Модерато кантабиле» (1958), «Ветер» (1957) и «Трава» (1958) соответственно. Это детальное, углублённое изучение творчества писателя в связи с его биографическими и личностными особенностями сводит в единое целое материал первой главы и подготавливает заключительную главу нашего исследования.
В разделе 3.1. произведения Роб-Грийе сопоставляются с произведениями предшественников и современников. Первым анализируется роман «Ревность», произведение по мнению многих пустое, полое, где с бледными тенями персонажей почти ничего не происходит. Читателю предстоит проделать путь Луизы из «Травы» Симона, пытающейся увидеть хоть что-нибудь в передаче ей Мари жестяной коробки из-под печенья, в которой нет ничего не то что символического, но и мало-мальски интересного. Привычные методы прочтения ничего не дают или дают очень мало. Загадочность, аллегоризм, значимость «Ревности» основываются в том числе и на постоянном отрицании и того, и другого, и третьего. Центростремительность, замкнутость на себя, столь характерные для метода Роб-Грийе вообще, проявились здесь с максимальной очевидностью.
Бальзаковской сочной истории с героями и перипетиями и социально-философским значением Роб-Грийе противопоставил элементарный, декларативно антиантропоморфный Текст без сюжета и персонажей, без начала и конца и с пустотой в центре – притягивающей, пугающей и порождающей всё новые варианты «развития» книги, в которой всё – обман, двусмысленность, отрицание догматичной окаменелости и однозначности. Двусмысленно уже название – объединяющее и ревность, и жалюзи: «Надо интерпретировать Ревность в обоих смыслах: вид оконной занавеси удобный для наблюдения и подглядывания; беспокоящая и безжалостная страсть, деформирующая объект наблюдения. /…/ Всё содержание романа – в этом слове, обозначающем одновременно объект и страстное чувство».
Самое эффектное нововведение «Ревности» – это, вероятно, повествователь-герой-взгляд. В отличие от бюторовского «Вы» из «Изменения», с первых слов книги накрывающего читателя непроницаемым колпаком «Ваших» реальности и сознания, втягивание читателя в мир «Ревности» происходит исподволь. Лишь постепенно читатель начинает понимать, что тот, чьим всё более искажающимся от ревнивых фантазмов взглядом он видит всё происходящее – и есть повествователь, главный герой, созерцающий и порождающий реальность текста. Читатель, проделавший вместе со взглядом значительную часть его блужданий по собственному дому и страдающему сознанию, оказывается готов в середине книги к восприятию знаменитой mise en abyme не только этого романа, но и всей поэтики Роб-Грийе – песни туземца.
«Из-за особенного характера подобных мелодий, трудно определить, прервалась ли мелодия случайно, например, в связи с той работой, которую в то же время делает поющий, или по причине естественного завершения. Так же, когда он снова запевает, это происходит с той же резкостью, той же внезапностью, на ноте, которая кажется совершенно неподходящей ни для начала, ни для возобновления песни. Зато в других местах, возникает ощущение конца, которое всё подтверждает: постепенное затихание, вновь воцарившийся покой, ощущение, что добавить уже нечего, но после ноты, казавшейся последней, идёт следующая, абсолютно без всякой последовательности, с той же непосредственностью, затем ещё одна и другие, и слушатель уже переносится в самую сердцевину поэмы…когда вдруг всё прекращается, без всякого предупреждения».
Второй роман Роб-Грийе, исследуемый в данном разделе – «В лабиринте». Хрестоматийным стал инципит «В лабиринте»: «Я один здесь, теперь, в надёжном укрытии. На улице идёт дождь, на улице идут (можно перевести как «идёшь» – АВ), втягивая голову под дождём, защищая глаза рукой и всё-таки глядя перед собой, на несколько метров перед собой, несколько метров сырого асфальта; на улице холодно, в чёрных голых ветвях дует ветер; ветер дует в листве, приводя целые ветви в волнение, в волнение, которое защищает его тень на побеленных стенах. На улице светит солнце, нет ни дерева, ни куста, которые могли бы дать тень, и идут (или «идёшь» – АВ) под палящим зноем, защищая глаза рукой и глядя перед собой, на несколько метров пыльного асфальта, где ветер рисует параллельные черты, разветвления, спирали. Сюда не проникнет ни солнце, ни ветер, ни дождь, ни пыль».
С первых же слов и строк автор даёт читателю понять, что предлагает новый способ чтения, когда желание понять (непобедимое и неутолимое) будет не просто извращаться и осмеиваться (как в «Ревности»), а активно использоваться автором в его игре с читателем. Комната, в которой сидит «я» и которая будет из себя порождать всю историю – это черепная коробка автора (читателя?), в лабиринтах которой предстоит искать, не находя и всё более запутываясь, выход, которого нет. Обращает внимание hic et nunc первых же слов и весьма характерное для Роб-Грийе, да и для других новороманистов с их равнодушием к дотекстуальной реальности, не преображённой усилием письма. Реальность (Текст) воссоздаётся и должна восприниматься читателем как лабиринт, где ни одно направление движения не является единственно верным и где всё правда, и всё неправда обо всём.
Раздел 3.2. посвящён в основном роману Саррот «Планетарий». Творчество Н.Саррот по известности вряд ли уступает А.Роб-Грийе. В задачи этой работы не входит подробный анализ её произведений. Наша цель – попробовать воссоздать ту питательную среду, в которой новороманисты пребывали в конце 50-х – начале 60-х годов. И наряду с Роб-Грийе и Бютором, Саррот определяла вкус этого bouillon de culture. Без сомнения, самым ярким её произведением 50-х гг. (а возможно – и вообще) стал роман «Планетарий». Безукоризненно гармоничное, на наш взгляд, сочетание традиционализма (на уровне fiction) и новаторства (в повествовательных приёмах) стало основой успеха этого её романа. «Планетарий», как и «Трава» Симона или «Ревность» Роб-Грийе – это сложный фикционально-нарративный комплекс, включающий в себя некую задачу, инструкции, приёмы и стимулы для её решения. Это как бы игра, начиная которую непосвящённый читатель ещё не знал её правил и целей, но по мере втягивания в неё разбирался в первых и начинал понимать вторые.
Во многих сценах «Планетария», как в капле воды, отражается весь спектр особенностей поэтики и письма Саррот. Например, композиционная mise en abyme в начале романа, когда главный герой, Ален, зазывает критикессу Лемэр и её гостей в мир тёти Берты, а по сути – автор приглашает читателя, втягивает его в планетариумное кружение своего мира и его, читателя, собственной психики: «Мы все закрыты здесь с ней, не так ли? Что-то влечёт нас вперёд по длинному и мрачному туннелю без выхода, мы бесконечно будем топтаться, запертые вместе с ней в этом мрачном и закрытом лабиринте и ходить по кругу… Но не бойтесь…Ведь вы понимаете, что это игра… Никто из нас ничем не рискует. Сердце сладко сжимается, хочется кричать, как на русских горках, когда вагончик спускается под общий смех… Мы такие сильные./…/ Там, снаружи – мир, наш мир, разнообразный, полный света и воздуха – ждёт нас… Мы такие свободные, такие гибкие… Мы можем веселиться и резвиться как нам заблагорассудится. Мы можем нырнуть очень глубоко, до самого дна: в наших тренированных лёгких достаточно свежего воздуха… Толчок ног – и мы будем на поверхности… Именно это я вам и предлагаю, стремительный набег, забавную экскурсию, восхитительное ощущение приключения, опасности, причём в любой момент вы сможете повернуть назад… Через мгновенье, если захотите, вы снова окажетесь дома, а она останется здесь, в этой слишком мелкой норе, которую она выкопала, чтобы прятаться – навсегда, топчась на месте, без конца кружась на одном месте».
Перед нами – и ощущение инициального посвящения, и вневременное развёрнутое сравнение, которое возникнув в невинных риторических целях – для иллюстрации мысли – разрастается, приобретает самодовлеющий, онирический характер; и активно метафорическое письмо, сближающее Саррот с Симоном, и тропизмы, и «неумеренно разросшееся настоящее» с присущими ему эластичностью и богатством значений в одной единственной форме и вытекающей отсюда неограниченной возможностью игры, которой пользовались с той или иной интенсивностью все новороманисты.
«Планетарий» – последняя книга Саррот, где наследие бальзаковского панорамно-психологически-авантюрного романа не столько огульно отвергается, сколько виртуозно переосмысливается и максимально используется, эксплуатируется даже. Нечто подобное происходило почти в то же время и с Симоном («Ветер»), и с Бютором («Распределение времени» и «Изменение»), Роб-Грийе («В лабиринте»), Пенже («Сынок»). Писатели как бы замирают на мгновенье на пороге подлинных изменений, глубинных трансформаций, готовясь переступить не только через Традицию, но и даже через те достаточно скромные с сегодняшней точки зрения новации, в неумеренном пристрастии к которым их обвиняла тогдашняя критика.
После выхода «Планетария», сделавшего Саррот почти классиком современной французской литературы, прошло долгих четыре года прежде, чем в апреле 1963 года появилось её новое произведение, роман о (в) романе «Золотые плоды», поразившее и критиков, и публику сплавом сразу узнаваемого сарротовского стиля (кишение тропизмов, бурление образов и снайперская точность слов, подбираемых твёрдой и спокойной рукой) и свифтовской фантасмагорией гиперболизированного, но оттого только более гиперреалистического группового портрета парижской окололитературной элиты – в духе «Контрапункта» Хаксли, но без каких бы то ни было «ключей» и прототипов.
Роман, по объёму уступающий «Планетарию» почти в два раза, состоит из четырнадцати сцен неравной длины, в которых анонимные голоса обсуждают – то внешне, то внутренне, то разрушая перегородку между словом и ощущением – произведение «Золотые плоды» некоего Брейе, оказывающееся не только главным, но и единственным «персонажем», судьба которого, по словам писательницы, выстраиваится в геометризированный сюжет в виде «сначала восходящей, потом нисходящей кривой».
Раздел 3.3. посвящён изучению самого известного и переиздаваемого романа М.Бютора «Изменение», самое знаменитое нововведение которого – использование формы второго лица множественного числа для рассказывания всей истории поездки парижского клерка в Рим и его внутренней трансформации во время этой «перемены мест». Вот как сам Бютор объяснял причины этого «Вы»: «Только из-за того, что есть кто-то, кому рассказывают свою (его) собственную историю, что-то о нём, чего он не (или хотя бы ещё не) знает на уровне языка – только благодаря этому может появиться повествование во втором лице (у Бютора – второму лицу – АВ) /…/. Так что, всякий раз, когда вздумается описать настоящий прогресс сознания, само рождение языка вообще или некоего языка, то наиболее эффективно будет сделать это во втором лице (у Бютора опять – второму лицу – АВ)». Как видим, Бютор не только на уровне идей, но даже и выбора слов ( la seconde personne – «второму лицу, кому-то ещё», вместо: la deuxime personne – «во втором лице») настаивает на открытой диалогичности своей беседы в кабинете психоаналитика «Изменения» между «Вами» и вами, читателем. Экстериоризируя себя в форме речи человек не только узнаёт о себе нечто новое, он – изменяется, становится иным, продолжая оставаться собой.
И однако в этом «вы» нет ни многовариантности симоновских «видимо, так:…, или так:…, а возможно вот так:…», ни психоаналитического нащупывания исподволь, как у Саррот, ни игровой взаимозаменяемости масок и историй, как у Роб-Грийе, ни самосотворения через ризому многоглаголания героев(-я) Пенже. Перед нами – «история, рассказанная в пути», наподобие «Крейцеровой сонаты» Толстого, с той разницей, что и слушатель, и рассказчик – один человек, страдающий от своей заброшенности в чуждый ему мир и постепенно понимающий, что никакого мира нет, как нет и пути, и двух жизней, взаимонезависимостью которых он упивался. Весь символизм двух столиц (цивилизаций, женщин, периодов жизни) – внешнее проявление внутреннего изменения, мучительного именно своей длительностью, протяжённостью, которой никакая «охота к перемене мест» не облегчит и не сократит. Мучительный дискомфорт бессонной ночи в неудобном купе – это терзания «внутреннего путешествия» в черепной коробке.
Чем ближе к концу, тем более ощутимо традиционным (несмотря на всю аллегорическую и повествовательную фантасмагорию) становится роман. Для правильного понимания философии романа важен фрагмент, где Вы рационально объясняете себе, зачем нужно было не только пережить это modification, но и понять его: чтобы вновь найти себе место в реальности. Вы, в отличие от многих новороманных героев, с упоением погружающихся в пучины раздвоений, отражений, подсознания, вымысла и пр. – вполне реалистичный и прагматичный человек. И вывод, который Вы делаете из всего пережитого за ночь, вполне разумный: Вашим способом обмана, ускользания от неумолимого времени, всю слепую силу которого Вы почувствовали на себе в ходе этой поездки, станет книга, которую Вы напишите:
«Надо будет попытаться /…/ заставить читателя самого пережить во время чтения этот решающий эпизод вашего приключения, то движение, которое произошло в вашем сознании одновременно с перемещением вашего тела с одного вокзала на другой через все эти промежуточные пейзажи, продвижение к этой будущей и необходимой вам книге, форму которой вы держите в руках.
Коридор пуст. Вы видите толпу на перроне. Вы выходите из купе».
Финальный абзац цитаты, являющийся одновременно последним в книге, циклически возвращает нас к началу книги – и не только содержанием (герой снова на вокзале), но и архитектоникой кратких, как удары пульса, фраз. Всё кончено, и всё только начинается. Прошли лишь сутки и целая жизнь. Всё повторяется, но это не круг, а спираль (столь дорогая всем новороманистам): всё то же самое, но слегка изменившееся. Замыкая метафору поездка-чтение (соответственно: персонаж-читатель, купе-сознание, изменение: планов и самовосприятия) автор как бы обращается к нам с посланием, не так уж отличным от традиционной литературной «посылки»: в ходе этого путешествия Вы (и вы, читатель) стали другим, главное modification – это то, что должно произойти в вас, вслед за Вами. Выше уже отмечалось, что единственно возможный, с точки зрения новороманистов, способ изменить мир – это изменить своё видение мира. Желание сделать это и показать, как это делается, лежит, на наш взгляд, в основе «Изменения».
Раздел 3.4. посвящён разбору романа М.Дюрас «Модерато кантабиле», пришедшей к Новому Роману из массовой литературы, автором нескольких не только опубликованных, но и имевших успех книг. В это время она (как, кстати, чуть позже и Роб-Грийе) числилась среди попутчиков экзистенциализма. Книга, на которой лежит наиболее отчётливая печать Нового Романа – «Модерато» – хотя и давшая начало новой манере, не очень похожа на остальных многочисленных «детей» Дюрас, но видимо этим и была дорога писательнице, всегда выделявшей её из ряда других своих автобиографических книг. Кстати, в этом постоянном кружении, притяжении-отталкивании от собственной биографии в творчестве Дюрас можно усмотреть аналогии с Симоном, Бютором и Роб-Грийе.
Простота и прозрачность этой книги – обманчивы. Обратясь к терминологии живописи, можно сказать, что Дюрас удалось соединить в этой книжке графическую технику с её чёткостью рисунка и акварельно-пастельные полутона и взаимоперетекающие формы. Отказ от рационального или какого-либо ещё объяснения мотивов поведения героев контрастирует с судорожным, синкопированным пульсированием событий, неожиданным чередованием затёртого и заурядного с трагическим и непоправимым. Недоговорённость, неопределённость сочетаются с предельно конкретным описанием. Демонстративный антипафосный настрой книги, как рельефная текстура холста картины, способствует выделению мелодраматической надрывности отношений героев.
Необычный стиль Дюрас сопоставляется в данном разделе со стилем Чехова, Хемингуэя, Ветхого Завета. Особое внимание уделяется анализу её как бы «вывихнутого» синтаксиса и сочетанию в её поэтики мелодраматичности и почти античной простоты. Сочетание несколько мелодраматического трагизма и строгой простоты, похоже, присуще поэтике Дюрас вообще. Сравнив книгу Дюрас с вышедшим практически одновременно «Ветром» Симона, можно заметить также, что, если трагизм «Ветра» своими корнями уходит в мелодраматическую трагедийность итальянской оперы и Монтес – хотя и пародийно сниженный, но трагический оперный герой, то «Модерато» – это трагифарс абсурда, разыгранный билетёршей и сторожем на сцене оперного театра в неубранных после спектакля роскошно-мелодраматических декорациях. И Анна Дебаред, и Шовен, оказались приварены друг к другу искрой произошедшего «почти на их глазах» убийства.
Как это нередко бывает в Новом Романе, мы не видим самой страсти, всех её перипетий, да и самого убийства тоже. Нашу роль, роль читателя, выполняют герои, пытаясь понять эту разрушительную страсть, и в результате переставая понимать друг друга и самих себя. Это история преступления, которого в ней нет, и страсти, теряющей всякие очертания и саморазрушающейся в ходе извилистых попыток восстановить её (видимая цель обоих героев) и найти друг в друге и в жизни, нечто, ради чего стоит жить и умирать (тайная цель Анны и Шовена). В зависимости от отношения к героям, сложившегося у читателя к концу книги, финальные реплики героев могут выглядеть отрывком из абсурдистской пьесы или приоткрывать завесу над непостижимой и влекущей тайной жизни и смерти.
Как и в древнем восточном цикле о Шахразаде и Шахрияре, персонажам Дюрас недостаточно быть рассказываемыми и даже – рассказывать самим: они прорываются в «реальную» жизнь (желая, на первый взгляд, отомстить женщине и уклониться от смерти, они на самом деле жаждут разрешения этого конфликта в любви и искусстве) – каждая ночь заканчивается утолением любовного и разжиганием читательского желания, результатом чего становится женитьба Шахрияра на матери его троих детей. Как видим, и здесь обоими героями двигал страх (страх оказаться правым в своём женоненавистничестве и страх неизбежной казни на заре), нашедший гармоничное и вполне сказочное разрешение – в отличие от того иррационального, архаического ужаса, который пожирает дюрасовского гермафродитического и амбивалентного палача/рассказчика – Шовена/Анну. Всё здесь неразрывно и подчас неразличимо переплетается и взаимно прорастает: влекущая жажда любви, любовь к рассказыванию, рассказывание о страхе, страх отталкивающей и влекущей смерти.
Критики давно заметили, что творчество Дюрас напоминает ровную плоскость воды – равномерную, гладкую, элементарную, непроницаемую, отражающую всякий намёк на глубину и объём. Но это – не недельная плёнка вешней воды на заливных лугах, а зеркало огромного водохранилища, которое с трудом удерживает ежеминутно готовая прорваться плотина письма. «Модерато кантабиле» – один из самых блестящих примеров этого динамического, до предела напряжённого в своей внешней элементарности равновесия.
В разделе 3.5. затрагивается средоточие многих принципиальных проблем поэтики Клода Симона (единственного Нобелевского лауреата среди новороманистов (1985) и, пожалуй, самого сложного из них) – понятие элементарного в его связи с символизмом. Оно присутствует в большинстве его книг, но впервые нашло гармоничное разрешение на всех нарративных и фикциональных уровнях именно в «Ветре» и в «Траве». Важность этой двуединой темы очевидна, и осмотическое слияние двух её компонентов – элементарного и символического – не только не приводит к их взаимной компенсации и умалению, но и порождает некий новый феномен, где каждый из двух полюсов черпает в другом энергию для собственного раскрытия.
Давно замечено, что самые мощные символы – самые простые. Щедрыми россыпями подобных символов полнится фольклор. Эта архетипическая, изначальная, магическая, элементарная простота, не имеющая ничего общего со схематизмом, в равной степени присуща религиозным и фольклорным предметам и обрядам и хепенингу вос-произведения (синкретического создания и потребления) артефакта. В поэтике Симона эта архетипическая связь символического и элементарного явственно ощутима на всех уровнях: от лексического до композиционного и тематического. В «Ветре» пласт первоэлементов впервые поднялся на (а в «Траве» – занял) самый верх фикционально-нарративной композиции симоновского романа, причём как раз в симбиозе с символизмом, и эта двуединая тема оплодотворяет весь текст: от первоэлементного названия до символической привилегии смерти в последних словах первой книги и умиротворяющего «ничего больше» – второй.
Универсум Симона можно интерпретировать как упорядоченный хаос дробных форм. В извечной человеческой борьбе с хаосом природы главный герой «Ветра» Монтес неосознанно пытается найти свой вариант и проходит весь цикл: от неподчинения Хаосу и уверенности в возможности его упорядочивания до попыток встроиться в него, соотнести себя с ним, завершающихся крахом и уползанием в свою берлогу. Подобный путь проходит и героиня «Травы» Луиза, до самого конца романа то колеблющаяся, то замирающая в нерешительности между природным прорастанием, разрастанием и колебанием луговой травы, в которой проходят её встречи с любовником, и принятием главного дара умирающей парализованной тётки мужа, которая завещала ей не только жестяную коробку с ничего не значащими на первый взгляд бумажками, но и пример выстаивания, чисто человеческого отказа смириться с неизбежной победой природного хаоса над человеческой культурой.
И здесь мы наталкиваемся на другую особенность поэтики Симона, эксплицитно впервые, кстати, проявившуюся именно в «Ветре». Это – вполне барочная идея embot, вдвинутости, вставленности, укрытости друг в друге различных уровней мировосприятия, и Монтес занимает в ней срединное место – как модель для другого персонажа по имени Морис и как попытка – бессознательная и безуспешная – подражания Ветру. Такое же срединное место по отношению к двум судьбам и предлагаемым моделям мирочувствования (что не только укладывается в бальзаковскую модель «романа антивоспитания», но и даёт её яркий образчик на новом витке её эволюции) в «Траве» занимает Луиза, к (и на) которой сходятся две других женских линии романа: смиренной, но несгибаемой в своём восприятии жизни как служения Мари, претерпевающей, по точному выражению её брата, жизнь, и свекрови Луизы Сабины, пытающейся затормозить свинцовый ход жизни, обмануть время, но в результате всё глубже вязнущей в трясине одиночества и алкоголизма.
Думается, что в симоновском Универсуме можно выделить некую символическую трилогию: Трилогию первоэлементов, которую открывает «Ветер» как первое появление лейтмотивов, развиваемых позже. Высшим раскрытием этой темы предстаёт «История» (1967). «Георгики» (1981) заново собирают и оркеструют все мотивы этой фуги, выстраивая её важнейший контрапункт: Земля и люди (Qui terre a guerre a.), Натура и Культура. «Ветер» же – не только вход в оригинальный симоновский мир, но и ввод, введение в разработку одной из важнейших проблем его поэтики – проблемы элементарного в её неразрывной связи с символическим и темой времени.
Четвёртая глава объединяет в себе раздел, подводящий теоретическую основу под используемые в нашем исследовании понятия «прочтения» и «микрочтений» (раздел 4.1.), разделы 4.2.-4.7., в которых предпринимается опыт «микрочтений» пороговых конструкций шести произведений новороманистов, раздел 4.8., где подводится итог всем количественным и качественным изысканиям, предпринятым в работе.
Раздел 4.1., отталкиваясь от девяти принципов «пристального прочтения» американского литературоведения, формулирует те, что сложились у нас текстуального материала для наших «рамок» и при их дальнейшем интерпретировании.
Во-первых, никаких общих и обязательных для всех текстов принципов отбора и композиции не было. С самого начала единственным ограничением нашей свободы было желание составить из материалов «большого текста» такую его модель в миниатюре, что будет способна дать представление не только о его «идейно-художественном своеобразии» или «лексико-стилистических особенностях», но и о том, что, по нашему убеждению, есть его важнейшая и неповторимо оригинальная характеристика – о имманентной ему фикциональной и нарративной динамике развития и бытования, сопровождая его в этом неудержимом движении нашими комментариями, показывающими и изучающими то, как текст прорастает и за свои рамки, и за свои эстетические, хронологические, жанровые и прочие пределы.
Во-вторых, решив добиться целостного воссоздания текста в миниатюре, мы никак не ограничивали себя в размерах «рамочных текстов». В результате их объём, потребовавшийся для появления у нас ощущения решённости этой задачи, оказался очень сильно разбросанным: если самые объёмные тексты (рамки «Модерато», «В лабиринте», «Золотых плодов») включают около 12,5-9,7 тысяч знаков, средние по объёму рамки «Ревности», «Планетария», «Сынка» и «Травы» от 7,9 до 5,3 тысяч знаков, то самые краткие («Распределение времени», «Ветер», «Изменение») – от 4,8 до 2,8 тысяч знаков, что более чем в четыре раза меньше, чем у самых объёмных.
Доверившись в определении объёма рамок интуитивному ощущению достаточности и необходимости и сложившемуся за годы изучения Нового Романа представлению о том, что заслуживает и что требует изучения и интерпретирования в его историко-теоретических судьбах, мы приступили к «прочтению» одних рамок за другими. Работа эта потребовала значительного напряжения и концентрации, заняла в конечном итоге столь большое и важное место в композиции всего исследования, что мы решили остановиться пока что на исследовании лишь половины из заявленных к описанию и интерпретации «пороговых структур» Нового Романа, добавив к ним на завершающем этапе открывающее эту главу прочтение текста – целого и всего – романа Дюрас.
Раздел 4.2. содержит в себе разбор романа М.Дюрас «Послеполуденный отдых г-на Андемаса» (1962). Он задумывался как феноменологическое приникание к тексту, сопровождение его в его пословном, построчном разворачивании-разрастании. Именно краткость этого текста, высокая концентрация в нём множества особенностей поэтики и письма как самой Дюрас, так и Нового Романа вообще, делают возможным предпринятое ниже кружение вокруг него и во время его кружения-разрастания, а также вплетение в его лёгкую, но прочную ткань своих собственных нитей. Кроме того, этому произведению, как никакому другому из разбираемых в нашей работе, присуща та амальгама механического и органического в функционировании и развитии текста, о которых выше говорилось как об одной из ярчайших особенностей Нового Романа.
Данный разбор, хотя и не основывается полностью на анализе «рамок» текста, тем не менее вполне логично открывает практическую часть нашей работы, посвящённую «пороговым структурам», поскольку техника, применённая в нём и рассчитанная на многократно увеличивающую оптику «микрочтений», смогла совместиться здесь, в силу вышеназванных особенностей самого произведения, с более общими литературоведческими разысканиями, далеко выходящими за пределы «рамок».
Затем в разделе подробно и всесторонне исследуются название повести, её эпиграф как матрица всего текста, выполняющая функции отсутствующего посвящения фамилия главного героя, жанровые особенности, прослеживаемые в подзаголовке. После чего анализируются особенности синтаксиса и композиции, извращения темы грамматических времён, а также, изолированно и в динамическом переплетении/разворачивании, основные генераторы текста. Отмечается, что подобные феномены поэтики и письма (текст как космогония себя самого) свойственны всем новороманистам, и даже их проявления не только поразительно сходны и однонаправлены, но и сроки проявления этих тенденций в их творчестве максимально сближены (конец 1950-х – начало 1960-х годов), что оказывается ещё одним аргументом в пользу нашего тезиса о сильнейшем и принципиальном взаимном влиянии новороманистов в этот период, когда они в многочисленных интервью делали всё, чтобы опровергнуть тезис о «школе», сходстве и пр.
Затем изучается роль фантазма у Дюрас и делается вывод, что подобные причинно-следственные связи между деформированным фантазмом мировосприятием и его внутренним свободно внерациональным бытием столь же ярки и часты в это время и у других новороманистов: дефект на оконном стекле в «Ревности» Роб-Грийе, искажающий «реальность» ещё на уровне разглядывания до её выворачивания наизнанку болезненно ревнивым сознанием героя; или же бесконечное послание бросившему дом сыну, внутри которого безысходно пребывает г-н Левер из «Сынка» Пенже, объективно существующей почвой прорастания которого являются многочисленные письма героя, которые он, раз написав, не отправляет, а складывает в папку. У Симона в «Ветре» и «Траве» «реальной» стартовой площадкой для самопорождения фантазма становятся фотографии и многолетние записи хозяйственных трат, у Бютора – репродукции картин, витражи, карты и документальные фильмы, у Саррот – «овальная дверь» и «Золотые плоды». Подобные детали – не только эстетические красоты конкретных текстов конца 50-х – начала 60-х годов, но и очередное доказательство глубинной связи Нового Романа с Традицией, которую можно сколь угодно долго и страстно отрицать, но которая от этого никуда не исчезнет.
Именно в это время – начало шестидесятых годов – новороманисты окончательно отказались от попыток (они, правда, позже отрицали сам факт подобных амбиций, но одна из целей данной работы – показать лукавство такой интерпретации эволюции Нового Романа и дать более правдоподобный её абрис) создания когерентного нарративно-фикционального комплекса. Показательно, что этот утаённый и дезавуированный опыт многим из них – неожиданно на первый взгляд, а в действительности совершенно закономерно – пригодился через двадцать-тридцать лет при их коллективном повороте к «новой биографии»: сарротово «Детство» (1983), дюрасов «Любовник» (1984), грийевские «Романески» (1984-1994), симоновские «Георгики» (1981) и «Приглашение» (1987), пенжевский «Господин Сонж» (1982), бюторовские «Импровизации на (темы) Мишеля Бютора» (1993).
Интересно отметить, что своеобразной чертой, тамбуром между различными модулями текста (вглядывание в пейзаж, вслушивание в себя, припоминание, фантазматическое воссоздание, попытки контактов и действий, планы и мечтания), переплетаемыми воедино через г-на Андемаса и его ожидание, исподволь – что скорее исключение для Дюрас – оказывается предощущение сначала, а затем – неумолимое нарастание ощущения погружения всего текста в трясину безумия, лишь сверху подёрнутого успокаивающей ряской слов, а в глубине – «исступлённо одержимого, гложимого чем-то одним» (последние слова эпиграфа).
Подобная оригинальная трактовка сползания в психоз как фикционального материала и как некоего нарративного шарнира, обеспечивающего непредсказуемое развитие всего текста не только на видимом, но и на глубинных (нарративном, символическом, суггестивном) уровнях, очень напоминает тот эксперимент, который чуть раньше проделал в «Ревности» единственный признаваемый Дюрас равным новороманист Роб-Грийе. У него тоже герой, пытающийся удержаться на скользком склоне своей маниакальной ревности, цепляется за разнообразные хронологические и топографические вехи, пытаясь зафиксировать себя (и повествование) в некоем хронотопе, что приводит и его, и весь текст к ещё более скорому и неостановимому обрушиванию в пасть безумия. Перед нами – очередной образчик выворачиваемого новороманистами наизнанку традиционного приёма, где нарративный кунштюк становится сильнейшим фактором фикционального разворачивания текста. Здесь же происходит обратное: фикциональный факт (ревность у Роб-Грийе, маниакальная любовь у Дюрас) на первый взгляд незаметно, а при перечитывании – практически сразу в лоб, переходит – и переводит читателя за собой – на нарративный уровень.
Сходный по целям и результатам синтез фикционального и нарративного уровней разворачивания текста можно изучать и на основе романов Симона «Ветер» (разрастающиеся изнутри друг друга матрёшки рассказов/показов героя-фотографа и бесконечные скобки т.н. «несущей фразы» и её ответвлений), Пенже «Сынок» (истончающаяся до исчезновения мембрана между письмописанием г-на Левера и разворачиванием/речеизвержением всего текста, оказывающегося затянутым в воронку маниакального сознания героя), обоих представленных здесь своими рамками бюторовских романов (два путешествия – внешнее и внутреннее в «Изменении» контрапунктически, на встречных курсах, проникающие одно в другое через «вы» и реконструкция (совершение?) преступления в хронотопе карты-дневника в «Распределении времени»), «Планетария» Саррот, где ткань текста сплетается из разнообразных подсознательных фобий героев и их словесных поединков под прикрытием пустой болтовни «о том о сём». Этот приём письма и поэтики вообще укладывается в сначала неосознанное самими новороманистами, но быстро ставшее сознательным актом, вытеснение сюжета как основы композиции и замену его чисто нарративными феноменами, произошедшее на грани 50-х-60-х годов.
Далее на примерах оформления писательницей прямой монологической и диалогической речи исследуются такие важнейшие черты её (и новороманной вообще) поэтики как осмос сказового и мыслесказового уровней, хемингуэевский «принцип айсберга», мотив страдания как важнейший генератор текста не только на фикциональном, но и на нарративном уровне, размывание границы между повествованием и описанием, лжесценичность её текстов. Необычный, хотя и вполне типичный для текста Дюрас вообще, характер диалога, его темп, содержание, композиция, резко увеличившийся по сравнению с первой главой объём становятся особенно очевидными во второй, заключительной, главе. Это изменение можно проследить различными способами и на различном материале. Мы сделаем это на таком достаточно компактном и ёмком шарнире текста, как пороговая предикативная группа реплики (ППГР). Под этим словосочетанием мы подразумеваем в первую очередь сказуемое авторского текста, которое предваряет, характеризует изнутри или завершает реплику персонажа (пресловутые «спросил-ответил», от которых избавлены драматурги, но на которые обречены прозаики), к которому добавим, для большей иллюстративности, уточняющее его обстоятельство, получив, таким образом, вполне объёмный, но минимальный по размерам, текст в тексте. После панорамного обзора изощрённых игр с ППГР, которым предаются все без исключения новороманисты, следует анализ того, как это делает Дюрас.
Разделы 4.3.-4.7., опираясь на весь объём материала, собранного и систематизированного в предыдущих глава и разделах исследования, фокусируются на углублённом изучении особенностей новороманного письма в конкретных рамках, взаимно переплетающихся и прорастающих, результатом чего должно стать появление виртуальной, динамичной, но вполне поддающейся объективному, качественному и количественному, изучению модели, матрицы Нового Романа, выработка которой и была основной целью нашего исследования.
Конструирование и выращивание этой модели происходит здесь в форме развёрнутых комментариев-примечаний к отдельным фрагментам рамок того или иного романа, количество и общий объём которых варьируются от романа к роману. Так, раздел 4.3. о «Ревности» занимает 15 страниц и содержит 18 комментариев, раздел 4.4. о «В лабиринте» - 19 страниц и 36 комментариев, раздел 4.5. о «Золотых плодах» - 22 страницы и 25 комментариев, раздел 4.6. о «Модерато кантабиле» - 20 страниц и 30 комментариев.
Особую роль призван сыграть занимающий 17 страниц раздел 4.7., посвящённый «Траве». Именно этот роман и его рамки были подвергнуты сплошному и разнонаправленному вычитыванию с использованием поисковых и аналитических возможностей компьютера с целью прочтения «Травы» через лексико-мотивный анализ её пороговых единств, а именно: названия, эпиграфа, инципита и эксплицита. На более общем уровне были изучены три основных потока этого романа, одновременно являющиеся и его лейтмотивами: мотив небытия, мотив всеобъемлющего, мотив репрезентации. Эти темы осмотически разрастаются на всех фикциональных и нарративных уровнях, образуя сложную ризому, пребывающую в постоянной динамике. В дополнение к рассмотрению и анализу важнейших и сложнейших особенностей симоновского письма на фоне и в контексте поэтики всего Нового Романа, этот раздел содержит материал для последнего раздела этой четвёртой главы.
Раздел 4.8. В заключение четвёртой главы даётся ответ на два принципиальных вопроса, сформулированных во Введении среди задач всего этого исследования. Во-первых, в какой мере правомочно утверждение о возможности выявления в романах новороманистов 1950-х годов бльшей части лейтмотивов всей их поэтики и письма, в том числе и тех, которые явно проявились в более поздний период эволюции Нового Романа. Во-вторых, насколько допустимо предположение, что «рамки» позволяют изучать в достаточно краткой, ёмкой и репрезентативной форме особенности поэтики и письма всего произведения, что станет и ответом на вопрос о том, насколько они состоятельны как жизнеспособная и действующая его модель.
Ответ на первый вопрос будет дан в результате анализа лейтмотивов Нового Романа, сформулированных в разделе 1.11. и сведённых в краткой форме в приведённую в разделе 4.8. таблицу 2. Для ответа на второй вопрос будут использованы статистические материалы изучения романа «Трава» Клода Симона из раздела 4.7., сведённые в таблицу 1. Выбор именно этих произведения и автора объясняется требованиями разумного соответствия между объёмом изучаемого материала и возможностями его достаточной доказательной (в рамках избранного уровня схематизирования поэтики и письма) презентации, а также тем, что это наиболее полно, глубоко и всесторонне изученный нами представитель Нового Романа.
Следует отметить, что наша таблица вряд ли отвечает строгим статистическим критериям. Во-первых, откровенно субъективны критерии отбора и формулирования пятидесяти включённых в неё лейтмотивов; хотя мы и стремились быть предельно непристрастными и держать во время их выработки перед мысленным взором максимально широкий диапазон в части персоналий, хронологии, произведений, критических тенденций, всё же на них лежит явная печать нашего личного опыта прочтения Нового Романа. Во-вторых, столь же уязвимы наши оценки наличия/отсутствия того или иного лейтмотива в том или ином произведении, неоднократно менявшиеся даже между составлением и компьютерным набором этой таблицы, так что у другого исследователя подобная классификация могла бы выглядеть совсем иначе.
И всё же эта и подобные ей таблицы могут находить некое прикладное (хотя бы дидактическое) применение, а также использоваться в полемических целях для уточнения, развития и даже отторжения содержащихся в них положений. Думается, важен и полезен сам факт создания обобщённой описательной (а не предписывающей) модели «Нового Романа вообще», позволяющей объединить в одно – пусть схематичное, но – целое многое из разбросанного по всему пространству нашей работы. Кроме того, очень многое в нашем исследовании не подкреплялось фактографическим материалом, но не в силу его дефицита, а как раз по причине его изобилия и нехватки места. В этих условиях представлялось принципиально важным завершить наше исследование неким обобщённым и сконденсированным компендиумом выработанных идей и полученных цифровых данных, должных подтвердить, уточнить или опровергнуть её теоретические, историко-литературные, культурологические и текстологические идеи, наблюдения и выводы.
Следует сразу сказать, что результаты оправдали наши ожидания, хотя и преподнесли некоторые сюрпризы. В попытке приближения к статистической чёткости разделим эти результаты на три уровня: лидеры, пелотон, аутсайдеры. Итак, бесспорными лидерами стали оба романа Роб-Грийе. Столь же неожиданно для нас третье место Симона и «Травы», хотя по размышлению и этот результат оказывается закономерным.
Симон, всегда пытавшийся обозначить свою отдельность, в то же время с не меньшей страстностью стремился к некоей тотальности, всеохватности, так раздражавшей его в Бальзаке и Толстом – раздражавшей, возможно, именно в силу глубинной связи и близости. Потребность в тотальности логично и закономерно приводила к взаимодействию не только с «авторизованными» предшественниками, влияние которых писатель признавал (Пруст, Фолкнер, Конрад, Достоевский, Чехов), но и с теми, чьё воздействие Симон категорически и многократно отказывался допустить – то есть остальными новороманистами, в свою очередь платившими ему и друг другу той же монетой, что не могло тогда и тем более не сможет теперь отменить или приуменьшить масштаб и глубину этого взаимного влияния, показ и разбор которого стал одной из важнейших структурных и проблемных основ нашего исследования. Объективным выражением этого взаимовлияния и стало третье место «Травы», оттеснившей от пьедестала и «Золотые плоды», и «Распределение времени», и «Ветер», и даже «Планетарий».
Что до «пелотона», в который мы включили четыре вышеназванных романа, то в их результатах стоит отметить и пояснить две, как минимум, особенности – плотное (с разницей всего в 8%) следование друг за другом («кучность», как это называется в статистике) и явную сдвинутость к верхнему, а не нижнему краю количественной шкалы лейтмотивов (от 88% до 80).
Теперь взглянем на романы, замыкающие наш список. Итак, «Модерато», «Изменение», «Сынок». Первое, что обращает на себя внимание – значительный разрыв между пелотоном (в 8 %) и первым из этой тройки и всеми тремя между собой: 72, 64 и 46 % соответственно, что, думается, может быть интерпретировано не как проявление недостаточной (особенно в случае «Сынка» – менее половины лейтмотивов) «новороманности» этих романов, а скорее как проявление недостаточной гибкости, глубины и разноуровневости в формулировании наших лейтмотивов.
Для ответа на второй вопрос вернёмся к таблице 1 из предыдущего раздела. Для начала следует изложить, как и в первом случае, принцип и метод отбора ключевых слов, составивших её содержание и давших материал для предпринятого выше мотивного анализа «Травы» в контексте всей симоновской поэтики и «рамок» этого романа как достаточно полного выражения и воплощения поэтики и письма романа в целом. В целях максимальной ясности и верификации было принято вполне, на первый взгляд, структуралистское решение отбирать не сложно выделяемые «идеи и образы», а их очевидное лексическое воплощение.
Что же до метода, то он прост и надёжен: на основе оцифрованного текста романа путём его многократного вычитывания во всех направлениях были выделены десятки рекуррентных лексических единиц, которые затем были статистически просчитаны, сгруппированы и сведены в таблицу в порядке убывания интенсивности их использования текстом романа. Можно ли быть уверенным, что ни один принципиально важный концепт не был нами пропущен в ходе этого прочёсывания текста, совмещённого с его переводом? Думается, что да, во всяком случае на конференции исследователей творчества Симона в Париже (посвящённой как раз «Траве»), где в 2003 году состоялась практическая обкатка этой модели анализа поэтики текста, ни один из присутствующих симонистов не подверг её сомнению и критике и не внёс в неё каких-либо коррективов.
Перейдя к анализу и интерпретации его результатов, можно сразу заметить, что из 101 гнезда ключевых слов всего романа в тексте рамок использованы 71, то есть более двух третей! Если же мы разделим нашу таблицу пополам, то станет заметно, что на 50 её первых пунктов приходится лишь десять пропусков, что поднимает число совпадений в самой частотной части нашего списка до 80 %, и несовпадения усиливаются по мере ослабления общей рекуррентности ЛСЕ, что понятно и объяснимо.
Далее в разделе осуществляется детальный анализ и интерпретация полученных при сопоставлении всего текста и его рамок результатов, причём внимание обращается как на совпадения, так и на различия, как на лексико-семантические единства, вышедшие на первые места, так и на те, что оказались в конце.
Можно было бы продолжить наши статистические упражнения, например, подсчитать «удельный вес» всех ЛСЕ относительно общего количества слов в романе и ЛСЕ из рамок – соответственно для рамок, или проанализировать их семантическое наполнение, лексическое оформление и грамматико-синтаксические функции в обоих видах текста, но думается, что и вышеприведённых данных достаточно, чтобы считать ответ на второй вопрос состоявшимся. И ответ этот – утвердительный.
В данном разделе, важном и с точки зрения апробации наших предположений, и с точки зрения объективной верификации наших выводов, были подвергнуты изучению два принципиальных положения, составляющих ядро концепции нашего исследования. Первое – скорее историко-литературное и диахроническое – является утверждением о содержании в романах, написанных новороманистами на рубеже 1950-х-1960-х годов всех важнейших особенностей поэтики Нового Романа. Второе – скорее синхроническое и теоретическое – это утверждение о возможности конструирования на основе «рамок» текста такой его модели, которая позволит на достаточно небольшом материале изучать основные важнейшие особенности письма всего текста романа. Оба этих предположения были подтверждены в двух последних разделах, что позволяет считать подтвердившейся гипотезу нашей работы, а её концепцию – доказанной.
В Заключении подводятся итоги диссертационной работы и намечаются перспективы возможного развития исследований.
Сформулированная во Введении гипотеза подтвердила свою состоятельность. Из девяти условий успешного решения главной проблемы диссертации, в ходе исследования с достаточной полнотой были выполнены все девять, что позволило всесторонне обосновать концепцию нашего исследования, использовать выработанные в ходе работы методологические подходы для достижения целей и решения задач диссертации.
Все три цели диссертационного исследования, сформулированные во Введении, достигнуты. Была построена целостная система основных особенностей поэтики Нового Романа и проведена апробация полученной системы при анализе «пороговых структур» отдельных романов. Выдвинута (глава 2), обоснована (раздел 4.1.) и апробирована в «микрочтениях» целого романа («Послеполуденный отдых г-на Андемаса» М.Дюрас) (раздел 4.2.) и рамок пяти романов («Ревность» и «В лабиринте» А.Роб-Грийе, «Золотые плоды» Н. Саррот, «Модерато кантабиле» М.Дюрас, «Трава» К.Симона) гипотеза об эксцентричности художественного текста; сформулированы и обоснованы принципы отбора текстуального материала для «рамок» текста и их интерпретирования (раздел 4.1.), поставлена проблема пределов системности литературоведения (разделы 4.3.-4.7.).
Интерпретация и статистическая обработка результатов и выводов, полученных в ходе обобщённого изучения данных обеих таблиц (разделы 4.7., 4.8.), созданных в ходе работы, позволили выявить художественную специфику и важнейшие типологические особенности Нового Романа как феномена истории литературы и основные особенности его поэтики.
Что касается перспектив дальнейшего расширения и углубления проблематики и направления предпринятого исследования, то во-первых оно может быть продолжено чисто количественно, путём рассмотрения пороговых структур остальных произведений новороманистов, которые не вошли в четвёртую главу. Это в первую очередь романы «Планетарий», «Ветер», «Распределение времени», «Сынок». Думается, что их столь же подробное изучение принесёт много – в количественном и качественном отношениях – нового и важного. В части анализа прозаического и драматического элементов новороманной поэтики много даст сопоставительное изучение романов «Трава» Симона и «Сынка» Пенже с пьесами, написанными авторами на их основе и по их «мотивам». Много может дать и разноуровневое сопоставление эстетики модернистского и массового искусства второй половины ХХ века и эстетики Нового Романа, что сделано западными исследователями в отношении отдельных писателей, но не всего Нового Романа в целом. Весьма плодотворным будет вписывание новороманной эстетики в контекст мировой (как зарубежной, так и отечественной) литературы постмодернизма, предтечей и старшим современником которой Новый Роман был более сорока лет.
Для отечественного литературоведения было бы важно и интересно изучить «русский след» в проблематике, поэтике и письме отдельных новороманистов, что частично сделано лишь для Н.Саррот, хотя известно, что вдумчивыми читателями Толстого, Достоевского, Чехова были и Роб-Грийе, и Симон, и Дюрас. Отдельного и более глубокого, чем предпринятое в рамках нашей работы, исследования заслуживает влияние ОПОЯЗа на французские литературу и литературоведение последних пятидесяти лет. Столь же плодотворным было бы исследование влияния социалистических идей и «советского мифа» на новороманистов, в первую очередь Симона, Роб-Грийе, Саррот, Дюрас и Бютора.
Педагогический и дидактический потенциал новороманных текстов хорошо известен и отечественным, и зарубежным преподавателям, да и для самих новороманистов он не был тайной, достаточно вспомнить удачный по общему мнению эксперимент А.Роб-Грийе, написавшего в 1981 году в форме романа («Джинн») учебник для иностранцев – изначально американцев, запросы и проблемы которых писатель прекрасно знал благодаря многолетнему преподаванию в заокеанских университетах. Тем не менее, богатые возможности Нового Романа как библиотеки разнообразнейших стилистических, лексико-грамматических, культурологических и психологических приёмов всё ещё ждут своих исследователей, которые смогут на самых разных уровнях – от простейшего использования лексико-грамматических примеров в виде словосочетания и фразы и до интерпретации целых мини-текстов, на манер наших «рамочных конструкций» из четвёртой главы – использовать в дидактических целях все те богатейшие возможности, которые содержатся в текстах новороманистов.