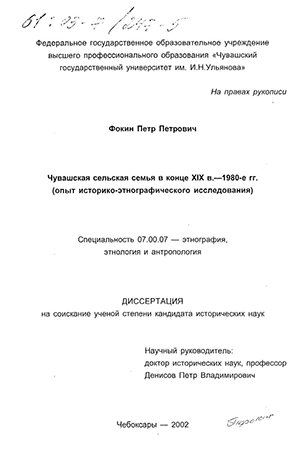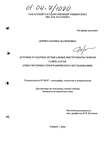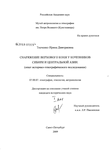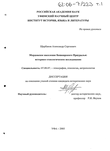Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Семья и семейный быт чувашей села... 22-61
1. Структура семьи 23-43
2. Внутрисемейные отношения и родственные связи .44-61
Глава вторая. Брак и брачные отношения чувашей села ..62-97
1. Эволюция бракаучувашей 62-67
2. Традиции брачных отношений 67-78
3. Эволюция брака чувашей в XX веке 78-97
Глава третья. Семейные обряды чувашей 98-145
1. Родильные обряды 102-111
2. Брачная обрядность 111-118
3. Похоронно-поминальные обряды 118-126
4. Трудовые обряды 126-145
Заключение 146-151
Источники и литература 152-159
- Внутрисемейные отношения и родственные связи
- Традиции брачных отношений
- Эволюция брака чувашей в XX веке
- Похоронно-поминальные обряды
Внутрисемейные отношения и родственные связи
Так, А.Е.Тер-Саркисянц таковой считает хозяйственный строй семьи; ее монография начинается именно с главы, посвященной этому аспекту [1]. На наш взгляд, это продиктовано прежде всего вынужденным принятием распространенного в свое время положения, что именно материальная деятельность является приматом всех остальных явлений в культуре общества, этноса. В других этнографических исследованиях (напр., Ю.В.Бромлея и М.С.Кашубы [2], Н.С.Смирновой [3] и др. раскрытие семьи и семейного быта начинается с анализа структуры семьи.
Аналогичного подхода — со структуры — придерживаются также демографы — авторитетные исследователи семьи Э.К.Васильева [4], А.Г.Волков [5], И.А.Герасимова [6] и др.
Высказывая мнение о построении данной главы, как установившегося в литературе подхода предпочтения считать анализ структуры семьи первоочередным, обратимся к О.А.Ганцкой, известному исследователю семьи. Она в «Введении» коллективного труда «Семейный быт народов СССР» (в написании которого принимал участие и автор диссертации) пишет: «Выбор структуры семьи как одного из основных предметов изучения определялся несколькими факторами: структура семьи является ее непременным системообразующим показателем; изучение структуры в этнографическом аспекте необходимо при рассмотрении вопроса об этнических особенностях в сфере семьи одного народа или группы народов, ...делает возможным сравнительный анализ многих сторон семейной жизни: взаимоотношений в семье, положения женщины, общего и особенного в передаче и обновлении культурного достояния от поколения к поколению, роли новаций и др.» [7].
Типы семьи. О.А.Ганцкая в небольшой по объему статье, представляющей собой анализ дискуссий, суждений и мнений многих авторов, в обобщенном виде предложила типологию семей [8], которую мы разделяем. Она вполне приемлема при рассмотрении динамики и бытовании на разных этапах развития чувашской семьи. Самые ранние документы из введенных в научный оборот, затрагивающие некоторые стороны семейной структуры чувашского крестьянства, выполненного В.Д.Димитриевым, относятся к XVIII в. Они показывают, что в то время преобладали семьи, состоящие из родителей и детей (зачастую женатых). Так, материалы ландратской переписи 1716—1717 гг. и третьей ревизии (1762—1764 гг.) не содержат данных, «позволяющих говорить о существовании большой семьи (домовой общины)». Скорее всего, автор под таковыми подразумевает многосемейные (братские) семьи
Материалы ревизий 1811 и 1816 гг. показывают существенную долю больших семей у чувашей. Около 30% семей включали в свой состав несколько брачных пар (из них две трети были отцовскими однолинейными или многолинейными, одна треть — братскими много линейными [10].
В XVIII—XIX вв. малая семья чувашской деревни могла вполне нормально функционировать в качестве самостоятельной хозяйственной единицы, но ряд причин непременно приводил к превращению ее в большую отцовскую. Малая семья в количественном отношении росла не только посредством деторождения, но и женитьбой сыновей и оставлением молодой брачной пары в составе семьи на относительно продолжительное время. Если малая семья в среднем состояла из 7—8 человек, в то же время существовали семьи, включавшие в себя 10 и более лиц мужского пола, наделенных землей. Людность таких отцовских семей достигала 50 и более чел. [11]. Еще в начале XX в. встречались такие семьи из 30—35 чел. Так, Т.Акимова упоминает, что в чувашском селе Казанла Саратовской губернии в начале XX в. существовала семья, состоявшая из 36 чел. [12]. Подобные факты встречались и в других местностях, населенных чувашами: в первые годы XX в. в дер. Нюрши Цивильского уезда Казанской губернии разделилась большая семья с числом членов более 30 чел. [13].
Большая отцовская семья была, как правило, трехпоколенной (родители — взрослые дети, в т.ч. женатые сыновья, — внуки) и реже — четырехпоколенной (родители — взрослые дети, в т.ч. женатые сыновья, — внуки, — правнуки). Семьи, включавшие женатых братьев с детьми с главенством одного из братьев, составляли исключение. В упомянутую семью из Нюрши входили три брата с детьми, причем сын одного из братьев был женат и имел детей. Несмотря на существование других неразделенных отцовских семей, в памяти информаторов она наиболее впечатлительно сохранилась ввиду ее исключительности.
При типологизации семьи следует учитывать религиозный фактор, что применительно, в частности, к чувашам.
Пока речь шла о семьях, в которых муж имел только одну жену (моногамный брак). Но у некрещеных чувашей обычное право допускало полигамию (многоженство). Так, в 1717 г. в девяти деревнях Сюрбеев-ской волости Цивильского уезда из 208 дворов 6 домохозяев имели по две жены, у одного было три жены [14]. В результате христианизации количество некрещеных сошло почти на нет: в начале XX в. они составляли около 1,5% чувашей [15]. И у них многоженство встречалось в исключительных случаях, так что можно сказать утвердительно, что полигамия у чувашей к началу XX в. исчезла.
Традиции брачных отношений
По чувашским традициям, в прошлом вступление в брак было заботой семьи, родни. Бракосочетание не вело к образованию самостоятельной семьи, брачная пара еще долго оставалась в составе отцовской семьи. Вопрос о вступлении в брак решался на семейном совете. Если родители, родня считала, что юноша достиг брачного возраста, начинали перебирать девушек округи.
Сговор несовершеннолетних. Материал показывает, что не всегда дожидались определенного возраста. И.И.Лепехин, участник Академической экспедиции, побывав в 1767 г. в чувашских селениях Заволжья (по р. Большой Черемшан) записал, что здесь бытовал сговор малолетних. Две семьи, равные по достатку, решив породниться, договариваются между собой, что, когда дети вырастят, их поженят. А те могли быть еще грудными. «Во время народного сонмища меняются друг с другом рогами с табаком, говоря: смотрите, добрые люди, что мы между собой сватья» [16]. В последующем такие факты не зафиксированы.
Брачные запреты. У чувашей бытовали строгие нормы выбора су-пурга — брачные запреты. Многие действуют и в наши дни. Прежде всего не допускается брак по седьмое колено родства, т.е. когда у юноши и девушки общий дед деда деда (прапрапрапрадед). Этот запрет простирается дальше, чем предусмотрено православной церковью, тем более современным законодательством. Пожилые, особенно старухи, прекрасно владеют генеалогией, подробно информируют о ней подрастающее поколение. Дети с малолетства знают, что в каких обстоятельствах между парнем и девушкой возможны только отношения дружбы, приятельства, но не более. К этому молодежь психологически подготовлена, воспринимаетя как непреложная норма. Бывает, что играющих вдвоем малышей — мальчика и девочку — дразнят женихом и невестой.
Но когда те заявляют, что они — родственники, сверстники перестают дразнить их.
Чувашские селения в отдаленном прошлом были небольшими — не более 10—12 дворов. В преданиях о возникновении деревень отмечается, что зачастую основателями были родственники или отдельная семья. Скорее всего, наиболее старые деревни Чувашского края основывались родственными группами, или патронимиями. Патронимия происходила от одного реального предка. Входящие в нее семьи не являлись полностью самостоятельными — землей патронимии пользовались сообща, многие работы выполнялись в кооперации, произведенное также поступало в коллективную собственность. Патронимимя выдерживала нормы строгой экзогамии — браки внутри нее были невозможны. Это правило экстраполировалось на все селение, хоят в последующем в него подселялись и неродственники. Чувашская поговорка гласит: «Сосед ближе дальней родни». Традиция приравнивать односельчан к родственникам, а точнее, что все односельчане составляют одну большую родню (не скажем, что близкую), проявляется во многих обычаях, обрядах и представлениях чувашей. Так, хотя в реальности многие односельчане в XIX в. не являлись родней, браки между односельчанами считались нежелательными, нарушением старинных обычаев. Казанская поэтесса Александра Фукс во время поездки по чувашским деревням в 1833 г. зашла в одну избу, где застала озабоченных стариков. Те разбирали сложный вопрос: юноша наставал на браке с избранницей-односельчанкой. Русской барыне объяснили, что у чувашей «считается стыдом отдавать дочерей или женить сыновей на своих деревнях» —люди могут подумать, что между парнем и девушкой были интимные связи.
«— Да и грешно! — сказал один из стариков.., — очень грешно жениться на той девке, которую каждый день видишь! —Да и щастья не будет, возразил сердито другой старик. — Как можно делать свадьбу, не выехавши из полевых ворот».
Все же собравшись нашли выход: «чтобы свадьба со всем поездом выехала непременно из деревни, объехала кругом и возвратилась бы с другого конца, въехав в другие ворота» [17].
Чувашские селения Саратовского Предволжья крупные, они заселены переселенцами из разных мест. Тем не менее при браках односельчан за невестой ехали по одной дороге, возвращались по другой, будто бы привезли иносельчанку.
Как видим, запрет на брак между односельчанами стали обходить еще в начале XIX в., в XX в. он практически перестал соблюдаться. По материалам конкретных обследований, почти у половины вступивших в брак в 1960—1980-х гг. чувашей села жены — уроженки той же деревни.
По традиции, одним из свадебных чинов выступает посаженный отец хайматлах из селения жениха — неродственник. Но хайматлах атте включается я ванг родственников вовобрачной йары ы ссответствующим запретом на брак между их потомками.
С христианизацией к близким родственникам стали относиться восприемники (крестные родители). По православным канонам, не могут вступать в брак лица, имеющие общего крестного родителя. Чуваши в ранг родственников включают также детей своих крестных родителей с правилами брачных запретов.
В брак вступали по старшинству. Младшую дочь раньше старшей не выдавали. Родители девушки могли пойти и на подлог — показать во время сватовства младшую, а во время свадьбы под покрывало посадить старшую, которая, возможно, имела некоторые физические недостатки. «Закроют покрывалом. Кривая, рябая — кто увидит?» [18].
Так же было и с сыновьями. Если по каким-либо причинам старшего (полная нетрудоспособность из-за физического ущерба и т.п.) не могли женить, то для него на усадьбе же ставили халупку, как бы отделяли, но не отрывали от семьи.
Эволюция брака чувашей в XX веке
Сложившаяся в результате войны диспропорция полов привела к тому, что, несмотря на относительно меньший удельный вес мужчин, вступление в повторный брак у них выше. В 1960 г. данные в этом плане собирались в 9 селениях, и получены следующие результаты: в повторном браке состояло 9,98% мужчин и 8,66% женщин. В 1970 г. в 18 населенных пунктах состояли в повторном браке 11,26% мужчин и 7,73% женщин. Чувашки села относительно чаще вступали в брак с представителями других национальностей, для которых он являлся повторным (см. табл. 5).
Национально-смешанные браки. Одним из важнейших качественных изменений в области семейно-брачных отношений, в немалой степени иллюстрирующих трансформацию традиций, является появление и рост частоты национально-смешанных браков.
Смешанные браки затрагивают и в некоторой степени влияют на субстрат этноса: язык (как правило, молодая семья является двуязычной), культуру (происходит взаимопроникновение, взаимоусвоение и взаимообогащение), психологию (отрицание национальной предубежденности, преодоление этнического барьера, изменение ценностных установок); меняются семейно-бытовые традиции. Динамика частоты таких браков показывает, насколько благоприятно относятся к ним окружающие, как складываются прочные дружественные связи между народами нашей страны.
Исследования семьи чувашей показывают довольно высокий за 20 лет удельный вес межэтнических браков, а также тенденцию роста их как в городе, так и на селе.
Основная масса сельского русского населения проживает в пограничных районах. Постоянные контакты с ними (также с татарами, мордвой, мари) возможны лишь в этой полосе. Нами выше показывалось, что на селе зона выбора брачных партнеров в значительной степени
зависит от производственной и бытовой локализации.
В опрошенных в 1970 г. селениях смешанные брачные пары составляли 2,89% от общего количества браков, заключенных чувашами. В чувашских селениях, расположенных за пределами республики в инонациональном окружении, смешанные браки встречаются чаще. Анкетное обследование, проведенное экспедицией ЧНИИ в 1962 г. в 14 чувашских населенных пунктах Оренбургской области и Башкирской АССР, показывает, что 13% жителей этих деревень состоит в браке с представителями других национальностей. Необходимо отметить, что эти селения исключительно с чувашским населением, но находятся в зоне постоянных этнических контактов. Относительно низкое, по сравнению с Чебоксарами, процентное соотношение межэтнических браков чувашской деревни не является присущим только ей. Это должно быть характерным во всех регионах с аналогичной социальной и национально-демографической ситуацией.
В анкеты 1970 г. были включены вопросы национальности супругов детей опрошенных. Процент национально-смешанных браков у этой группы в значительной мере высок и равен 39,65%. Основная часть детей, выросших в опрошенных селениях, проживает в крупных индустриальных центрах, где контакты с представителями других народов учащены, что оказывает немаловажное (а в городах с пестрой этнической ситуацией и решающее) влияние.
Многочисленные исследования, опубликованные в нашей стране, показывает, что активность мужчин при вступлении в смешанные браки выше. Оно свидетельствует, что мужчинами национальный психологический барьер преодолевается чаще. Это подтверждается на примере чувашской деревни.
Из межэтнических браков с участием чувашей более половины (56,2%) составляют комбинации чуваш-нечувашка. Среди детей опрошенных в смешанных браках состоят 43,6% сыновей и 35,4% дочерей.
Чуваши, проживающие на селе, и в смешанных браках предпочитают уроженок села. Так, из нечувашек, вышедших замуж за чуваша-селя нина, 70% родились и жили в сельской местности, значительная часть их — из соседних селений, а 10% являются односельчанами мужа. Причину этой тенденции мы попытались раскрыть в разделе о зоне выбора брачного партнера.
В межэтнических браках чуваши чаще взаимодействуют с русскими. Наибольшее число смешанных браков в столице республики падает на русско-чувашские — 86,2% из межэтнических с участием чувашей (1966 г.), в 14 селениях Башкирии и Оренбуржья — 82,3 из аналогичных. По материалам 1970 г. такие браки составляли 76,4%. Среди проживавших на селе наиболее часты брачные союзы между чувашами и русскими девушками (45% от общего количества смешанных браков с участием чувашей) и чувашками и русскими (31,4%). Далее идут комбинации чуваш-мордовка (5%), мордвин-чувашка (4,5%), чуваш-марийка (3,4%), татарин-чувашка (3,4%). Браки с представителями других народов у мужчин составляли 2,3%, у женщин — 5%. В 14 селениях чувашско-татарские семьи составляли 10% смешанных в национальном отношении, браки чувашей с представителями других народов — 7,7%.
Близкое соотношение наблюдалось и у детей из обследованных в Чувашии в 1970 г. семей (см. табл. 6). У них на русских женаты 20,6%, вышли замуж 17,2%; с представителями других народов эти показатели соответственно равны 23,0% и 18,2%.
Похоронно-поминальные обряды
Земледельческие обряды. К таковым мы относим обрядовые действия, связанные с началом пахоты, выносом семян, зачином и завершением жатвы, началом молотьбы и обмолотом части собранного. Они носили семейный или семейно-родственный характер по составу участников. Эти обряды проанализированы П.В.Денисовым [13], Г.Е.Кудря-шовым 14], А.К.Салминым [15]. Ни в фактологическом плане, ни тем более в теоретическом нового добавить мы не сможем. По трудам предшественников нами написаны разделы в работах обобщающего характера. Однако заметим, что в ходе полевых изысканий нами собирался материал о степени бытования этого круга обрядов. Так, в начале XX в. в некоторых селениях Причеремшанья бытовали обряды первого дня пахоты. Освящение зерна в церкви вытеснило вынос семян, а язычники его попросту забыли. Обрядовые действия зачина жатвы (в колхозах каждой женщине определялся отдельный загон, она его жала совместно с членами семьи) при ручной уборке продолжали исполняться как дань традиции и в 1950-х гг. Завершение загона приняло форму шуточной игры. С коллективизацией исчезли обряды молотьбы.
Из других производственных обрядов нами рассматриваются те, которые до нас в литературе не освещались.
Строительные обряды. Возведение дома — событие большой значимости для семьи и ее родни. С надеждой на благополучие исполнялся комплекс обрядов и действий от начала стройки до ее заселения. Многие из них бытуют по настоящее время.
При выборе места под застройку учитывали ряд обстоятельств. Большая патриархальная семья иногда ставила дом выделяющимся сыновьям на той же усадьбе. С перепланировкой деревень молодая семья устраивалась на новом месте. Благоприятными считались площадки, куда обычно ложились коровы: там зимой будет тепло. Если когда-то был муравейник, то это место сухое. Нежелательно строиться, где часто сидят гуси — зимой изба будет сыреть. Не годится участок, через который пролегает дорога — по ней ходят нечистые духи. Нечистым является место, ранее занятое баней — в ней обитал недобрый дух ийе, да и грязь стекала несколько лет. Не полагается ставить дом на месте сгоревшего, следует хотя бы ненамного сдвинуться.
Перед началом строительства проводилось моление с жертвоприношением на выбранном участке. Супруги, получив благословение в родительском доме, на рассвете в сопровождении матери или старшей родственницы брали с собой горшок пшенной каши, калач, кувшин пива и шли на новое место. Там расстилали отрез сукна, ставили на него принесенное. Старшая женщина, обратившись к востоку, испрашивала у духов-покровителей этой территории разрешения поселиться, благополучия в новом доме и угощала их: наполняла ковш пивом и отливала на землю, отламывала ломтик калача, на него сверху накладывала ложку каши и преподносила духам. С христианизацией стали окроплять освященной водой, читать православную молитву.
В первый день стройки устанавливают фундамент, закладывают основу — нижние венцы. Чаще это выполняется нанятыми плотниками при участии родственников. Выкопав ямы для вертикально устанавливаемых кряжей — столбиков пукай, на дно ямы переднего угла клали монету, жертвуя ее духу-покровителю основы дома Никёс тытакан или божеству, созидающему дом [16]. Этот обычай в некоторых местах бытует поныне. Зажиточные крестьяне устраивали молебен с приглашением священника.
Под бревна первого венца на столбы фундамента в каждый угол насыпали по горсти зерна с пожеланиями достатка, клали по клочку шерсти, чтобы в доме было тепло (густая шерсть еще символизирует богатство), в передний угол — рябиновые палочки крест-накрест для защиты от злых духов. Со временем под них стали отводить только передний угол, зерно заменили монетой, с христианизацией вместо рябинового пришел православный крестик. Вместо шерсти могли положить кусок сукна, использовавшийся в начальном обряде.
Местами жертвы-обереги кладут не на фундамент, а на первый, или на второй, или на третий венец сруба.
После установки фундамента, укладки первого ряда венцов и переводины пола проводился обряд никёс патти — ккши ооснования В середине (а если подпол был выкопан — в подполе) хозяйка разводила костер и варила полбенную кашу. Приступая к еде, хозяин дома молился богу, духам основы дома, и одну ложку каши бросал в костер. Кое-где по одной ложке откладывали к каждой стене. В молитве высказывалась просьба: «Пусть в доме всегда будет хлеб-соль, есть-пить, пусть эта изба простоит, пока не обветшает. Чтобы прожить здесь с детьми в благополучии и здравии» [17]. Затем приступали к трапезе, строители ели из общей миски кашу, хозяйка всех обносила пивом. Ныне еду готовят в другом месте, угощаются в приспособленном помещении (у родителей), но все это называют как и в старину никёс патти. Кое-где бытует обычай после завершения работы до еды выпить по рюмке водки в переднем углу или у передней стены гур уме «место перед богом» — по традиции, сохранившейся с древних времен напротив входа в юрту, затем у передней стены или в переднем углу бревенчатого жилища устраивали домашний алтарь.
Такого рода ритуальная трапеза проводится при строительстве кирпичного дома после закладки фундамента.
Стены на другой день поднимают миром, устраивая помочи ниме, участвуют и мужчины, и женщины. Работа по подъему стен начинается спозаранок, когда погода тихая. Женщины подносят мох, расстилают его. В углах стоят опытные лица, периодически меняясь местами — один может класть слой потолще, другой — потоньше, меняясь, уравнивается. Мужчины в основном укладывают бревна сруба. Ответственной считается установка матицы. Ее полагается поднимать аккуратно и тихо. Она выступает маркером среднего и верхнего миров в жилище — микромодели Вселенной, разделяет внутреннее пространство на переднюю и заднюю площади; фигурирует в обрядах сватовства, проводов в армию, при рассаживании гостей на пирушках.