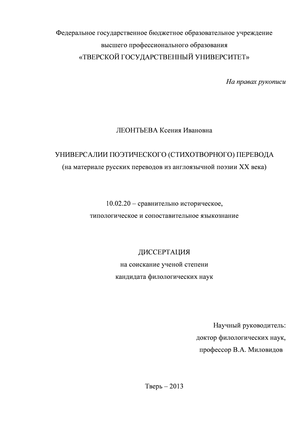Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Семио-дискурсивная модель перевода
1.1. Дискурсивный анализ как интегративная методология . 13
1.1.1. Семиотика дискурса . 13
1.1.2. Интердискурсивность и вариативность интерпретации 20
1.2. Семио-дискурсивная онтология перевода: обоснование статуса . 25
1.2.1. Семио-дискурсивная онтология в контексте современной парадигмы переводоведения . 28
1.2.2. Категории эквивалентности и сингармонизма 36
1.3. Интердискурсивная смысловая динамика при переводе . 41
1.3.1. Эпистемологические универсалии поэтического (стихотворного) перевода: девиантность, инференциальность, инновативность 41
1.3.2. «Функция-переводчик» и стратегия ретрансляции 46
1.3.3. Когнитивная адаптация и «намерение текста переводчика» 51
1.3.4. Прагматическая адаптация: переводчик как медиатор 56
Выводы по главе 1 . 60
Глава 2. Поэтический сингармонизм: проблемы ретрансляции содержательности формы 64
2.1. Принцип гармонического единства стихотворного текста . 65
2.2. Асимметрия версификационных систем и практик . 70
2.2.1. Поэтический ритм: метрика и синтаксис . 71
2.2.2. Поэтическая финика и рифма 78
2.3. Асимметрия художественно-эстетических канонов . 87
Выводы по главе 2 . 96
Глава 3. Дискурсивный сингармонизм и переводческая адаптация 100
3.1. Текстовые решетки 103
3.2. Идеологические факторы 112
3.3. Традиция перевода vs. эстетическое целеполагание переводчика 127
3.4. Хронотоп переводчика . 135
3.5. Гендерный фактор . 141
Выводы по главе 3 . 146
Заключение . 151
Библиографический список . 156
Список источников . 171
Приложения 174
- Семио-дискурсивная онтология в контексте современной парадигмы переводоведения
- Когнитивная адаптация и «намерение текста переводчика»
- Асимметрия художественно-эстетических канонов
- Традиция перевода vs. эстетическое целеполагание переводчика
Введение к работе
Проблема универсалий – одна из центральных в теории перевода. Универсалии задают общие параметры стратегий, используемых переводчиками в реальной практике, и при этом являются важнейшим объектом непосредственно самой теории перевода, так как их адекватное описание предопределяет успешное решение всех более частных теоретических проблем. Универсалии поэтического (стихотворного) перевода занимают в переводоведческом категориальном аппарате особое место – благодаря той особой роли, которую поэтический текст занимает в репертуаре Текстов Культуры. Поскольку на поле стихотворного перевода во взаимодействие вступают не только языковые и просодические системы, но и культуры в целом, при анализе переводческой проблематики исследователь должен учитывать как логику реализации языковых механизмов в текстах ИЯ и ПЯ (с учётом закономерностей особого поэтического языка), так и логику самого межкультурного диалога, что делает стихотворный перевод крайне интересным полем исследований по сравнительному, типологическому и сопоставительному языкознанию – исследований, которые сейчас, во времена активных интеграционных процессов в языках и культурах, чрезвычайно важны. Этим обусловлена актуальность реферируемого исследования.
Несмотря на наличие объёмного корпуса теоретических работ в области поэтического перевода, основное внимание, как правило, уделяется какому-то одному аспекту стихотворного произведения – либо форме, либо содержанию, что с учётом феномена автореферентности поэтического языка и концепции «органической» (содержательной) формы методологически не совсем корректно. Большинство исследований выполнено в рамках какого-то одного подхода, чаще всего – традиционной лингвистической теории перевода, но стихотворный перевод, будучи форматом не только межъязыковой, но и межкультурной и интерсубъектной коммуникации, требует междисциплинарного (в сущности – интегративного, т.е. синтезирующего) подхода, с переходом от текстоцентризма к «коммуникатороцентризму» [Макаров 2003], позволяющему изучить и описать динамику трансформации стихотворного текста при переводе не как замкнутой (подобно «вещи в себе») текстовой системы, а как элемента межъязыкового интердискурса – с учётом действия множества факторов экстра–, прагма– и психолингвистического порядка.
Междисциплинарный характер реферируемой работы определяется интеграцией в рамках предложенной в ней концепции стихотворного перевода ключевых положений теории дискурса, интерпретативной семиотики, филологической герменевтики, лингвопоэтики, рецептивной эстетики, психолингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики, когнитивной лингвистики и ведущих направлений коммуникативно-деятельностной онтологии перевода (также комплексной в плане методологии), в которой перевод анализируется и описывается также как антропо-ориентированная процедура, реально протекающая в реальной культуре.
В рамках указанной онтологии сложилось множество направлений: интерпретативное, лингвокультурологическое, лингвокогнитивное и т.д. По мнению М.Я. Цвиллинга, за счёт подобной многомерности теория перевода (как наука) лишается системной сущности, поэтому на современном этапе ей необходима новая, по-настоящему продуктивная парадигма, способная в рамках единой по своей структуре (т.е. синтезирующей – К.Л.) метатеории примирить множественные разрозненные концепции [Цвиллинг 2002: 49–50]. В реферируемом исследовании в качестве подобной метатеории интегративного характера предложена семио-дискурсивная модель (теория) перевода, что также предопределяет его актуальность.
Объект исследования – поэтический (стихотворный) перевод как интердискурсивная практика, предполагающая взаимодействие на поле составляющих единый «би-текст» текстов ИЯ и ПЯ трёх этно-психо-лингво-культурно-социально-специфических языковых личностей (автора, переводчика и реципиента), двух языковых и просодических систем, дискурсивных формаций и культурных парадигм в целом (переводческий интердискурс).
Предмет исследования – основополагающие (универсальные) принципы и закономерности интердискурсивной формально-смысловой трансформационной динамики поэтического текста при переводе.
Цель исследования – с учётом специфики лингвокультурных, языковых и просодических систем ИЯ и ПЯ, путем комплексного аналитического моделирования описать логику и формат трансформационной динамики би-текста в процессе коммуникативной интеракции автора, переводчика и реципиента в рамках переводческого интердискурса и на основе полученных данных выявить эпистемологические универсалии стихотворного перевода.
Выполнение поставленной цели предполагает решение ряда задач:
– проанализировать основные положения теории дискурса и семиотики дискурса, на их основе разработать семио-дискурсивную модель перевода, определить её место в современной парадигме переводоведения;
– в рамках разработанной семио-дискурсивной модели описать транс-формационную динамику поэтического текста при переводе в формально-эстетическом, коммуникативно-смысловом и концептуальном аспектах;
– обосновать возможность выделения категории сингармонизма в качестве ключевой в научном аппарате теории поэтического перевода;
– в ходе сравнительно-сопоставительного анализа выявить лингвокультурные, языковые и просодические особенности систем ИЯ и ПЯ, релевантные для анализа и интерпретации стратегий поэтического перевода;
– проанализировать действие наиболее значимых факторов дискурсивного порядка, предопределяющих текстовую и смысловую трансформацию (в рекреативной и рецептивной фазе переводческого интердискурса) и использование адаптационных тактик, и параллельно выявить факторы, затрудняющие перевод современной англоязычной поэзии на русский язык и последующую рецепцию переводов в русской культуре;
– на основе полученных данных выявить базовые эпистемологические универсалии поэтического перевода, определить основные принципы сингармоничного перевода современной англоязычной поэзии на русский язык и обозначить возможные способы оптимизации перевода.
Теоретической базой исследования послужили работы по теории и семиотике дискурса (Ч.С. Пирс, Р. Барт, Ю. Кристева, У. Эко, М.Л. Макаров, В.В.Красных, В.И. Карасик, В.Е. Чернявская, А.В. Борисенко, И.Э.Клюканов и др.), филологической герменевтике (Г.И. Богин, Н.Л. Галеева, А.А. Богатырёв), психолингвистике (А.А. Залевская, Н.В. Мохамед, Л.О. Бутакова, Ю.А. Сорокин и др.), поэтике и рецептивной эстетике (Е.Г. Эткинд, Ю.М. Лотман, М. Бахтин, М.Л. Гаспаров и др.), теории перевода (Н.Л. Галеева, Л.М. Алексеева, В.М. Жигалина, Е.В. Гарусова, Е.М. Масленникова, Л.В. Кушнина, Н.М. Нестерова, R. Arrojo, L. Venuti, T. Hemans, U. Stecconi, A. Chesterman, A. Pym, S. Petrilli, D. Gorle, W. Frawley, G. Toury, A. Lefever и др.) и ряд других работ. В основу исследования положена концепция дискурс-анализа В.А. Миловидова.
Задачи каждого этапа исследования определили использование различных качественных методов исследования: комплексного теоретического анализа, описательно-аналитического, сравнительно-сопоставительного метода, метода моделирования, семантико-прагматической интерпретации, стиховедческого, пресуппозитивно-контекстуального, коннотативного, концептуального и интертекстуального анализа, интроспекции. Указанные методы являются компонентами интегрального дискурс-анализа – основного метода исследования. Отбор материала производился выборочным методом.
Материалом исследования послужило поэтическое наследие (оригиналы и русские переводы) ряда наиболее репрезентативных современных англоязычных авторов (У.Х. Оден, Дж. Меррил, Р. Уилбер, Р. Джаррелл, О. Нэш, Э. Бишоп, С. Плат, Т. Стил, Д. Джойа, К. Аддонизио, Р. С. Гуинн, Дж. Хилл, Р. Фуллер, Т. Хьюз, Т. Рётке, Ф. Ларкин, М. Донахи, С. Армитидж, П. Пети, Ш. Хини, К. Э. Даффи и др.). Всего в процессе исследования рассмотрено более 600 русских переводов и более 350 оригинальных текстов. В тексте работы проанализированы наиболее показательные (в том или ином аспекте анализируемой проблематики) переводы. Помимо переводов, прошедших официальную редакторскую правку, проанализированы переводы из сети Интернет, что позволило получить относительно объективную картину современного состояния поэтического перевода.
Научная новизна исследования заключается в следующем.
1. Предложен новый семио-дискурсивный подход к поэтическому переводу, с позиции которого переосмыслены некоторые традиционные спорные категории теории перевода и онтологическая сущность самого феномена перевода (в процессуальном и результативном аспекте). Это открывает перспективы для последующего сдвига отечественной теории художественного перевода в качественно новую онтологию интегрального (синтезирующего) характера, что позволяет разрешить противоречие между деятельностной и субститутивно-трансформационной онтологиями и делает возможной гармонизацию методик и терминологически-понятийного аппарата отечественного и западного переводоведения.
2. С учётом целого комплекса разнородных факторов дискурсивности, под действием которых создаётся и осмысливается текст, и этнолингвокультурной специфики, стоящей за текстовой и языковой реальностью, проанализирована интердискурсивная трансформационная динамика на различных уровнях стихотворного текста, описана логика диалогической интеракции субъектов переводной коммуникации. Подобный многоаспектный анализ позволил выявить ряд эпистемологических универсалий перевода и обосновать возможность выделения категории сингармонизма в качестве основного конструкта теории перевода.
3. Проблематика перевода современной англоязычной поэзии на русский язык впервые выступает предметом комплексного исследования. Выявлены обусловленные спецификой культурных, литературных и языковых систем причины «труднопереводимости» текстов данного дискурса и предпосылки использования адаптационных тактик при переводе, предложен ряд рекомендаций по оптимизации перевода, определены параметры предпереводческого дискурс-анализа, последовательный учёт которых при редактировании и рецензировании перевода и непосредственно в практической переводческой деятельности позволит создавать сингармоничные и соответственно эквивалентные / адекватные оригиналу переводы.
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании нового подхода к поэтическому переводу (в перспективе – к художественному переводу в целом) как форме межъязыковой, межкультурной и межсубъектной коммуникации. Результаты исследования вносят определённый вклад в развитие коммуникативно-деятельностного направления в теории художественного перевода, позволяют систематизировать многие процессуальные и результативные аспекты перевода, а также проблему функционирования переводного дискурса в принимающей культуре.
Практическая ценность диссертации состоит в возможности использования её положений и выводов в лекциях по теории перевода, теории межкультурной коммуникации, теории дискурса, семиотике, лингвокультурологии, сравнительно-сопоставительному языкознанию, сравнительной стилистике и лингвопоэтике. Предложенная автором методика дискурс-анализа и намеченные способы оптимизации перевода могут использоваться в практических и дидактических целях, при редактировании и рецензировании перевода, в области литературной критики перевода.
В основу исследования положена следующая рабочая гипотеза. В семио-дискурсивной модели стихотворного перевода дихотомия «адекватность / эквивалентность» снимается и поглощается категорией «сингармонизм» (дискурсивный и поэтический), позволяющей определить вариативность перевода не как отклонение от нормы, а как норму и единственную реальность бытия перевода (как динамичной по своей природе коммуникативной практики). Инструментами вариативности являются свойства девиантности, инференциальности и инновативности, которые можно считать универсалиями поэтического перевода. Фактором, детерминирующим множественность (вариативность) интерпретаций стихотворного произведения на ИЯ и основанную на ней вариативность перевода, является степень лингво-когнитивной близости автора и переводчика как двух специфических языковых личностей, чьи коммуникативные (т.е. дискурсивные) практики протекают в рамках и под действием факторов в разной степени асимметричных дискурсивных сред и формаций, – их дискурсивный сингармонизм. Совокупное действие актуальных для переводчика и рецептивной среды ПЯ дискурсивных факторов объективного и субъективного порядка предопределяет поэтический сингармонизм – меру отражения типа гармонического единства (целостности) текста ИЯ в тексте ПЯ, а также степень девиантности, инференциальности и инновативности текста ПЯ.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Перевод представляет собой процесс коммуникативной интеракции на поле би-текста субъектов трёх фаз интердискурсивной динамики (креативной, рекреативной и рецептивной), включающий в разной мере сингармоничные процедуры тексто– и смыслокреации, –рекреации и –рецепции, чем обусловлена неизбежная интердискурсивная трансформация (модификация, элиминация, прирост семиотической информации) би-текста в рамках переводческого интердискурса.
2. Эпистемологическими универсалиями стихотворного перевода как динамичной интердискурсивной практики являются девиантность, инференциальность и инновативность – инструменты вариативности перевода, мера проявления которых в конкретном акте перевода зависит от степени сингармонизма дискурсивных сред и симметрии дискурсивных формаций, актуальных для креатора, рекреатора, а в проекции – и реципиента ПЯ.
3. Редуцированный дискурсивный сингармонизм предопределяет неизбежную адаптивную фильтрацию (в формате нормализации) текста ИЯ в рекреативной фазе, которую в зависимости от цели и/или направленности адаптивных тактик можно разделить на поэтологическую и идеологическую, по характеру инновативности – на умеренную и радикальную, по формату – на осознанную и неосознанную.
4. С учётом сущностной специфики поэтического дискурса (смысловая неопределенность, потенциальная множественность эстетического эффекта, формат интердискурсивности / интертекстуальности) оптимальной стратегией стихотворного перевода является скрипторская ретрансляция реципиенту ПЯ организационной логики гипотетически авторского дискурса (в формате «функция-переводчик»).
5. Нормой перевода в рамках стратегии ретрансляции является поэтический сингармонизм – достаточная для признания текста ПЯ эквивалентным / адекватным тексту ИЯ мера рекреации средствами ПЯ оригинального типа гармонического единства формы и содержания (композиции и архитектоники, художественного и эстетического), при сохранении дискурсивной ценности эстетически значимых текстовых средств («врождённая» и «приобретённая семантика» поэтической формы).
6. Сингармонизм, «функция-переводчик», ретрансляция, дискурсивная ценность и методика дискурс-анализа могут быть внесены в качестве параметров стратегии перевода в структуру переводческого дискурса.
Апробация результатов исследования осуществлялась на международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях: «Авраамиевские чтения» (Смоленск 2011, 2012), «Личность в межкультурном пространстве» (Москва, 2011, 2012), «Стратегии исследования языковых единиц» (Тверь, 2012), «Культура в зеркале языка и литературы» (Тамбов, 2012), «Перевод и дискурс межкультурной коммуникации» (Екатеринбург, 2012), Международный конгресс по когнитивной лингвистике (Тамбов, 2012), «Концепт и культура» (Кемерово, 2012), «Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик» (Курс, 2012), «Язык. Дискурс. Текст» (Ростов-на-Дону, 2012).
Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены в 16 публикациях автора общим объёмом 7 п.л. Из них 5 статей опубликовано в рецензируемых научных изданиях.
Структура и объём диссертации определяются спецификой цели и задач исследования и отражают его логику и основные этапы. Работа состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка, списка источников и приложений.
Семио-дискурсивная онтология в контексте современной парадигмы переводоведения
Фактор «средств» – это непосредственный объект лингвистической теории перевода, традиционной категорией которой является эквивалентность. В переводоведении неоднократно предлагались различные уровневые иерархии типов эквивалентности (Л. С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, Дж. Катфорд, В. Коллер, Дж. Мандей, М. Бейкер и др.), с приоритетом прагматической, функционально-стилистической, семантической, текстуальной и иных типов. Однако, несмотря на подобную разработанность, лингвистические теории стали объектом активной научной критики. Во-первых, по верному замечанию Т. Г. Пшёнкиной, материалом анализа в данном случае являются некие обобщённые способы решения стереотипных практических задач перевода, поэтому раскрываются лишь отдельные стороны функционирования лингвистического механизма перевода, за счет чего подобные модели, описывая и регистрируя уже вскрытые закономерности, выступают скорее не средством познания, а его результатом [Пшёнкина 2005: 32]. Во-вторых, концентрируя своё внимание на соотношении систем ИЯ и ПЯ и на переводческих трансформациях и субституциях как средствах достижения эквивалентности, подобные теории абсолютизируют объект – текст, рассматривая его как реализацию языковой системы per se, и тем самым полностью игнорируя сущностную связь любого текста с субъектом коммуникации (автором, переводчиком и читателем).
В зарубежном переводоведении кризис лингвистических теорий, ориентированных на источник перевода – оригинал и систему ИЯ (source-oriented approach), – начался ещё в середине 1980-х, когда в научной парадигме произошла переориентация на цель перевода – текст ПЯ (target-oriented approach), с параллельным включением в теоретические модели наряду с лингвистическими элементами культурных и прагматических факторов рецептивного контекста. Э. Гентцлер определил две указанные особенности как наиболее значимые достижения теории перевода за последние десятилетия [Gentzler 2001: 70].
Одной из главных предпосылок подобной «научной революции» в теории перевода – так называемого «прагматического поворота» (pragmatic turn) [Snell Hornby 2006: 35], впоследствии ставшего основой более масштабного «культурного поворота» (cultural turn) [Bassnett & Lefever 1990: 1], – послужило возникновение немецкой скопос-теории (К. Райс, Х. Фермеер, Х. Хёних, П. Куссмауль и др.). Если лингвистическая теория перевода предполагала необходимость наличия определенных (в зависимости от уровней иерархии) эквивалентных соотношений двух текстов, то в скопос-теории текст ПЯ рассматривался как самостоятельный текст, функционирующий по своим особым законам, а важнейшей категорией была адекватность, причём не тексту ИЯ, а цели (scopos) текста ПЯ – его функции в рецептивном контексте. Эквивалентность же рассматривалась лишь как одна из возможных целей, наряду с иными функциями текста ПЯ, потенциально отличными от функций текста ИЯ в исходной культуре. Тем самым скопос-теория легализовала возможность отклонений от текста ИЯ на любом функционально необходимом уровне, вплоть до нулевой эквивалентности, что автоматически делало категорию эквивалентности неэффективной. Однако основной акцент в скопос-теории делался на факторе «людей», с приоритетом рецептивной фазы дискурса, при радикальном отказе от учёта фактора «средств», а это означает, что как и лингвистические теории, скопос-теория также предполагала одномерный анализ.
Вместе с тем, именно скопос-теория легла в основу более «умеренных» и методологически более перспективных западных функциональных теорий (К.Норд, Дж. Хаус и др.) и также функционального по своему характеру отечественного прагматико-информационного направления (С.В. Тюленев, Т.А. Казакова, А. Д. Швейцер и др.). Основные категории указанных подходов – адекватность, полноценность, репрезентативность, функциональная эквивалент ность – во многом синонимичны и в целом ориентированы на прагматическую равноценность текстов ИЯ и ПЯ, при одновременном стремлении к максимально возможной содержательной полноте и эстетической равнозначности. Следовательно, в рамках подобных теорий одновременно учитываются факторы «средств» и «людей», а также частично фактор «общения».
Но «успешными» здесь признаются только те переводы, в которых авторские смыслы дошли до реципиента без каких-либо значимых потерь, а тем самым презюмируется факт «верного» и полного понимания, в то время в реальной коммуникации это невозможно (см. Раздел 1.1). Кроме того, перефразируя В. А. Миловидова, ориентация в данном случае идет на некоего «усредненного», а в реальности – мифического реципиента и такого же переводчика, который должен «верно прочитать тему в тексте и дать единственно правильную интерпретацию последнего» [Миловидов 2010: 10; Жолковский, Щеглов 1996: 291]. В действительности же есть лишь реальные субъекты – «те, кто почитывают» (переводчик, реципиент) и «те, кто пописывают» (автор, переводчик) [Миловидов 2007: 108], между дискурсивными средами которых всегда есть «зазор», за счет которого неизменная вариативность и некоторое приращение и редукция смыслов при переводе неизбежны и, следовательно, вполне законны.
Безусловно, лингвистическое и прагматико-информационное направления, которые, согласно терминологии Н. Л. Галеевой [Галеева 1997], составляют субститутивно-трансформационную онтологию, а согласно И. С. Алексеевой – статическую и динамическую парадигмы [Алексеева 2008: 42-43], – занимали в отечественном переводоведении ведущее положение на протяжении всего прошлого века. При этом все полученные в рамках этих теорий результаты прекрасно «работают» при специальном (юридическом, техническом и т.д.) переводе. Однако описать сложный процесс художественного перевода теории этой онтологии методологически неспособны: практически не учитывается ни проблема понимания, ни эвристика и творческая компонента стратегии перевода, ни вопрос о дискурсивной детерминации, ни связанная с ним проблема множественности и вариативности перевода.
Когнитивная адаптация и «намерение текста переводчика»
Способность переводчика реализовать стратегию ретрансляции и выполнить «функцию-переводчик» на практике напрямую зависит от степени сингармонизма его дискурсивной среды (зоны билингвального совмещения двух языков и культур) относительно рецептивной среды исходной культуры. А степень дискурсивного сингармонизма, в свою очередь, во многом предопределяется лингвосоциокультурной компетенцией переводчика. Вместе с тем, независимо от компетенции переводчика, ретрансляция, как процесс косвенный по своему характеру, предполагает неизбежную модификацию дискурсивных и текстовых стратегий. Переводческий дискурс как дискурс, ретранслирующий исходный (гипотетически авторский) ретранслируемый дискурс, сочетает в себе оба указанных модуса, причём ретранслируемый дискурс становится содержанием ретранслирующего, а это автоматически приводит к некоторой модификации организационной логики ретранслируемого дискурса.
Во-первых, автор и переводчик как семиотические личности, существующие в канонизированном пространстве культуры, обладают специфическими «культуральными апперцептивами» [Сорокин 2000: 46]. В этом аспекте процедуры и авторского и переводческого тексто– и смыслопостроения развертываются по некоторым узуальным схемам, типичным для национальных дискурсивных формаций ИЯ и ПЯ, между которыми также возможен и, как правило, имеет место значительный интердискурсивный «зазор». Безусловно, переводчик с его экспертной компетенцией способен установить ряд ассиметрич-ных факторов. Однако его собственные дискурсивные практики регулярно реализуются, прежде всего, в «рамочном» пространстве культуры ПЯ, а за счет подобного автоматизма истинное влияние факторов этой формации переводчик осознает далеко не всегда. Кроме того, при переводе поэзии, по яркому замечанию Ю. А. Сорокина, происходит «столкновение двух самодостаточных креативных установок, стремящихся ассимилировать друг друга» [Сорокин 2002: 261], в силу чего определенное «подстраивание» оригинальных схем тексто– и смыслопостроения под «матрицу» типичных для переводчика схем, маркирующих его как особую языковую личность, также неизбежно.
Во-вторых, любой знак под действием уникального набора дискурсивных факторов (ре)семантизируется в некоторое «ситуированное» значение, способное у каждого нового субъекта коммуникации актуализовать совершенно иные ассоциации, вплоть до конфликтных. Перевод же по определению является «ситуированной когницией» [Фесенко 2002: 134], поэтому даже предельно компетентный переводчик способен имплицировать в текст лишь те смысловые потенции и ассоциации, предусмотренные «намерением» текста ИЯ, которые активизировались в его собственном сознании. Как отмечает У. Эко, «переводить – всегда значит счищать (курсив мой – К Л.) часть последствий, предполагавшихся словом оригинала», поэтому «при переводе никогда не говорится то же самое (курсив автора)», и «мы никогда не можем быть вполне уверены в том, что не потеряли какой-нибудь ультрафиолетовый отсвет, какую-нибудь инфракрасную аллюзию» [Эко 2006: 109].
Культура как та среда, в которой знаки, составляющие текст, «обрастают» уникальным набором этнокультурноспецифических коннотаций, представляет собой «коммуникативный универсум, который сохраняет свою самотождественность (курсив мой – К. Л.) и границы которого заканчиваются там, где начинается перевод» [Клюканов 1998: 3]. Согласно И. Э. Клюканову, в рамках коммуникативного универсума каждой культуры сущность объекта (денотата), к которому отсылает знак, оценивается по-разному, и при переводе в двух культурах даже в случае словарной эквивалентности знаков ИЯ и ПЯ «высветятся» разные аспекты одного и того же объекта [там же: 69]. Следовательно, ряд смысловых последствий текстовых знаков будет неизбежно «счищен» переводчиком как представителем иной (относительно создания текста ИЯ) культурной среды, причём происходит это далеко не всегда осознанно («зазор»).
В то же время, определенные знаки в универсуме культуры ПЯ, напротив, активизируют в сознании переводчика дополнительные культурноспецифиче-ские коннотации, для рамочного пространства культуры ИЯ и, соответственно, для «намерения» текста ИЯ нерелевантные. Из этого следует, что «намерение» текста ИЯ в пространстве принимающей культуры a priori несоизмеримо с его же «намерением» в рамках исходного коммуникативного универсума и находится с ним в отношениях «разноэквивалентности» (И. Э. Клюканов).
При этом, если наиболее типичные для каждой культуры коннотации, при условии достаточной социокультурной компетенции переводчика, ещё можно установить с определенной степенью объективности, то в рамках ментального лексикона (А. А. Залевская) переводчика (как и любого другого реципиента – как ПЯ, так и ИЯ) каждое слово «обрастает» уникальными субъективно маркированными парадигмами ассоциаций, актуализация которых, равно как и актуализация культурологических коннотаций, происходит в рамках уникального для каждого коммуниканта перформативного контекста дискурса. Следовательно, интердискурсивный «зазор» делает intention operis понятием предельно динамичным, неопределенным и подвижным от реципиента к реципиенту, за счет чего в тексте ПЯ intention operis может быть ретранслировано лишь в «квазиэквивалентном» (И. Э. Клюканов) виде.
Асимметрия художественно-эстетических канонов
Особую значимость формальные элементы (точнее наличие «нормальной» формы – регулярность размера, строфики, рифмы) приобретают на фоне противостояния двух актуальных для современной поэзии канонов – формального стиха и верлибра. Это дает основание полагать, что «приобретенная» семантика (интертекстуальный потенциал) элементов формы в поэзии ХХ-ХХI века не ограничивается рассмотренными выше возможностями (семантический ореол метра и строф, «память» употребления рифм и т.д.) и включает особую эстетическую значимость, которую тот или иной элемент поэтической структуры приобретает, выступая в качестве фоновой метафоры (термин Ю. М. Лот-мана) в контексте актуального для креатора художественно-эстетического канона: он становится маркером и средством реализации авторской концепции эстетического (эстетики противопоставления или тождества). И её ретрансляция составляет обязательное условие поэтического сингармонизма.
Эстетика тождества основывается на следовании известным аудитории и вошедшими в систему «правил» (конвенций, составляющих «фреймы» рецептивных ожиданий) моделям-штампам (см.: [Лотман 1994: 223-234]). Исходя из такой концепции эстетического, креатор выстраивает текст, придерживаясь языковых, жанровых, тематических, этических и иных значимых конвенций, составляющих поэтическую матрицу дискурсивной формации ИЯ, тем самым соблюдая «контракт» с читателем: в силу своей узуальности указанные конвенции напрямую предопределяют процедуры смыслопостроения не только в креативной, но и в рецептивной фазе дискурса (благодаря ожидаемости реализующих эти конвенции коммуникативных структур). При декодировании подобных текстов – при условии достаточной дискурсивной компетенции реципиента (и переводчика) – смысловая девиация креативной и рецептивной проекций «тела» текста, вероятно, будет минимальной. А в случае близости литературных канонов дискурсивных формаций ПЯ и ИЯ минимальным будет и использование адаптационных тактик, так как структурные элементы текстов, основанных на эстетике тождества, обычно входят в фреймы «нормальных» жанровых ожиданий реципиента независимо от его культурной принадлежности.
Вместе с тем, «сильные» тексты [Богатырев 1998; Галеева 1997], способные мотивировать реальную поэтическую рефлексию, имеют противоположный формат – основываются на эстетике противопоставления, в рамках которой главным механизмом реализации авторской интенции и механизмом создания фиксирующих её художественных структур становится принцип нарушения типичных конвенций («минус-приём» Ю. М. Лотмана). Автор, исходя из собственного эстетического целеполагания (т.е. дискурсивной стратегии), ищет пути «отклонения» (discourse как отклонение от курса) от наработанных литературной традицией конвенций и шаблонов.
В результате нарушения внетекстуальной синтактики литературного процесса в информационном канале, заданном привычными для реципиента коммуникативными структурами, появляются неожиданные, неактуальные для его дискурсивной среды «шумы» (см.: [Миловидов 2009]). Основной механизм их создания – приём остранения, суть которого – в затруднении восприятия формы («тела») текста путём постановки той или иной привычной для реципиента (т.е. коммуникативной) структуры в непривычный контекст (см.: [Шкловский 1990]). «Остраненное изображение накладывается на привычное видение, точнее узнавание читателя» [Заика 2006: 48], и рецептивное восприятие коммуникативных структур деавтоматизируется, а сами они деформируются, что вызывает отклонение от логики пресуппозиций, зафиксированных в фреймах ожиданий реципиента. Нарушенным («остраненным») может быть не только непосредственно-близкий контекст литературной традиции (например, эстетика художественной «новизны» модернистов), но и вообще любые параметры искусства как образного осмысления действительности [Миловидов 2003: 146-152].18
В рамках эстетики противопоставления художественный (эстетический, прагматический) эффект заключается именно в эксплуатации деформирующих канон и нарушающих «контракт» с читателем «шумов». Однако, «поскольку контракт не носит всеобщего, обязательного для всех характера, эстетический эффект, возникающий в момент его нарушения, – это эффект субъективно (курсив мой – К. Л.) опосредованный», а «эстетическая значимость текста – феномен, переживаемый субъективно (курсив мой – К. Л.)» [Миловидов 2000: 59].
Следовательно, категории эстетического и художественного (оператор эстетического) подвижны и даже в рамках одной культуры характеризируются множественностью рецептивных реализаций, вплоть до противоположных, а положительная рецепция (либо полное отторжение) авторской реализации эстетического обусловлена моментом её (дис)комфортности в рамках концепции эстетического, актуальной уже для реципиента, со специфическими для него пресуппозициями и жанровыми ожиданиями. Для перевода это положение важно, так как ретрансляция подобной дискурсивной неопределенности в тексте ПЯ и сохранение потенциальной разнородности (множественности) эффекта будет иметь критическое значение – станет условием реализации скриптор-ской «функции-переводчик» (см.: Раздел 1.3).
По этой причине при работе с современной (модернистской и постмодернистской) поэзией, которая по определению основывается на эстетике противопоставления, переводчику не следует «чинить в переводе то, что сломано в оригинале» [Butler 2004], пытаясь нормализовать деформированные за счет «шумов» коммуникативные структуры: переводческая проекция текста не должна быть шаблонной, вписывающей новаторский текст ИЯ в классический канон. Чтобы ретрансляция действительно состоялась, переводчику необходимо выявить случаи нарушения «контракта» – художественные структуры ИЯ, противопоставленные автором канону ИЯ, и подобрать дискурсивно равноценные аналоги (по функции и маркированности в тексте, но не всегда структурно-эквивалентные – по причине языковой и версификационной асимметрии) из репертуара структур дискурсивной формации ПЯ. При наличии определенного дискурсивного сингармонизма между переводчиком и автором и достаточной дискурсивной компетенции переводчика в области литературы ИЯ, данная задача, в целом, вполне выполнима.
Однако переводчик в любом случае столкнется с проблемой объективного характера – проблемой асимметричного соотношения самих художественно-эстетических канонов, актуальных для (ре)креативно-рецептивной среды ИЯ и ПЯ, под действием которых формируются типичные («нормальные») для представителей каждой культуры жанровые экспектации, читательско-скрипторские пресуппозиции и эстетические принципы. При переводе указанная асимметрия может мотивировать использование радикальных адаптационных тактик – нормализации текста, что в контексте современной эстетики и поэтики следует рассматривать как решение, изначально не имеющее целью достижение сингармонизма.
Традиция перевода vs. эстетическое целеполагание переводчика
В проанализированном выше переводе параллельно с радикальной смысловой трансформацией практически полностью «стертым» оказался откровенный эротизм оригинала, причём начиная с самых первых строк. Так, в тексте ИЯ соседи возмущенно стучатся в дверь из-за шума (криков и стонов), который пара производит в кровати («Outraged by the noise we made in bed»), тогда как в переводе причиной становится абстрактное «общение» и не менее абстрактный «шум изнутри» («Обеспокоенные шумом изнутри», «А мы с тобой общались до зари»). Единственная прямая отсылка к Эросу в тексте ПЯ – «пик желания» (при этом «пик желания» и «экстаз» – знаки, все же во многом отличные с точки зрения прагматики и коннотативности). В финальном двустишии сексуальный подтекст также ретранслирован, но в менее радикальной вариации: в строке «...С моей груди ты слизываешь пот», оригинальное «бедро» (thigh) заменяется на менее провокационную «грудь». Одной из причин радикальной смены тональности (с эротической на религиозную), безусловно, стало действие идеологического фильтра (формат нейтрализации), вызванное отсутствием дискурсивного сингармонизма на уровне типичных для дискурсивных сред ИЯ и ПЯ религиозно-этических ценностей.20 Но также здесь можно проследить действие и факторов эстетических, причём как интер–, так и интракультурного порядка.
Во-первых, нейтрализация эротической тональности в тексте ПЯ могла быть вызвана асимметричным соотношением (на жанрово-тематическом уровне) художественно-эстетических канонов, актуальных для дискурсивных формаций культур ИЯ и ПЯ. До недавнего времени «русское эротическое искусство, в гораздо большей мере, чем западное, было элитарным, верхушечным» и, в отличие от «привычной, "истинно-народной" матерщины», воспринималось как «чуждое русским классическим традициям, аморальное и эстетически отталкивающее» [Кон 1996: 28-29]. Соответственно эротическая поэзия в принципе не является канонизированным элементом дискурсивной формации ПЯ. Н. Пальцев также мог посчитать данную особенность текста ИЯ не соответствующей эстетическому идеалу, актуальному для «массового» (не элитарного) реципиента ПЯ: именно усредненные рецептивные экспектации, как правило, и выступают основным мотивационным фактором использования адаптационных техник. Это позволяет считать причиной адаптивных манипуляций отсутствие дискурсивного сингармонизма не только между креативно-рецептив-ными средами ИЯ и ПЯ (на уровне актуального для культур ИЯ и ПЯ эстетического идеала, формируемого под действием моделей художественно-эстетического канона), но и между дискурсивными средами реципиентов самой культуры ПЯ (различие концепций эстетического, актуальных для каждого реципиента ПЯ).
Более того, ряд переводов из двух новейших переводных антологий [В двух измерениях 2009; Современная американская поэзия 2007] дает основания рассматривать нейтрализацию эротических смыслов в качестве определенной нормативной тенденции, сложившейся в рамках современной традиции поэтического перевода, которую образно можно определить как своего рода переводческую «стыдливость» или «жеманство» (по аналогии с термином «языковое жеманство»). Примерами реализации данной тенденции могут служить переводы стихотворений британской поэтессы П.Пети, скандально известной за откровенные сексуальные импликации, в особенности перевод стихотворения «Noon in the Orchid House» [В двух измерениях: 352-353] (см.: Приложение19). В рамках указанной тенденции можно выделить не только нейтрализацию, но и иные, менее радикальные по степени инновативности типы адаптации – архаизацию, как, например, в переводе «First Poem for You» К. Аддонизио [Современная американская поэзия 2007: 316-317] (см.: Приложение 20), и обобщение, как в переводе «Aubade» Т.Стила [Современная американская поэзия 2007: 120-121] (см.: Приложение 21).
Проблема заключается в том, что, во-первых, ретрансляцию «остраняю-щих» аспектов текста ИЯ, к которым, в частности, относится эротическая тональность, при переводе современной лирики следует считать обязательной – с точки зрения реализации эстетики противопоставления. Во-вторых, ориентация исключительно на «массового» реципиента, чьи художественно-эстетические экспектации обычно основаны на моделях художественно-эстетического канона, без учёта дискурсивной компетенции реципиента элитарного, препятствует возможности сохранения множественности эстетического эффекта, а соответственно и реализации стратегии скрипторской ретрансляции, которая была определена нами в качестве оптимальной стратегии поэтического перевода.
Кроме того, художественно-эстетический канон, в силу своей консервативности, далеко не всегда отражает реальную литературную ситуацию в культуре ПЯ. Между тем, конвенции, сложившиеся в рамках переводческой традиции, как правило, опираются на требования именно национального литературного канона. При этом сама переводческая традиция, по сравнению с каноном, является ещё более консервативной: как отмечает Г. М. Кружков, хотя «переводческие традиции и конвенции не являются чем-то окаменевшим и вечным», их изменение происходит «лишь тогда, когда они подтверждаются реальными (курсив мой – К. Л.) художественными достижениями» [Кружков 2011 URL]. Переводчики же, при выборе стратегии перевода в той или иной степени всегда придерживаются ряда конвенций переводческой традиции.21 С этой точки зрения, переводы, основанные на использовании адаптационных тактик, направленных на нормализацию би-текста в соответствии с конвенциями переводческой традиции, в сущности, приводят к консервации культуры ПЯ, что, во-первых, препятствует реализации параметра эффективности (см.: Раздел 1.3), а также искажает саму сущность перевода как действенного средства диалога культур, ведущего к постепенной эволюции культуры ПЯ.
Действие принципа консерватизма канона литературы ПЯ и основанной на нем традиции перевода достаточно подробно описано в полисистемной теории И.Ивен-Зохара [Even-Zohar 2000]. Суть её заключается в следующем.