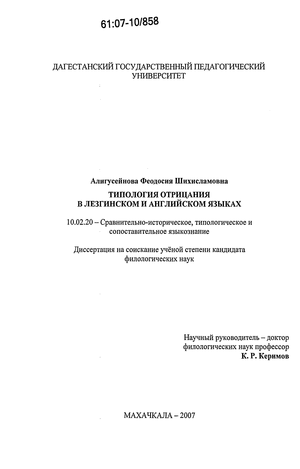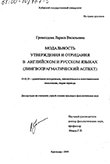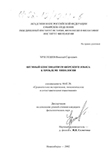Содержание к диссертации
Введение
Гл. 1. Концепции отрицания и аспекты его сравнительно-типологического изучения ...
1.1. Концепции отрицания в формальной логике
1.2. Сходства и различия между логическим и грамматическим отрицанием
1.3. Основные лингвистические концепции отрицания
1.4. Аспекты сравнительно-типологического изучения отрицания...
Гл. 2. Типы отрицания и их выражение в лезгинском и английском языках
2.1. Средства выражения отрицания английского языка
2.2. К описанию отрицания в лезгинском языке
2.3. Общее и частное отрицание в английском и лезгинском языках
2.4. Смещённое отрицание в английском и лезгинском языках
2.5. Кумулятивное отрицание
2.6. Типологические ряды английского и лезгинского языков по характеру грамматического отрицания
Заключение
Список использованной литературы
Список используемых сокращений
- Концепции отрицания в формальной логике
- Основные лингвистические концепции отрицания
- Средства выражения отрицания английского языка
- Общее и частное отрицание в английском и лезгинском языках
Введение к работе
Отрицание - это элемент значения предложения, который указывает, что связь, устанавливаемая между компонентами предложения, по мнению говорящего, реально не существует (A.M. Пешковский) или что соответствующее утвердительное предложение отвергается говорящим как ложное (Ш. Балли) [ЛЭС 1990: 354]. Отрицание относится к числу свойственных всем языкам мира исходных, семантически неразложимых смысловых категорий. Оно может выражаться различными средствами как в разных языках, так и в одном отдельном языке: отрицательными словами и частицами (лезг. ваъ 'нет', туш 'не есть, не является кем-чем-пибо\ рус. не, ни, англ. not, по и др.), синтетическими или аналитическими отрицательными формами глагола (лезг. кіелзава 'читает, учится' - кіелзавач 'не читает, не учится'; англ. I don't want 'Я не хочу'), может входить в само значение слова, т.е. быть внутрилексемным (рус. отказаться = 'не согласиться', англ. fail 'не преуспеть', лезг. къадагъа авун 'запрещать' = их-тияр тагун 'не давать разрешения'), быть подразумеваемым значением целого предложения, выражаемым при помощи интонации, порядка слов и др. (рус. Много ты понимаешь! = Ты этого не понимаешь; лезг. Низ герек я куь зегьметар?! 'Кому нужен ваш труд?!' = Куь зегьметар садазни герек туш 'Ваш труд никому не нужен').
Уже эти примеры показывают, что построение отрицательных высказываний в английском, лезгинском и русском языках имеет значительные расхождения, что может приводить к затруднениям лингводидактического плана при изучении английского языка носителями лезгинского языка, при переводе с одного языка на другой. Такие расхождения могут приводить к интерференции (от лат. intet 'между собой, взаимно' nferio 'касаюсь, ударяю'), т.е. столкновению способов построения отрицательных высказываний взаимодействующих языков.
Для преодоления затруднений при построении отрицательных высказываний особенно важно преодолеть интерференцию на уровне моделей построе-
ния отрицательных предложений, т.е. грамматическую интерференцию. Грамматическим считается такое отрицание, которое выражается отрицательной формой глагола или отрицательным словом в составе предложения. Т.е., грамматически отрицательное предложение создаётся при помощи отрицательной формы глагола и / или отрицательного слова.
Отрицательные формы глагола также могут создаваться различно: при помощи отрицательных частиц типа рус. не, англ. not или при помощи аффиксов типа лезг. - ч,та- (ихтияр ганач 'не разрешил (разрешения не дал)', ихтияр тагана 'не разрешив (разрешения не дав)', ихтияр гумир 'не разрешай (разрешения не давай)'). В функциональном плане отрицательные частицы русского, английского или французского языков равноценны отрицательным аффиксам таких языков, как лезгинский.
В хорошо исследованных языках, таких, как английский или русский, средства выражения отрицания типологизированы по содержательным и структурным признакам, т.е. проведена внутриязыковая типологизация отрицания. Выделены такие его разновидности, как общее и частное отрицание и др. Типологическое исследование отрицания проводится также в межъязыковом плане. Например, в [Гак 1989: 202-203] языки типологизируются по тому, как в них комбинируются различные грамматические средства выражения отрицания. Рассматриваются возможные варианты взаимодействия отрицательных частиц и слов в предложении в том или ином языке. По отношению к этому признаку выделяются языки одного отрицания, где при наличии отрицательного слова отрицательная частица при глаголе не употребляется (англ.: Nobody has come 'Никто не пришёл'; / have not соте 'Я не пришёл'), языки одного или двух отрицаний, где при наличии отрицательного слова обязательна и отрицательная частица, но при отсутствии отрицательного слова употребляется только одна отрицательная частица (рус: Никто не пришел, Я не пришел), языки двух отрицаний, где отрицательное слово требует отрицательной частицы, но при отсутствии отрицательного слова частица подкрепляется другой, полновесной
частицей, т.е отрицание всё же дублируется (франц.: Personne n'est venu 'Никто не пришёл'; Je пе suispas venu 'Я не пришёл').
В отличие от английского и других упомянутых выше языков, в лезгинском и других дагестанских языках отрицание не исследовано ни в плане внутриязыковой типологии, ни в плане межъязыковой. И то, и другое представляет научный интерес для лезгинского и в целом дагестанского языкознания, а также для решения задач типологической и контрастивной лингвистики, и поэтому избрано предметом исследования настоящей диссертации. Объектом изучения являются высказывания, в состав которых входят грамматические средства выражения отрицания.
Опыт специального внутриязыкового или межъязыкового описания типов отрицания в лезгинском языке отсутствует. В работе [Шейхов 2004: 155-158] представлена первая попытка такого описания лезгинского отрицания в сопоставлении с русским языком. Однако в книге Э.М. Шейхова отрицанию отведено всего четыре страницы. Из типов отрицания рассматриваются только общее и частное отрицание, на ограниченном материале охарактеризованы лишь некоторые их разновидности. Аналогичное положение имеет место и в описании синтаксических типов отрицания в других дагестанских языках. Как правило, в грамматических исследованиях по ним анализ отрицания ограничивается экспликацией отрицательных форм в рамках описания морфологической парадигмы глагола. Внутриязыковому описанию отрицания в даргинском языке посвящена кандидатская диссертация Р.Ш. Ибрагимовой «Категория отрицания и её выражение в даргинском языке» [2004]. В ней тоже основное внимание уделено морфологическим отрицательным формам. В целом в дагестанском языкознании и, в частности, лезгиноведении не выработаны теоретические подходы к описанию отрицания.
Исследование содержательных и структурных типов отрицания в лезгинском языке необходимо для восполнения существенного пробела в его описании, т.е. для составления его более полных и качественных теоретических и
практических грамматик. С другой стороны, экспликация типов выражения отрицания лезгинского языка позволит определить, в какие типологические ряды может входить этот язык по тому, как в нём строятся отрицательные конструкции. Знание типологических параметров отрицания в лезгинском языке, в свою очередь, позволяет находить объяснение сходств и различий в выражении отрицания между лезгинским и английским (или каким-либо др.) языками при их контрастивном описании для решения задач лингводидактики и перевода.
Приведенные аргументы позволяют говорить об актуальности темы настоящей диссертации "Типология отрицания в лезгинском и английском языках" для получения лингвистических знаний, способствующих:
преодолению существенного пробела в исследовании лезгинского языка в части описания и типологизации его содержательных и структурных моделей построения отрицательных высказываний;
расширению и углублению представлений о формах языкового оформления логико-грамматической категории отрицания в целом путём введения в лингвистический оборот представленных в лезгинском языке способов выражения различных типов отрицания;
получению данных контрастивного плана о специфике сравниваемых языков в выражении того или иного типа отрицания, а также о ближайших межъязыковых коррелятах, которые могут найти применение в лингводидакти-ке и в переводческой работе и др.
Для достижения указанных выше целей в работе проводится комплексный контрастивный анализ грамматических способов выражения отрицания в английском и лезгинском языках. Осуществление такого анализа потребовало решения следующих задач:
1. В связи с тем, что внутриязыковое и межъязыковое типологическое изучение отрицания является для лезгинского и в целом дагестанского языкознания относительно новым, мы считали необходимым изложить разработанные в языкознании основные положения по теории отрицания и типологии со-
держательных и структурных разновидностей отрицательных предложений. Поэтому перед типологизациеи отрицательных конструкций лезгинского языка решается задача экспликации существующих теоретических интерпретаций отрицания в общелингвистическом плане и в сопоставляемых в данной работе языках;
Системное исследование грамматических средств выражения отрицания лезгинского языка, описание содержательных вариантов отрицания на уровне предложения, определение их типологических параметров;
Соотнесение отрицательных конструкций лезгинского языка с соответствующими конструкциями английского языка на основе содержательных типов отрицания (общее и частное отрицание и др.), выявление тем самым специфических черт (контрастов) и межъязыковых коррелятов при выражении того или иного типа отрицания в сравниваемых языках.
Определение типологического ряда, к которому может быть отнесён лезгинский язык (к языкам одного, одного или двух, двух отрицаний) по тому, как в нём комбинируются грамматические средства выражения отрицания.
Научная новизна настоящей работы заключается в том, что в ней впервые в лезгинском (и дагестанском) языкознании рассматриваются вопросы теории отрицания, внутриязыковой и межъязыковой типологии грамматических способов его выражения. Сопоставительное (контрастивное) исследование отрицания на материале одного из дагестанских языков и английского языка также проводится впервые.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные в ней лингвистические знания позволят создать более полные и современные теоретические и учебные грамматики лезгинского языка.
Как показывают предварительные наблюдения, выражение отрицания в лезгинском языке очень отличается от его выражения в английском или русском языках. Так, в лезгинском языке наблюдается тенденция специализации
морфем, образующих отрицательные формы глагола. Отрицательные формы сказуемого в основном образуются агглютинативным суффиксом - ч (-ч-), а отрицательные формы зависимых предикатов образуются чаще при помощи префиксальной морфемы т - (д-). Ср. например: (1) Ягъай хьел кьулухъ элкьеедач (поел.) '» Слово не воробей - вылетит, не поймаешь (доел.: Выпущенная стрела назад не возвращается1); (2) Ам дахьайтіа, вичи ризкъи неч лугьуда (Е.Э.) 'Говорит, что без любимой, он и есть ничего не будет (доел.: Её не будет если, сам пищу не будет есть говорит'). Частично такая специализация аффиксов соответствует делению отрицания на общее (-ч // -ч -) и частное (т- II д-). Хотя тот факт, что отрицательным является зависимый предикат, а не главное сказуемое полипредикативного предложения, ещё не означает, что отрицание является частным, а не общим. Выявление условий и причин нарушения этой тенденции может дать новые знания о способах оформления отрицания. Описание сходств и различий между формами грамматического выражения отрицания в языках, принадлежащих к разным типам и генетическим классам, пополнит новыми знаниями теорию и типологию грамматической категории отрицания.
Практическая ценность результатов диссертации вытекает из их новизны и теоретической значимости. Полученные данные могут найти применение в преподавании английского языка в дагестанских вузах и школах, в вузовских курсах по лингвистической типологии, сопоставительным грамматикам английского и дагестанских языков, в разработке теоретических и учебных грамматик собственно лезгинского языка, а также в переводческой работе.
Решению задач, стоящих перед диссертацией, отвечают метод и приёмы сопоставительного (контрастивного) языкознания. Этот метод обычно определяют как имеющий "дело с попарным сопоставлением языковых систем (структур) на всех уровнях вне зависимости от генетической и типологической принадлежности сопоставляемых языков с целью выявления их структурных и функциональных особенностей, сходств и различий (контрастов)" [Нерознак
1986: 409]. Такие исследования подчинены в основном задачам прикладного характера - разработки стратегии обучения какому-либо из сравниваемых языков, теории перевода и др. При решении таких задач одинаково ценными являются и сходства, и различия между языками.
Именно контрастивный (сопоставительный) метод в изложенном понимании реализуется и в работах В.Д. Аракина «Сравнительная типология русского и английского языков» [1979] и В.Г. Гака «Сравнительная типология французского и русского языков» [1989], известных в отечественной теории и практике преподавания иностранных языков. Этот же метод используется в книге Э.М. Шейхова «Сравнительная типология лезгинского и русского языков» [1993]. Дефиниция сравнительная типология в названиях этих исследований подчёркивает тот момент, что при выявлении сходств и различий между сравниваемыми языками авторы отталкиваются от типологических параметров этих языков. Опора на типологические свойства сопоставляемых языков позволяет найти объяснение обнаруживаемым различиям и сходствам между ними. Поэтому в целом и термин сравнительная типология в названиях работ такого плана укладывается в рамки контрастивного (сопоставительного) метода. Вернее, мы бы определили соотношение этих терминологических определений следующим образом: сравнительная типология английского и русского (или каких-либо иных) языков - это результат, т.е. полученное контрастивным (сопоставительным) методом описание сходств и различий, обусловленных типологическими свойствами этих языков.
Некоторые исследователи подчёркивают направленность сопоставительного метода на выявление наиболее важных различий в языках. Например, А.А. Реформатский [1962: 23-24], Б. Уорф [1960: 102]. При таком акценте сопоставительный метод более ценен для лингвистической типологии. В таком случае, на наш взгляд, больше будет подходить термин контрастивный. В нашей работе термины контрастивный и сопоставительный используются как синонимичные. Сопоставительный метод даёт возможность рассмотреть язык "снару-
жи", и тем самым отчётливо видеть черты своеобразия, остающиеся вне поля зрения при его изучении "изнутри" [Балин 1987: 4]. Этот метод даёт возможность глубже проникнуть в системы каждого из сравниваемых языков в целях их теоретического описания, а также получения данных общелингвистического плана.
Контрастивное (сопоставительное) исследование языков может осуществляться с применением двух подходов. В одном случае рассматривают набор сходных форм в двух языках и затем определяют выражаемые ими значения ("от формы к значению"), в другом - берут какую-либо категорию и выясняют формы её передачи в двух языках ("от содержания к форме") [Ярцева 1981: 33]. Для изучения как структурных, так и смысловых черт сравниваемых языков и выявления их специфических особенностей целесообразным считается сочетание обоих этих подходов. В данной диссертации совмещаются эти два подхода.
Когда сравнивают явления различных языков, предполагают, что сопоставляемые элементы имеют какое-либо базовое сходство [Нерознак 1986: 402; Ярцева 1981: 9; Кацнельсон 1983: 10 и др.]. Сопоставительный анализ показывает, какими языковыми средствами каждый язык выражает какой-либо универсальный для них содержательный элемент, общую базу для сравнения. Поэтому сначала нужно найти такую "общую, эквивалентную, определяемую базу для сопоставляемых структур разных языков" [Ярцева 1986: 8]. Такой базой, опорой для сравнения грамматических элементов разных языков могут служить представленные в обоих сравниваемых языках и взаимопереводимые семантические категории. Как пишет Г.А. Климов, "именно семантический фактор позволяет ... найти определённые основания для сопоставления формальных средств самых разных языков" [1983: 14]. В нашей работе таким основанием сравнения служат логико-информативные и структурные разновидности отрицания, такие его содержательные и структурные типы, как общее и частное, кумулятивное, смещённое, морфологическое и синтаксическое отрицание и др.
Под типологией отрицания в лезгинском и английском языках в настоящей работе понимается, с одной стороны, описание типов грамматического оформления отрицания в лезгинском и английском языках и выявление межъязыковых коррелятов по отношению к логико-информативным разновидностям отрицания, имеющим межъязыковой характер. С другой стороны, определение типологического ряда, в который может входить лезгинский язык по характеру комбинирования грамматических средств выражения отрицания согласно имеющимся типологиям языков по этому параметру (ср. типологию языков по этому признаку в [Гак 1989: 202-203]).
Русский язык служит часто языком-посредником при обучении английскому языку носителей лезгинского и других дагестанских языков. Следовательно, ставя задачу сравнительно-типологического изучения отрицания лезгинского и английского языков в теоретических и в лингвометодических целях, мы естественным образом обращаемся и к материалу русского языка. Кроме того, русский язык служит в нашем исследовании и метаязыком толкования фактов сравниваемых лезгинского и английского языков, а часто также языком се-мантизации фактов английского языка в лезгинской аудитории. Поэтому, хотя основной целью нашей работы является сопоставление отрицания в лезгинском и английском языках, мы нередко отталкиваемся при этом от фактов русского языка. Часто именно они выполняют роль того самого основания сравнения {tertium comparationis), о котором говорилось выше, и поэтому естественным в нашей работе является обращение к теории отрицания и на материале русского языка.
Теоретической базой диссертации являются грамматические описания лезгинского, английского и русского языков, труды российских и зарубежных лингвистов по теории грамматической категории отрицания, исследования по сопоставительному языкознанию и лингвистической типологии.
Анализируемые примеры на английском и русском языках взяты из текстов художественной литературы и публицистики. Используются также фразо-
вые примеры, которые рассматриваются при обсуждении соответствующих вопросов в цитируемой теоретической литературе. Источниками материала по лезгинскому языку послужили тексты художественной и публицистической литературы, фольклор, учебники практического курса лезгинского языка, языковой опыт автора диссертации.
Основные результаты диссертации апробированы в статьях "К типологии отрицания в лезгинском и английском языках", "Общее и частное отрицание в лезгинском и английском языках", "Кумулятивное отрицание в русском, лезгинском и английском языках", "Смещенное отрицание в лезгинском и английском языках", "Структурно-семантические типы отрицательного предложения лезгинского языка в сопоставлении с английским и русским языками" и других публикациях.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и используемых в работе сокращений.
Концепции отрицания в формальной логике
В философии, логике и языкознании сложился целый ряд теоретических концепций, различно интерпретирующих сущность категории отрицания. Правильнее будет, видимо, говорить, что эти концепции трактуют отрицание с разных сторон. Такая возможность обусловлена многогранностью самой категории отрицания, являющейся предметом научного интереса философии, формальной логики, психологии, грамматики, семантики, а также таких современных направлений языкознания, как прагматика, психолингвистика, когнитивистика.
С другой стороны, многообразие концепций отрицания связано с тем, что эта языковая универсалия может быть выражена средствами разных уровней языковой системы не только в разных языках, но и в рамках одного и того же языка. Отрицание может выражаться и в отсутствие самой отрицательной формы, имплицитно. Как отмечается в [Leech 1983: 159], коммуникативная функция отклонения может быть реализована дискурсом и без отрицательного элемента, такой дискурс идентичен отрицанию. Эти свойства категории отрицания обусловили и возможность его описания в виде функционально-семантического поля (ФСП) согласно концепции полевой модели грамматики А.В. Бондарко и др., как, например, в [Борзенок 1998: 61-125].
Концепции логико-грамматической категории отрицания принято делить на формально-логические и лингвистические [ср.: Бондаренко 1983; Борзенок 1998 и др.], или же группируют без разграничения их на лингвистические и нелингвистические [Сызранцева 1995; Пилатова 2002 и др.]. Например, в [Сыз-ранцева 1995] концепции отрицания разделены на онтологические, гносеологические и психологические, а в [Бондаренко 1983] психологическая концепция выделяется и для формально-логического, и для лингвистического направлений. В [Пилатова 2002] различные взгляды на отрицание рассматриваются в рамках логико-грамматического, психологического, прагматического и когнитивного направлений языкознания.
В центре внимания формально-логических концепций находится философский вопрос об объективном смысле (реальном референте) отрицания, т.е. о том, что в действительности соответствует языковому содержанию отрицательного высказывания. Являются ли, например, предложения типа Воды не будет сегодня и Вода будет не сегодня вариантами одного и того же по смыслу предложения, или это разные по содержанию предложения. Предложение Вода будет не сегодня может трактоваться и как утвердительное (то, что вода будет, не отрицается), и как частноотрицательное (отрицание относится не к сказуемому). Единые основания для разграничения отрицательных и утвердительных предложений отсутствуют.
Другое обстоятельство, обусловливающее трудность в определении объективного смысла отрицательных предложений - это имеющее широкое распространение понимание отрицания как выражения идеи отсутствия. Однако отразить в содержании предложения то, чего нет в реальной действительности, вряд ли возможно. В конечном итоге, такое понимание тоже, как видим, связано с вопросом о реальном референте отрицания.
Общепринятого ответа на вопрос о сущности отрицания в философии и логике нет. В реальной действительности логическому отрицанию соответствуют отношения небытия или инобытия. Обсуждая концепции формально логического отрицания, В.Н. Бондаренко рассматривает отрицательное суждение как форму выражения знания о ложности или истинности определенной мысли, как способ опровержения предшествующей мысли [Бондаренко 1983: 44-48]. Это означает, что формально-логическое отрицание является оператором, превращающим ложное утвердительное суждение в истинное отрицательное суждение и наоборот. Различные формально-логические концепции отрицания по-разному трактуют сущность отрицания. Приведём эти трактовки в кратком изложении с опорой на [Бондаренко 1983]. Согласно концепции особой отрицательной реальности, в отрицательных суждениях говорится об особой отрицательной реальности, или небытии. В категорию небытия древние философы включали такие понятия, как несуществование, отсутствие, различие и некоторые другие разновидности небытия. Концепция особой отрицательной реальности создавалась ещё древнеиндийскими философами, которые исходили из признания реальности и бытия, и небытия. Философы школы вайшешики разделяли все объекты на два класса -бытие и небытие. В класс бытия включались «положительные реальности», т.е. предметы материального мира, а в класс небытия - «отрицательные», т.е. несуществующие, отсутствующие вещи. Небытие реально. Смотря на небо, вы столь же уверены в несуществовании там Солнца, как и в существовании Луны и звезд. На этом основании под отрицательной реальностью вайшешики понимали небытие. Небытие бывает двух видов: 1) означающее отсутствие чего-либо в чем-то другом (форма суждения «S есть не в Р») и 2) означающее то, что одна вещь не является другой вещью, т.е. отличие одной вещи от другой (форма суждения «S не есть Р»). Если первый вид небытия означает отсутствие связи между двумя вещами, то второй вид обусловливает отличие одной вещи от другой. Когда одна вещь отличается от другой, они взаимно исключают друг друга. Стол отличается от стула. Это означает, что стол не существует как стул, или, проще говоря, стол - это не стул. Это может быть выражено в суждении Стол не есть стул. Противоположное этому положение означает именно тождественность, схожесть этих вещей.
Представители и других древнеиндийских школ считали, что небытие отражается так же непосредственно, как и бытие. Восприятие дает нам как существующее, так и несуществующее (с помощью органов чувств мы воспринимаем как существование, так и несуществование чего-либо). Отсутствие, или небытие, понималось как особое свойство вещей. Оно конкретно и является объектом отрицательной мысли. В учении о непосредственности познания небытия в восприятии признавалось, что отрицательные суждения ничем не отличаются от утвердительных [Рой 1958: 398; Инголлс 1974: 58-59].
Почти все древнеиндийские философы исходили из признания реальности не только бытия, но и небытия как свойства объектов, сознавая, что без признания реальности последнего невозможно понять «ни процесс изменения и развития, ни факт количественного многообразия явлений природы» [Бродский 1959а: 61]. В их учении среди категорий реальности была выделена «отрицательная» категория небытия (небытия предмета или его признака) с двумя её основными разновидностями - отсутствия и различия. Категория небытия, отсутствия (реального несуществования), различия признавалась онтологическим объектом отрицательных суждений, которые понимались при этом как ничем не отличающиеся от утвердительных суждений.
Основные лингвистические концепции отрицания
Из концепций отрицания в [Пилатова 2002: 10-15] первым рассматривается логико-грамматическое направление в изучении отрицания (логико-грамматическая концепция отрицания). Эта концепция является первой по времени возникновения, самой разработанной и распространённой и, в определённом смысле, базовой. Остальные концепции, на наш взгляд, хотя иногда и противоречат логико-грамматической концепции в трактовке даже самой сути отрицания (например, психологическая концепция в вопросе о его реальном референте), тем не менее, лишь характеризуют различные аспекты этой категории, расширяя представления о ней. Основные положения логико-грамматической концепции изложены в предыдущем параграфе при обсуждении сходств и различий между логическим и грамматическим отрицанием. Здесь лишь дополним тезис о том, что логико-грамматическая концепция определяет отрицание как выраженный в языке элемент смысла суждения, имеющий объективное основание.
Объективность заключается в том, что утверждение и отрицание интерпретируются как нечто существующее или несуществующее, присущее или неприсущее предмету мысли в действительности, а также как истинное или ложное [Айзенштадт 1949; Трунова 1978 и др.]. При этом подчеркивается необходимость отличать от отрицания как отражения идеи несуществования отрицание как способ опровержения ложного высказывания [Гетманова 1972]. Второе отрицание является чисто мыслительной операцией, не соотносящейся с предметами объективной действительности. Оно вторично по отношению к утверждению и используется исключительно для опровержения уже высказанного или подразумеваемого утверждения. Поэтому такие отрицательные суждения -это только суждения о суждениях. Это форма выражения знания о ложности определенной мысли. По мнению ряда исследователей, смысл такого высказывания можно свести к структуре «Неверно, что ...» [Лосский 1912; Минкин 1963; Падучева 1974 и др.].
Некоторые исследователи считают, что областью действия отрицания является логическая связка. По мнению Н.Д. Арутюновой отрицание аннулирует отнесённость предиката к субъекту, снимает связь [Арутюнова 1998: 832]. Большое значение придавал логической связке и Аристотель, который делил суждения на утвердительные и отрицательные по качеству связки. Отрицание, по его мнению, относится только к связке [Аристотель 1976]. A.M. Пешковский пишет о синтаксической связке. Отрицание, по его мнению, это элемент значения предложения, который указывает на отсутствие связи между компонентами предложения. «Сущность этой категории ... с синтаксической точки зрения сводится к тому, что связь между теми или иными двумя представлениями при по мощи этой категории сознается отрицательно, т.е. сознается, что такая-то связь, выраженная такими-то формами слов и словосочетаний, реально не существует» [Пешковский 1956: 386]. Аналогичной точки зрения придерживается Г.Г. Почепцов. Он рассматривает категорию отрицания как отрицание предикативной связи между подлежащим и сказуемым [Почепцов 1981: 181].
Однако отрицание может относиться не только к глаголу-сказуемому, но и к любому другому члену предложения. Осознание этого привело к разграничению общего (при сказуемом) и частного (при других членах предложения) отрицания. Но, по мнению таких исследователей, как J1.A. Новиков, В.З. Панфилов, и в общеотрицательных, и в частноотрицательных предложениях отрицание является основой предикативности. Под предикативностью они понимают категорию, характеризующую все предложение, в котором она (предикативность) привязана к члену предложения, выражающему логический (не синтаксический) предикат. Например, в высказывании Ты купил петрушку, а не кинзу логический смысл - это не есть кинза, а синтаксический предикат - купил. Качество суждения определяется не по характеру его структуры на синтаксическом уровне, а по характеру структуры логико-грамматического уровня [Новиков 1974; Панфилов 1982]. Кроме того, отрицательные языковые формы не всегда выражают логическое отрицание. И, наоборот, положительные языковые формы могут выражать логическое отрицание - отрицательные понятия. Напр.: слова priceless и invaluable - означают положительные понятия, а именно precious дорогой, любимый ; single холостой - unmarried холостой, неженатый [ср.: Падучева 1979; Бондаренко 1983].
Референт утверждения и отрицания находится в самой действительности в виде существования или отсутствия, а также в виде наличия или отсутствия связи между предметами, явлениями или понятиями. В отрицательном высказывании разъединяется в мыслях то, что разъединено в действительности. Лингвистическая категория «отрицание» отражает отсутствие предметов, явлений и их признаков, а также отсутствие данного вида связей между предметами действительности (А.И. Смирницкий, Л.П. Чахоян, Н.Д. Арутюнова и др.)- Логическим содержанием языковой категории отрицания являются небытие, инобытие, различие и др. В содержание языкового отрицания могут входить и другие частные денотативные значения, например, несогласие, возражение, опровержение, отказ, запрет, протест и т.п. [Бондаренко 1983: 76-78].
Представители психологической концепции отрицания в языкознании рассматривали его как чисто субъективное проявление человеческой психики. К этому направлению относятся такие исследования, как [Ginneken 1907; Delbruck 1910; Есперсен 1958; Потебня 1958; Пауль 1960; Wierzbicka 1976 и др.]. Ж. Гиннекен полагал, что значение отрицания заключается в выражении чувства сопротивления или запрета относительно чего-то положительного. Б. Дельбрук характеризовал отрицание как знак того, что ощущается противоречие между ожидаемым или вообще возможным и действительным. Г. Пауль видел в отрицании выражение того, что попытка установить связь между двумя представлениями не удалась. В трактовке О. Есперсена сущность отрицания также определяется не объективными, а субъективными факторами, чувствами сопротивления, отвращения и т.п. [Есперсен 1958: 34].
Средства выражения отрицания английского языка
Прежде чем приступить к контрастивно-типологическому анализу структурно-семантических типов отрицания, рассмотрим в кратком изложении морфологическую классификацию средств отрицания английского языка и обзор интерпретаций средств отрицания лезгинского языка в его грамматических описаниях. Отрицание в английском языке достаточно хорошо изучено как в формально-грамматическом, так и в семантическом отношении. Отрицание в лезгинском языке изучалось до настоящего времени в основном в формально-грамматическом плане.
Классификация, средств выражения отрицания связана с определением языковых уровней, к которым относятся те или иные единицы отрицания. Как уже отмечалось, средства выражения отрицательного значения могут быть эксплицитными и имплицитными.
Эксплицитное отрицание имеет материальную морфологическую или синтаксическую форму. Инвентарь эксплицитных средств выражения отрицания английского языка подробно описан в лингвистической литературе.
К ним, во-первых, относятся отрицательные по значению слова с отрицательными аффиксами и словообразовательными морфемами: de-, dis-, ab-, in-, ir-, il-, поп-, mis-, un-, -less, never-, no-, not-, -not [Зернов 1983: 154; Харитончик 1992: 166]. Например: to disagree, abnormal, inadequate, irregular, nonchalant, to misunderstand. Это - морфологический способ выражения отрицания. Сущность отрицания наиболее чётко выражается приставкой dis-: disallow, disbelief. Приставка de- встречается в неологизмах, например, default, demerit. Non используется с отглагольными существительными, например, nonsense, nonresistance. Префикс a- / an- трактуется как отрицательный в словах, заимствованных из греческого языка. Например, в таких антонимичных парах, как moral - amoral, наряду с immoral, unmoral, nonmoral [Юхт 1983]. Отмечается, что отрицатель 74
ные аффиксы показывают, что признак или явление, указанные в основе, не существуют в описываемой действительности. Отрицательные аффиксы относятся к единицам лексического уровня, им обычно сопутствуют коннотации. Единицы отрицания лексического уровня не относятся к грамматическим средствам конструирования отрицательных предложений. Аффиксы служат для образования отрицательных понятий [Арнольд 1981: 116-118].
К грамматическим средствам выражения отрицания традиционно относят отрицательную частицу not. Различают отрицательные формы вспомогательного и смыслового глаголов, образуемые с помощью частицы not [Ковалев 1941; Бойко 1952; Трофимов 1952 и др.]. Частица not органично входит в систему словоизменительных форм глагола. Поэтому в разговорной речи она представлена сокращенной формой. Редуцированная форма отрицательной частицы n t обладает меньшей выразительностью значения и слабее полной формы not.
Несколько иначе трактует эту единицу отрицания Е.С. Падучева. Она относит not к числу так называемых «отрицательных слов» [Падучева 1974]. Её точку зрения разделяет В.В. Юхт, который отмечает, что частица not является предикативным негатором (did not), отрицательной частицей (not him) и может выступать в роли словообразовательной морфемы (not-being, not-self) [Юхт 1983:11].
К эксплицитным средствам выражения отрицания относят отрицательное местоимение по и образованные при его помощи nobody, none, по one, nothing, neither, а также отрицательные наречия never, nowhere, nohow. Эти единицы служат для отрицания наличия объекта или признака вообще [Quirk et al. 1985: 782; Киселёва, Кожухова 1992: 36 и др.]. К ним примыкают также nothing, попе, noplace, по way, по dice, по sale, по sir eel, по soap, по chance /not a chance, nothing doing. Эти единицы зафиксированы в современной английской речи. В роли отрицательного местоимения используется слово nought, например, to bring to nought, to come to nought. Частица not и местоимение по, из всех единиц негативной семантики, выражают отрицание в наиболее «концентрированном» виде. Поэтому их можно считать прототипическими средствами выражения отрицания. Под прототипом понимается основной, самый яркий представитель класса семантически однородных единиц. Различие между not и по заключается в следующем. Местоимение по выражает более «сильное» отрицание, чем соответствующие единицы с not, ср.: Не know nothing. - Не didn t {did not) know anything. В [Cheshire 1998: 130-131] эти разновидности обозначены как отрицания типа not и типа по.
Местоимение по может функционировать и как слово-предложение (отдельно стоящее No), и как отрицательная частица, и как словообразовательная морфема {no-go, no-load, no-glare) [Юхт 1983: 10]. Как отмечается в диссертации В.Н. Пилатовой, по иногда функционирует и как междометие {Oh, по!) [2002: 39].
Частица по в наиболее обобщенном и отвлеченном виде передает значение отрицания, когда используется в изолированном виде, равном слову-высказыванию. В предложении частица по служит для частного отрицания явления, выраженного именем существительным или его заменителем one. Экспрессивными эквивалентами слова No выступают такие устойчивые словосочетания, как Not at all. Not in the least. Not a bit. Их употребление придает отрицанию более категоричный характер [Рипинская 1993:98].
Относительно наречия never в литературе [Cheshire 1998; Юхт 1983] отмечается, что оно по семантике и синтаксическим функциям приближается к специализированному синтаксическому средству - предикатному негатору. Оно превращается в своеобразный показатель акцентированного отрицания.
В [Пилатова 2002] обращается внимание на употребление наречия ever с частицей not. Автор уточняет точку зрения Э. Клима о том, что использование в речи ever аналогично использованию местоимения any: оба они употребляются в отрицательных, вопросительных и ограничительных высказываниях [Klima 1964: 280]. В.Н. Пилатова считает, что в отличие от any, наречие ever редко встречается в отрицательных высказываниях. А образованное от него наречие never употребляется в отрицательных высказываниях довольно часто. Отрицательное наречие never, как отмечается в [Cheshire 1998: 131-132], обладает большей выразительностью, чем сочетание not ever.
К эксплицитным средствам выражения отрицания относятся также союзы nor, nor ... nor, neither, neither ... nor. В отличие от русского союза ни ... ни, который только усиливает перечисление и не является собственно отрицательным, соответствующий английский союз создаёт отрицательное предложение и, в то же время, усиливает перечисление [Крючкова 1980].
В простом и, редко, в сложносочиненном предложении используется отрицание, состоящее из единиц группы neither... nor: The film was neither well-made nor well-acted; He neither smiled, spoke, nor looked at me [Swan 1995: 359]. Но такие предложения характерны для письменной речи. Для устной речи более характерны конструкции типа Не didn t smile, speak or look at me. Сочетание отрицаний not и nor может употребляться для соединения однородных членов предложения, например, She didn t phone that day, nor next day. В сложносочиненном предложении наличие отрицания not в первой предикативной единице создает условия для употребления отрицаний neither и nor во второй предикативной единице, например, Ruth didn t turn up, and nor did Kate.
Общее и частное отрицание в английском и лезгинском языках
Выделение структурно-семантических (или синтаксических) типов общего и частного отрицания вошло в лингвистическую традицию после работ А.И. Томпсона и A.M. Пешковского. Если действие отрицания распространяется на сказуемое, выражающее предикативный признак высказывания, то отрицательным является всё предложение, которое и называется общеотрицательным. Отрицание же, распространяющее своё действие на какой-либо другой член предложения и не изменяющее общего утвердительного смысла высказывания, определяется как частноотрицательное [Томпсон 1903; Пешковский 1956].
В отрицательном предложении всегда отрицается некоторое утверждение. Это отрицаемое утверждение называется сферой действия отрицания. Сферой действия отрицания может быть всё предложение (Он не пришел на работу) или только его часть (Дети не спят из-за шума, - где обстоятельство причины из-за шума не отрицается, т.е. не входит в сферу действия отрицания). Предложение, которое целиком составляет сферу действия отрицания, называется предложением с полным отрицанием (или семантически общеотрицательным); в предложении с неполным отрицанием (или частноотрицательном) отрицается лишь один из семантических компонентов предложения.
Е.В. Падучева использует для обозначения синтаксических разновидностей отрицания, соответствующих общему и частному типам, термины «фразовое» и «присловное» отрицание [ЛЭС 1990: 354]. В [Киселёва 1992: 36] сфера действия отрицания называется «зоной отрицания». Эта трактовка учитывает значимость логико-грамматического членения предложения и выходит за рамки его синтаксического анализа. Зоной общего отрицания считается ситуация в целом. Частное отрицание имеет ограниченную семантическую зону распространения. К этой трактовке близка интерпретация английского отрицания в [Zimmer 1964: 23-25]. В ней отмечается, что отрицание всей пропозиции достигается при помощи частицы not при сказуемом, в то время как аффиксальное отрицание относится только к её предикатной части, так что сама пропозиция остается положительной.
В другой работе для характеристики семантических типов отрицания выделяются его сфера действия и фокус. Фокус отрицания представляет собой специальное ядерное ударение на определенную часть высказывания и входит в сферу действия отрицания. Сферу действия отрицания могут помочь определить присутствующие в высказывании неутвердительные формы (non-assertive forms), потому что отрицание управляет неутвердительной формой только при условии нахождения ее в сфере действия отрицания [Quirk 1982: 173].
Некоторые исследователи называют соответствующие общему и частному разновидности отрицания предикативным и непредикативным синтаксическими типами. Структурную основу предложения составляет связь между подлежащим и сказуемым, т.е. предикативная связь. Отрицание, относящееся к одному из главных членов, придает предикативной связи отрицательный характер, а само отрицание выступает как предикативное. При отсутствии связи показателя отрицания с главными членами отрицание определяется как непредикативное [Шипулина 1962: 6].
Аналогично трактует эти типы отрицания в английском языке Г.Г. По-чепцов. По его мнению, общеотрицательным является предложение, в котором отрицание локализуется в сказуемом, а частное отрицание может относиться к любому члену предложения, кроме сказуемого. Особенностью отрицательных предложений английского языка является их мононегативность, т.е. допустимость только одного грамматического показателя отрицания при членах предикативной основы предложения. Наличие частного отрицания в связи с каким-либо из неглагольных компонентов предложения блокирует возможность употребления общего отрицания и, наоборот, наличие общего отрицания, т.е. отрицания сказуемого, делает невозможным употребление отрицания с другими компонентами [Почепцов 1981: 181].
Для различения обще - и частноотрицательных высказываний традиционно предлагается лингвистический эксперимент, основанный на наблюдении за вариантами разделительных вопросов, которыми можно продолжить предложение. Общеотрицательные высказывания допускают разделительный вопрос (tag-question) с положительным окончанием: John is not happy, is he? Частноот-рицательные высказывания допускают отрицательное окончание в разделительном вопросе: Mary enioved not this film, didn V she1? [Payne 1985: 197-201]. Замечено также, что предложение можно считать общеотрицательным, если оно допускает продолжение фразами, начинающимися с neither или not even [Jackendoff 1969: 218-241].
Английский язык характеризуется тем, что в нём общее отрицание формально может быть выражено различными членами предложения, а не только глаголом-сказуемым. Так, предложения с отрицательным подлежащим по man, nobody, nothing, none, no-one и др. трактуются как общеотрицательные, хотя сказуемое в них по форме утвердительное, например, No friends can help us [Payne 1985]. Общее отрицание выражается и в тех случаях, когда в функции дополнения или обстоятельства выступают отрицательные местоимения или наречия, например, John saw nothing. Предложения с квалифицирующими словами типа many, much, a lot, all, every в отрицательной форме при подлежащем также могут выражать общее отрицание, например, Not many students passed.
Формировать общеотрицательное предложение могут и наречия often, always, everywhere с отрицательной частицей в начальной позиции. В этом случае происходит инверсия подлежащего и вспомогательного глагола. Аналогично ведут себя и отрицательные выражения типа not for long, по longer, not until Friday, not even on Sundays, not for anything, not in vain, not under any circumstances, например, No longer could he stay there. He строятся общеотрицательные высказывания с выражениями not long ago,. not far away, not surprisingly, not frequently. С их использованием строятся частноотрицательные предложения без инверсии. Л. Хагеман, сравнив отрицание с инверсией (With по job would she be happy) и без неё (With по job she would be happy), пришла к выводу, что высказывания с инверсией выражают общее отрицание, а без инверсии -частное отрицание [Haegeman 1995]. Отрицательные высказывания допускают перефразировку, при которой предложения могут быть синонимичны друг другу, несмотря на различную позицию отрицания в них. Ср.: Not many students passed. - Many students didn t pass [Payne 1985].