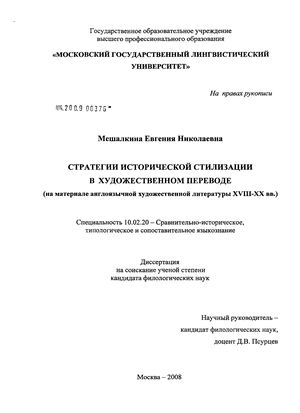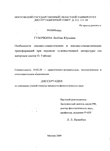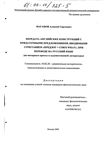Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1 Проблема исторической стилизации в переводе
1.1 Понятие исторической стилизации 7
-
Взгляды отечественных теоретиков перевода на проблему исторической стилизации 10
-
Взгляды зарубежных теоретиков перевода на проблему исторической стилизации 24
-
Взгляды отечественных практиков перевода на проблему исторической стилизации и их методы 39
-
Взгляды зарубежных практиков перевода на проблему исторической стилизации и их методы 52
Выводы по ГЛАВЕ 1 67
ГЛАВА 2 Стратегии исторической стилизации
2.1. Адекватность. Стратегия перевода 70
-
Факторы, влияющие на стратегию перевода 75
-
Стратегия исторической стилизации. Фильтрование 88
-
Арсенал средств исторической стилизации 91
-
Типология текстов и стратегия исторической стилизации 106
-
Типы текстов 107
-
Стратегия исторической стилизации, предлагаемая для текстов типа 1 109
-
Стратегия исторической стилизации, предлагаемая для текстов типа 2 116
-
Стратегия исторической стилизации, предлагаемая для текстов типа 3 124
2.6 «Алгоритм» переводческих действий при осуществлении стратегии
исторической стилизации 128
Выводы по ГЛАВЕ 2 131
ГЛАВА 3 Сопоставительный анализ переводов произведений
3.1 Анализ переводов текстов типа 1 134
3.2. Анализ переводов текстов типа 2 156
3.3 Анализ переводов текстов типа 3 172
Выводы по главе 3 185
Заключение 187
Библиография 192
- Взгляды отечественных теоретиков перевода на проблему исторической стилизации
- Взгляды отечественных практиков перевода на проблему исторической стилизации и их методы
- Факторы, влияющие на стратегию перевода
- Арсенал средств исторической стилизации
Введение к работе
Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению исторической стилизации в художественном переводе. Данная тема относится к числу важных аспектов переводоведения. Историческая стилизация необходима, если время написания оригинала значительно дистанцировано от времени выполнения перевода. Кроме того, переводчик вынужден прибегать к исторической стилизации, если автор оригинала сознательно обращается к этому приему, то есть намеренно стилизует язык описания во временном аспекте.
Несмотря на то что переводчики постоянно сталкиваются с решением этих задач, теория перевода до сих пор не дает однозначного ответа на вопрос о том, каковы должны быть переводческие стратегии исторической стилизации.
Актуальность темы заключается в том, что назрела необходимость исследовать переводческие стратегии исторической стилизации - важную проблему художественного перевода, с которой часто имеют дело переводчики, но которая всё ещё не получила должного научного освоения в науке о переводе.
Объект исследования - стратегии исторической стилизации в художественном переводе, средства и способы их реализации.
Предметом исследования служит «историческая составляющая», присущая текстам, при переводе которых реализуются стратегии исторической стилизации. К таким текстам относятся, в частности, тексты, время написания которых значительно отдалено от времени выполнения перевода, а также тексты, описывающие иные эпохи и/или иные культуры (последний род текстов чаще всего характеризуются присутствием в них исходной стилизации).
Основная цель работы - описание стратегий исторической стилизации и выработка рекомендаций, которые облегчили бы переводчику
выбор и осуществление той или иной стратегии исторической стилизации художественного текста при переводе. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
раскрыто понятие «стратегия исторической стилизации»;
изучены факторы, обуславливающие выбор и реализацию стратегии;
разработана типология текстов на основании временного фактора;
обоснован выбор той или иной стратегии при переводе текста определенного типа;
уточнены понятия условной и целостной стилизации, исследован метод стилизации текста;
описан «алгоритм» переводческих действий при исторической стилизации;
научно осмыслена, с позиций лингвистического переводоведения, обширная практика исторической стилизации в работах переводчиков, в частности изучен весь реестр средств исторической стилизации.
Методология работы базируется на современной отечественной теории перевода и теории межкультурной коммуникации. Исследование опирается на комплекс дополняющих друг друга методов исследования, таких как сопоставительный анализ, лексико-семантический и стилистический анализ. При помощи сопоставительного анализа изучался способ стилизации в исследуемых оригиналах и их переводах. Метод лексико-семантического анализа применялся для изучения правомерности использования тех или иных средств исторической стилизации в переводах. Стилистический анализ необходим при работе с конкретными отрезками оригинала и перевода при оценке адекватности перевода.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые: - стратегии исторической стилизации в переводе стали предметом специального исследования;
предложено последовательное и комплексное рассмотрение проблемы исторической стилизации в переводе;
рассмотрены факторы, определяющие выбор стратегии исторической стилизации, и способы и средства реализации той или иной стратегии;
представлена идеальная абстрактная модель действий переводчика при осуществлении исторической стилизации;
научно описан способ действий переводчика при отборе (фильтровании) средств исторической стилизации.
Теоретическая значимость работы заключается в обобщении существующих концепций исторической стилизации, раскрытии понятий «стратегия исторической стилизации», «условная» и «целостная стилизация», «время в культуре» - важных, но не до конца определенных в переводоведении.
Практическая ценность исследования определяется возможностью использования результатов исследования в практике перевода художественной литературы, а также в вузовских курсах по художественному переводу, в спецкурсах и спецсеминарах по стилистике художественного текста.
Достоверность полученных данных и обоснованность сделанных на их основе выводов и рекомендаций обеспечиваются опорой на фундаментальные принципы отечественного переводоведения, в частности, на концепцию функционально-прагматической адекватности перевода, привлечением значительного корпуса текстов для анализа на английском и русском языках, а также использованием методики, адекватной целям исследования.
В ходе исследования была выдвинута рабочая гипотеза о том, что лучший из сопоставляемых переводов одного и того же произведения, с точки зрения конкретных отфильтрованных вариантов, будет воплощать стратегию де-факто, тяготеющую к рекомендованной нами стратегии де-юре для данного типа текстов. Гипотеза подтвердилась в ходе анализа.
Апробация работы: основные положения диссертации и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры перевода английского языка МГЛУ в 2004-2008 гг. и нашли отражение в двух публикациях.
Материалом исследования служат, в основном, тексты англоязычной художественной литературы XVIII - XX веков и их переводы на русский язык.
Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.
Во Введении даны общие сведения о диссертационном исследовании: обоснован выбор темы, приведены предпосылки исследования, сформулированы предмет и объект исследования, рабочая гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, актуальность, цели и задачи исследования.
Взгляды отечественных теоретиков перевода на проблему исторической стилизации
Доподлинно известно, что споры о том, как следует переводить древние тексты, велись в России еще в первой половине XIX века. Н.И. Гнедич, впервые переведший на русский язык «Илиаду» Гомера, в предисловии к своему переводу так объяснял свое предпочтение архаизирующему языку: «Почитатели древности не прощают... поэтам, что они осмелились преобразить отца поэзии, дабы сделать его более сообразным с требованием и вкусом века их. Требования переменятся, вкус века пройдет; между тем как многие тысячи лет Гомер не проходит. Это памятник веков, требующий от переводчика не новой «Илиады»... но... слепка, который бы, сколько позволяет свойство языка, был подобен слепкам ваятельным» (Гнедич Н.И., 1987 [1829]: 404-407). При этом Н.И. Гнедича не пугало то, что какие-то обороты покажутся читателю странными, ведь «самые предметы, в «Илиаде» изображаемые, многие для нас чужды и странны» (там же, с. 406).
Созвучные идеи высказывал В.А. Ж уковский - переводчик второго величайшего памятника древнегреческой литературы «Одиссея». В.А. Жуковский был известным практиком вольного перевода на грани подражания, однако в переводе столь древнего произведения продемонстрировал стремление как можно точнее передать слово оригинала. «...В выборе слов надлежит наблюдать особенного рода осторожность: ... все, имеющее вид новизны, затейливости нашего времени... — здесь не у места; оно есть, так сказать, анахронизм; надобно возвращаться к языку первобытному...» — отмечал В.А. Жуковский в предисловии к своему переводу (Жуковский В.А., 1987 [1849]: 400).
Представитель иного, реалистического подхода, Н.Г. Чернышевский призывал отказаться от искусственного и принужденного языка в переводе, поскольку он только отдаляет произведение от народа. В связи с выходом «Одиссеи» в переводе В.А. Жуковского он написал: «...язык ее /"Одиссеи" в переводе В.А.Жуковского/ очень искусственный. Сверх того находим принужденность слога, которая усиливается слишком буквальным подражанием подлиннику...» (Чернышевский Н.Г., 1987 [1855]: 61).
В России XIX в. широко распространенным мнением был такой постулат: «Правило для перевода художественных произведений одно -передать дух переводимого произведения, чего сделать нельзя иначе, как передавши его на русский язык так, как бы написал его по-русски сам автор, если бы он был русским». (Белинский В.Г., 1987: 40). Практически архаизирующий принцип использовался при переводе лишь античной литературы, так как над переводчиками довлел пиетет к букве подлинника, тогда как при переводе менее удаленных во времени произведений они не чурались модернизирующих и даже вольных переводов. Особой популярностью среди широкой публики пользовались переводы И.И. Введенского (1813 - 1855). Он познакомил русского читателя с романами Ч. Диккенса, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, В. Скотта и других современных ему писателей. Введенский не стилизовал в историческом плане, тем не менее, полагаем необходимым упомянуть о нем в связи с тем, что принципом переводчика было приблизить автора к читателю, переводить так, как творили бы писатели, если бы родились «под русским небом». Он, в частности, заменял английские реалии русскими: в его работах изобилуют такие русицизмы, как «извозчик», «приказчик», «бекеша», «писарь», «ямщик» и пр. И хотя переводческая манера И.И. Введенского вызывала нарекания профессионалов, переводы пользовались невероятной популярностью.
Теории перевода как таковой еще не существовало, переводчики руководствовались лишь собственным вкусом и чутьем при выборе метода, а их попытки обоснования нельзя назвать в полной мере научными. Подлинно же научный подход к изучению темы был выработан в Советской России школой реалистического перевода, создателем которой считается И.А. Кашкин. Школа требовала от перевода воссоздания текста на языке перевода, а также самой действительности, изображенной в тексте. В статье «The Soviet Concept of Time and Space» Л. Лейтон в связи с рассуждениями о передаче временного и пространственного аспекта в переводе оценил роль советской школы ни мало ни много как пионерскую: «Soviet translators pioneered modern translation theory; they remained until recently far ahead of the world in this area» (L.G. Leighton, 1991: 49).
Школа реалистического перевода придавала большое значение своеобразию оригинала и полагала необходимым его передачу. А своеобразие подлинника предполагает не только присущее ему содержание, но и форму, «в которой, в частности, находит свое отражение национальное своеобразие художественного произведения и отпечаток эпохи» (Кашкин И.А., 1987: 342). Из этого ключевого положения вытекает следующее: «При выборе языковых средств для перевода классических произведений читатель вправе требовать от переводчика соблюдения исторической перспективы и дистанции, отказа от модернизованной лексики» (там же, с. 343). Соблюдая верность оригиналу и его конкретно-исторической правде, переводчик одновременно «не должен забывать верность современному читателю, который без современного языка перевода рискует просто не понять то, что хотел выразить автор» (Кашкин И.А., 1955: 138). Если переводчик не сможет соблюсти меры, он не только не сблизит читателя с подлинником, но и отдалит от него и создаст добавочные помехи: «Ошибочнее всего... стать в переводе на путь условной бутафории» (Кашкин И.А., 1987: 350). Путь переводчика, предписанный И.А. Кашкиным - это путь художника, который творит для современников, но вместе с тем тонко чувствует и стремится как можно вернее передать «историческое» ощущение от оригинала: «Образцом ... может служить Пушкин, который безошибочно находил общие и вместе с тем характерные черты эпохи, из которых и строил убедительный ее образ» (там же, с. 344).
Взгляды отечественных практиков перевода на проблему исторической стилизации и их методы
Рассмотрим, с применением каких принципов осуществляли и осуществляют перевод известные переводчики. Как говорилось выше, в чистом виде архаизация и модернизация практически не встречаются — любой перевод, который претендует на естественное звучание, написан с использованием обоих подходов. Очевидно, что соблюдение верного стиля в переводе упирается в поиск верного соотношения модернизации и архаизации в зависимости от ряда факторов.
В отечественном переводе архаизация получила большое теоретическое обоснование и широко применялась на практике. Архаизацию в XIX в. практиковали, как мы указывали, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, Н.И. Гнедич. Следует также упомянуть В. Я. Брюсова, который в своих переводах античных классиков и средневековой литературы стремился создать эффект отдаленности, пользуясь как лексической, так и грамматической архаизацией. А в своей статье «Фиалки в тигеле» В.Я. Брюсов предостерегал переводчиков от искушения «бросить ... фиалку чужих полей в свой тигель»1. Среди известнейших переводчиков XX в., применявших принцип архаизации в переводе, были М.Л. Лозинский, Н.Я. Галь, М.Ф. Лорие, И.Г. Гурова, М.Л. Гаспаров, И.М. Бернштейн и многие другие.
М. Л. Лозинский - один из самых убежденных архаизаторов XX века в переводе. Его главными работами были переводы испанских, французских и английских классических пьес; главной же удачей - перевод поэмы Данте «Божественная комедия». Вопроса исторической стилизации в переводе М.Л. Лозинский коснулся в предисловии к четвертой публикации «Гамлета» в издательстве «Academia» (1936 г.), где переводчик, отвечая на свой вопрос — чего должен добиваться переводчик в своей работе? - предъявляет требование «точного воспроизведения словесной ткани подлинника... Чем большей будет эта точность, тем вернее будут переданы как стилистические особенности Шекспира... так и система его образов, то есть самая сердцевина его поэзии». Стремясь передать все то, что есть у Шекспира, «переводчик должен в то же время ничего ни к чему не добавлять, не вводить в свой текст разъяснений и скрытого комментария, а тем паче украшений в своем вкусе».
Воссоздавая культурно-историческую атмосферу оригинала, М.Л. Лозинский советовал «избегать всего, что для этой атмосферы явилось бы чужеродным. Сюда относятся:
1) анахронизмы в виде неоправданных архаизмов или же модернизмов;
2) анатопизмы - слова и обороты, связанные с представлением о специфическом быте своего или какого-нибудь третьего народа и придающие тексту чуждую ему окраску;
3) слова иного стилевого строя. Это конечно, наиболее грубые случаи лексической нечуткости» (Лозинский М.Л, 1987: 97).
Переводил М.Л. Лозинский и прозу. Его основные работы - перевод знаменитой новеллы Проспера Мериме «Кармен», «Кола Брюньон» Ромена Роллана и «Жизнь Бенвенуто Челлини». Перевод «Жизни Бенвенуто Челлини» признается вершиной стилизаторского мастерства. В предисловии к своему переводу М.Л. Лозинский писал об авторе произведения: «Челлини не был грамотеем, книжного образования он не получил. Орфография, этимология, лексика, синтаксис - у него самобытные. Проза Челлини -непрерывная цепь несогласованных предложений, начатых и незаконченных или сбившихся с пути периодов..., пропусков, повторений, переходов от одного строя к другому. Самый тщательный перевод бессилен воспроизвести диалектологические особенности, придающие оригиналу немалую долю очарования. Стараться заменить челлиниевские солецизмы системой русских простонародных форм («хочим», «иттить», «ушодши») было бы глубоко ложным приемом...» (Челлини Б. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца.../ Пер. М. Лозинского.- М.-Л., 1931.-С. 42).
Тем не менее, оставив в стороне лексику и обратившись к возможностям синтаксиса, почувствовав, что он не меньше отражает искажения языка, переводчик смог создать столь же неправильную фразу, что и фраза подлинника, и сумел сохранить историческую перспективу, не сбившись на современный разговорный язык.
М.Л. Лозинский так определял основную цель переводчика: «дать перевод, оказывающий по возможности то же эмоциональное воздействие, что и оригинал» (Лозинский М.Л, 1987: 99). Из-за этой установки переводчика часто критиковали. Однако А. А. Ахматова заявляла: «Мелкие завистливые и невежественные люди уверяют, что "Гамлет" — тяжел, темен и.т.п. Им не приходит в голову, что он именно таков в оригинале, а что Лозинский умел быть легким, прозрачным, летучим, как никто, мы знаем хотя бы из испанских комедий». (Ахматова А. 1990: 141).
М. Л. Гаспаров - переводчик античных поэтов и баснописцев — описал подробности осуществления им архаизирующего принципа в статье «Эксперименты для себя» (Гаспаров М.Л. 1998). Он развенчивает те теоретические установки сторонников модернизации, которые выдвигались как аксиомы: «Часто говорят: "переводчик должен переводить так, чтобы читатели воспринимали его переводы так же, как современники подлинника воспринимали подлинник". Нужно иметь очень много самоуверенности, чтобы воображать, будто мы можем представить себе ощущение современников подлинника, и еще больше - чтобы вообразить, будто мы можем вызывать их у своих читателей. Современники Эсхила воспринимали его строки только со сцены, с песней и пляской — этого мы не передадим никаким переводом» (там же, с. 89).
Факторы, влияющие на стратегию перевода
Под коммуникативной ситуацией следует понимать некоторый набор признаков экстралингвистической обстановки, в которой осуществляется коммуникация (в художественном переводе — литературная коммуникация). Коммуникативная ситуация восприятия текста оригинала первичным читателем никогда не бывает тождественной вторичной коммуникативной ситуации восприятия текста перевода. На коммуникативные факторы, обусловливающие формирование исходного текста, наслаиваются новые факторы, связанные с включением в коммуникативный процесс нового адресата, принадлежащего к другой языковой и культурной общности. Двоякая зависимость текста перевода от первичной коммуникации и от вторичной коммуникации обусловливает известное противоречие перевода между привязанностью к оригиналу и установкой на получателя, противоречие, которое должно быть преодолено в каждом акте языкового посредничества. Ориентация на близость к оригинальному тексту и одновременно на новые условия существования текста может уберечь переводчика, с одной стороны, от вольности и, с другой стороны, от буквализма, от излишней натурализации и экзотизации, от чрезмерной архаизации и чрезмерной модернизации. Если говорить исключительно об исторической стилизации, то первичная коммуникативная ситуация при переводе классического произведения, например, требует от переводчика сохранения архаичных элементов стиля оригинала, тогда как вторичная коммуникативная ситуация - передачи содержания более современным языком. Только учет обеих ситуаций позволит переводчику создать вариант перевода, который можно назвать «золотой серединой».
Изменения во вторичной коммуникативной ситуации по сравнению с первичной могут не носить закономерного и абсолютного характера. Они могут быть связаны с варьированием сферы деятельности, которой служит коммуникация, что приводит к изменению самой цели коммуникации в соответствии с ожиданиями конечных адресатов (Швейцер А.Д., 1988: 72). По этой причине перевод для театра часто отличается от адекватного художественного перевода. В своей работе по сопоставлению вариантов перевода мольеровского «Тартюфа» на английский язык, лингвист Н. Сениор приводит любопытный пример (Senior N., 2001). В финальной сцене пьесы офицер, арестовывающий Тартюфа, заявляет, говоря современным языком, что король знает все обо всех:
Над нами царствует монарх правдолюбивый, Монарх, чей острый взор пронзает все сердца И не обманется искусством хитреца. Он, прозорливостью великой одаренный, На все бросает взгляд прямой и неуклонный..(перевод М. Лозинского: действие V, явл. VI)
Во время Ж-Б. Мольера эти слова были возданием чести королю Людовику XIV и воспринимались публикой как уверение в том, что зло будет наказано. Сегодня же, в наш век с установкой на демократию и свободу, они вызывают скорее отрицательные ассоциации. Н. Сениор также отмечает, что использование героем пьесы свойственной религиозной литературе лексики для выражения любовной страсти в то время вызывало негодование публики и читателей, тогда как современный читатель, скорее всего, вовсе не увидит в этом ничего аморального. Некоторые из сегодняшних сценических постановок «Тартюфа» резко модернизируют текст оригинала, поднимая чуждые для текста темы, например, вторжение власти в частную жизнь, и опуская тему религиозного ханжества. Естественно, что подобные опыты перевода в художественной литературе неуместны, если, конечно, перевод претендует на адекватность (там же).
От коммуникативной ситуации необходимо отличать параметр первичной и вторичной предметной ситуации, то есть ситуации, получившей отражение в тексте оригинала и перевода соответственно, и действительность внутри текста. Описанная в тексте оригинала реальность крайне редко совпадет с реальной ситуацией порождения текста и может представлять собой:
1) ситуацию изображения в оригинале более ранних, чем время написания оригинала, слоев своей культуры (например, роман «Айвенго» В. Скотта, «Похищенный» Р.Л. Стивенсона, «Червь» Дж. Фаулза, роман современной английской писательницы С.Уотерс «Тонкая работа»);
2) ситуацию изображения в оригинале исторических слоев инойкультуры, чем культура оригинала и перевода, то есть некой третьей культуры, представление о которой в культуре оригинала и культуре перевода может значительно различаться (например, «Воображённая жизнь», роман современного австралийского писателя Д. Малуфа об Овидии Назоне; рассказ «Ночлег» Р.Л.Стивенсона о Франсуа Вийоне); 3) ситуацию изображения в оригинале того или иного исторического или современного слоя культуры языка перевода (пример - пьеса О. Уайльда «Вера» о русских нигилистах).
4) ситуацию изображения в оригинале множества слоев, срезов разных культур (например, «Обладать» А. Байетт).
Вторичная предметная ситуация, созданная переводчиком в процессе адекватного перевода, всегда соотносится как с первичной предметной ситуацией, так и с вторичной коммуникативной ситуацией. Так, при переводе современного текста, описывающего эпоху английской королевы Виктории, переводчик непременно должен в определенной степени соотносить предметную ситуацию с тем представлением, который читатели языка перевода имеют об этой культуре (чаще всего из ранее выполненных литературных переводов, театральных постановок, фильмов). Возникает важный вопрос о том, всегда ли это уже существующее представление носит адекватный характер и не должен ли переводчик в случае необходимости вносить в сложившееся представление коррективы своим переводом.
Арсенал средств исторической стилизации
Исследователи отмечают, что историческая стилизация в переводе в своих средствах опирается на стилизаторский опыт отечественной литературы. В основе стиля художника-историка или переводчика-стилизатора должна лежать лишь система современного ему литературного языка, языка его среды и его эпохи, эпохи читателей, к которым он обращается. Тем не менее, при художественном воспроизведении далекого исторического прошлого иногда необходим выход за пределы наличной языковой традиции.
В.В. Виноградовым была отмечена следующая отличительная черта исторических романов: «В историческом романе не может быть «архаической точности», его язык современен, его персонажи не говорят языком своего ушедшего в небытие времени, отношения между языком исторического романа и изображаемой им эпохи лишены принудительно-документального характера: важна не точность цитаты, а впечатление читателя, зависящее от художественной, а не хроникальной правды». При этом «как бы ни многочисленны и сильны были заимствования из языка исторических памятников, из языка изображаемой среды и эпохи, они при всех условиях остаются только частичными уклонениями от наличной языковой традиции» (Виноградов В.В., 1959: 530-531).
Литературовед распространил эту особенность на перевод, отмечая близость переводческой исторической стилизации и исторической стилизации художественного текста: «Сказанное абсолютно справедливо для диахронного перевода и перевода исторических романов и повестей» (там же, с. 531).
Сказанное позволяет сделать два вывода. Во-первых, система современного литературного языка является для переводчика тем языковым фоном, на котором выступают «красочные пятна» исторической стилизации. Она должна быть заложена в структуре перевода как объект отталкивания и сопоставления, как критерий всех отклонений в область исторических форм выражения. Во-вторых, при отборе речевых красок старины и их художественно-стилистическом использовании необходимо ориентироваться на наиболее характерное, типическое и в то же время понятное, доступное современному читателю (Вороничев О.Е., 1995). В выборе способа стилизации (условный / целостный), как отмечалось выше, переводчик вынужден следовать за автором. При целостном авторском подходе от переводчика требуется соответствие авторскому замыслу и в количестве использованных средств, и исторической точности их выбора, при условном же - достаточно передать иллюзию временной дистанции незначительным числом «точечно выбранных» архаизирующих средств.
В выборе же средств стилизации переводчик обладает значительной свободой. Использование автором того или иного архаизирующего средства вовсе не обязует переводчика использовать архаизм того же рода в том же предложении; это сделало бы перевод в высшей степени искусственным. Семантические поля слов двух языков редко совпадают, и большинство английских архаизмов не будет иметь в русском языке соответствующего полного эквивалента. В таком случае на помощь переводчику, осуществляющему архаизацию, приходят прием замены на архаизм иного рода или, что чаще оказывается возможным, замены архаизма нейтральным аналогом при дальнейшей дистантной компенсации. Компенсация позволяет переводчику при необходимости использовать более устаревшую языковую форму там, где оригиналу свойственна более современная форма. Возможности компенсации включают также использование средств, иных по сравнению с оригиналом уровней (например, лексические архаизмы компенсируются синтаксическими, и наоборот).
В арсенале переводчика, осуществляющего историческую стилизацию, имеются все те средства, которыми располагают писатели-стилизаторы, среди которых различают лексические историзмы, собственно-лексические, лексико-семантические, лексико-морфологические, лексико-фонетические и синтаксические архаизмы (Вороничев О.Е., 1995). Рассмотрим их. А. Лексические историзмы
В оригинальных текстах с «исторической составляющей» обязательно присутствуют лексические историзмы. Под историзмами мы понимаем, вслед за И.М. Шанским и другими учеными, «слова пассивного словарного запаса, служащие единственным выражением соответствующих понятий» (Шанский И.М., 1972: 147-148). Авторы исторической литературы и художественных произведений, повествующих о прошлом, не обходятся без историзмов. Они помогают воссоздать колорит эпохи, придают описанию прошлого черты исторической достоверности. Обозначая реалии прошлых эпох, историзмы являются тем средством, которое является одновременно и языковой, и культурологической формой стилизации текста. Совмещая в себе две эти важнейшие функции, историзмы незаменимы в процессе перевода. В.В. Виноградов отмечает, что временная историческая стилизация в оригинале может создаваться практически исключительно благодаря широкому использованию слов-реалий. Литературовед приводит такой пример: «в Национальных эпизодах» Бе нито Переса Гальдоса, как правило, нет временной языковой стилизации... Однако колорит времени сохраняется благодаря самому содержанию повествования и постоянному использованию слов-реалий, характерных для периода наполеоновских войн». (Виноградов В.В., 1959:543).