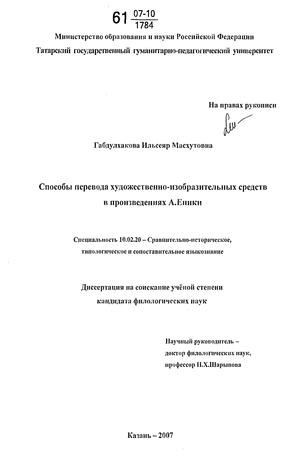Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Общие явления в переводе художественно-изобразительных средств в произведениях А.Еники
1.1. К вопросу о переводе художественно-изобразительных средств языка 15
1.2. Способ дословного перевода 18
1.2.1. Перевод сравнений 21
1.2.2. Природа метафоры и сравнения 37
1.2.3. Дословный перевод метафор 42
1.2.4. Перевод эпитетов 47
1.2.5. Перевод фразеологизмов 55
1.2.6. Полные пословичные соответствия 59
1.3. Перевод с изменением отдельных компонентов 67
1.3.1. Трансформация сравнений в переводе 69
1.3.2. Выразительные возможности метафоры в переводе 80
1.3.3. Стилистические особенности эпитетов в переводе 87
1.3.4. Видоизменение фразеологизмов в переводе 92
1.3.5. Особенности перевода пословиц и поговорок 98
Выводы 101
ГЛАВА 2. Специфические явления в переводе художественно-изобразительных средств в произведениях А.Еники 104
2.1. Замена соответствующими образами языка перевода 104
2.1.1. Несоответствие выразительных возможностей сравнений 106
2.1.2. Метафора как особенность восприятия действительности в переводе 114
2.1.3. Передача эпитетов в переводе 122
2.1.4. Несоответствие образов в переводе фразеологических единиц 126
2.1.5. Перевод пословиц и поговорок 131
2.2. Компенсация 134
2.2.1. Полная и частичная компенсация сравнений в переводе 136
2.2.2. Восполнение образности в переводе метафор 143
2.2.3. Застывшие метафоры 147
2.2.4. Перевод эпитетов 151
2.2.5. Описательные соответствия фразеологизмов 155
2.2.6. Передача пословиц и поговорок 158
Выводы 161
Заключение 163
Список литературы 168
- Способ дословного перевода
- Выразительные возможности метафоры в переводе
- Несоответствие выразительных возможностей сравнений
- Полная и частичная компенсация сравнений в переводе
Введение к работе
Перевод неразрывно связан с проблемами стилистики. Переводчика всегда интересовала не только логическая суть текста на иностранном языке, но и его конкретное воплощение, оформление, способ концептуально-экспрессивного выражения сообщения того или иного характера на родном языке. Вопросы адекватного отражения в переводе стилистических выразительных средств, а также сохранения стиля в переводе, всегда были самыми трудными и спорными. Стиль как система охватывает все аспекты языка, поэтому передача в переводе всех его особенностей требует больших усилий и сопряжена с целым рядом трудностей.
Переводчик встречается с необходимостью передать различные
изобразительно-выразительные средства, употребленные в исходном тексте,
чаще, чем может показаться на первый взгляд. Практически любой
художественный текст включает те или иные тропы, фигуры речи
или другие средства выразительности высказывания, составляющие особую
функцию изобразительных единиц - стилистическую. Перевод различного рода
образов, каждый из которых выполняет свою функцию в художественном
произведении, с одного языка на другой требует большого мастерства,
обеспечивающего сохранение или модификацию исходной эмоционально-
эстетической информации или тот особый смысл, который несет
конкретный образ. Это означает необходимость передачи не только формы,
но и содержания со всем многообразием заключенных в нем смыслов, при
непременном условии сохранения этих смыслов. По этому поводу
Л.Л. Нелюбин отмечает: «Поскольку перевод - это преобразование исходного
текста при сохранении смысла, то переводчику необходимо попытаться найти
эквивалентные формы выражения определенного смысла
в другом языке» [Нелюбин. Лингвистика, 1990, 38]. От того, насколько
успешными окажутся попытки переводчика в передаче этого
5 исходного смысла, будет зависеть и сила воздействия переводного произведения на читателя.
Изучение переводов образных средств и их научно-критический анализ способствуют более глубокому познанию некоторых сторон оригинала, художественных ценностей данного народа, а в конечном счете - пониманию его менталитета через художественную культуру.
В данной работе проводится сопоставительное исследование художественно - изобразительных средств татарского и русского языков на примере произведений крупного татарского прозаика, признанного мастера художественного слова А. Еники: «Рэшэ», «Саз чэчэге», «Тынычлану», «Марево» (в переводе Р. Кутуя и С. Хозиной), «Болотный цветок» (в переводе А. Бадюгиной), «Умиротворение» (в переводе А. Бадюгиной), «Успокоение» (в переводе Р. Кутуя и С. Хозиной). Интерес к А. Еники объясняется значительностью фигуры этого писателя, а также тем, что вышеназванные произведения, по признанию многих исследователей и критиков, являются одними из лучших творений этого автора.
Выбор произведений А. Еники обусловлен не только тем, что автор является одним из популярных и любимых писателей татарского народа, но и неповторимостью его литературного языка, отличительной чертой которого являются яркие и оригинальные тропы и фигуры речи. Произведения А. Еники представляют нам писателя как глубокого знатока языковых особенностей своего народа и как прекрасного стилиста, сумевшего вложить в уста своих героев слова и выражения именно того языкового стиля, в котором они задуманы и который максимально соответствует художественным задачам: отображению общественного положения и внутреннего мира этих образов. Психологизм как способность проникать во внутренний мир человека в той или иной мере присущ творчеству каждого писателя. В национальной литературе есть писатели, творчество которых стало вершиной мастерства в использовании психологических форм и приемов. А. Еники является одним из
них. Он вошел в татарскую литературу как художник необыкновенно широких и разносторонних творческих возможностей, как неповторимый в своей индивидуальности психолог и мастер слова. Благодаря тщательному отбору и умелой подаче изобразительных средств писатель отражает самобытность татарского народа. Произведения А. Еники насыщены сравнениями, метафорами, эпитетами, фразеологизмами, пословицами, поговорками, синонимами, парными словами и т.д. Таким образом, автор использует богатейший материал татарского литературного языка. Именно поэтому стилистические особенности прозы этого автора достойны подробного научного исследования. А. Еники самобытный и сложный писатель. Наличие переводов его произведений на русском, башкирском, английском, чувашском языках свидетельствует о реальности воссоздания этого чрезвычайно сложного стиля писателя в иной языковой системе. Неоспорим и тот факт, что каждый переводчик произведений А. Еники сталкивается с определенными трудностями.
Эстетическая оригинальность художественно-изобразительных средств в творчестве А. Еники заключается в частом совмещении тропов, благодаря чему фокусируется своеобразие сразу нескольких художественных тропов. Благодаря им язык А. Еники становится живописным и богатым тонкими оттенками смысла и экспрессивной динамики. Эти важнейшие качества его языка становятся особенно заметны, если проследить попытки мастеров перевода передать эти средства на другом языке. Можно лишь догадываться о том, насколько сложно было передать на другом языке столь тонкий лиризм А. Еники. К. Миннибаев пишет: «Сам автор, насколько я понял, поначалу метался, колебался в оценке труда каждого переводчика своих произведений (имеются в виду А. Бадюгина и Р. Кутуй), боялся обидеть другого, отдавая предпочтение одному из них. Было время, когда он восхищался поэтическими находками Р. Кутуя, но постепенно понял, что это лишь вариации. И народный писатель Татарстана, обдумав все стократ, убедился, что к его дарованию все же самое подходящее воссоздание - перевод А. Бадюгиной. В последние
7 годы своей жизни он отдал предпочтение ее творчеству» [Миннибаев. Перевод, 2004, 79]. Однако нельзя не учитывать и мнение читателя. П.М. Топпер справедливо отмечает: «Читательское восприятие - высший аргумент в споре о том, хорош данный перевод или плох, потому, что именно читательское восприятие (критик тоже читатель) организует вокруг себя все остальные критерии, необходимые для оценки перевода, вплоть до мельчайших деталей языкового соответствия, ибо в конечном счете даже языковые реалии проверяются не по словам, а по живому словоупотреблению современников» [Топпер. Перевод, 2000, 226]. В связи с этим возникает реальная проблема перекодировки социально-культурного потенциала изобразительных средств, способов создания и сохранения их прагматической проекции.
Особый интерес представляет вопрос о передаче изобразительно-выразительных средств с языка оригинала на русский язык. В работе учитывается, что художественные произведения А. Еники адресованы татароязычному читателю, обладающему достаточным запасом лингвистических, экстралингвистических, прежде всего, социально-культурных и исторических знаний, необходимых для адекватного прочтения и воссоздания всей изображаемой художником многоплановой картины, насыщенной подтекстом. По этой причине исследуя такие стилистические образные средства выражения как метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, фразеологизм, пословицы, поговорки, анализируется их реализация в переводе.
Актуальность исследования. определяется всевозрастающим интересом к сопоставительным исследованиям, в частности в области передачи художественно-изобразительных средств в типологически разных языках, также необходимостью рассмотрения способов перевода в контексте общих и специфических средств сопоставляемых языков.
Данная диссертация является первой работой, где в сопоставительном плане системно проанализированы изобразительные средства, используемые А. Еники и авторами переводов. Мысль о значении анализа языковых
8 особенностей переводов подчеркивается многими исследователями (B.C. Виноградов, В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, Ю.С. Сорокин, А.В. Федоров, А.Д. Швейцер и др.). Между тем язык переводной литературы все еще остается недостаточно изученным и в первую очередь это касается художественно-изобразительных средств.
С точки зрения мастерства и оригинальности использования языковых средств, А.Еники относится к числу наиболее авторитетных из современных мастеров слова. Обилие изобразительно-выразительных средств в произведениях автора свидетельствует о крупномасштабном подходе к их возможностям, поскольку каждое используемое средство оригинально и повторяющихся в общем масштабе словоиспользования не так много. Несмотря на это, богатая творческая лаборатория писателя, его колоритный язык, особенности психологизма прозы до сих пор еще не нашли своего системного научного освещения. Имеется лишь несколько диссертационных исследований, касающихся творчества А. Еники. Например, работа Р. Салихова «Характер в современных татарских повестях», посвященная научному исследованию характера героев в татарских повестях 60-70-х гг., в том числе на основе творчества А. Еники (1974). Работа Д. йбатуллиной «Поэтика прозы А. Еники» (1993), в которой детально рассматривается поэтика художественной прозы А. Еники и на этой основе раскрывается своеобразие автора как художника. В работе А.Р. Мотигуллиной «Характеры героев в прозе А. Еники» (2000) исследован психологический аспект в создании характеров героев А. Еники. Можно назвать работу А.З. Карамовой «Психологизм в творчестве А. Еники» (2005). Отдельные вопросы, касающиеся языковых особенностей художественных произведений А. Еники, отражаются в работе Г.Х. Зиннатуллиной «Поэтическая ономастика прозы А. Еники» (2005). И.Ф. Абдуллин, исследовав генеалогическое древо рода А. Еники в статье «А. Куприн и А. Еники», приводит доказательства принадлежности А. Еники к роду татарского князя Еникея. Более того он отмечает, что «А. Куприн и татарский писатель А. Еники, в одинаковой мере владевшие талантом
9 изображать внутренний мир простых людей посредством тонкого лиризма, являются далекими внуками служилого татарского князя Еникея». Итак, работ посвященных изучению языковых особенностей этого автора, не так много. Отсутствуют и труды, отражающие особенности сопоставительных исследований художественно - изобразительных средств в оригинале и переводе.
Актуальность подтверждается и тем, что исследование проводилось в рамках научной темы «Языковые контакты» и входит в научные программы различного уровня: федеральная целевая программа «Русский язык»; государственная Программа по сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Татарстан.
Таким образом, актуальность исследования определяется:
- отсутствием работ, посвященных сопоставительному анализу
художественно-изобразительных средств в татарских и русских текстах
(переводах) произведений этого автора;
- малоизученностью языка и стиля А.Еники ;
- важностью проведения сопоставительных исследований в этом
направлении и необходимостью дальнейшего изучения теории и практики
художественного перевода;
- необходимостью развития межкультурного общения, толерантности и
межконфессионального согласия.
Объектом исследования являются татарские и русские тексты произведений А Еники «Рэшэ» («Марево»), «Саз чэчэге» («Болотный цветок»), «Тынычлану», («Умиротворение», «Успокоение»).
Предметом исследования является сопоставление метафор, сравнений, олицетворений, эпитетов, фразеологизмов, пословиц и поговорок в текстах оригинала и русских переводах.
Цель исследования - на основе сопоставительного анализа художествено-изобразительных средств в текстах оригинала и текстах перевода
10 произведений А.Еники выявить общие и специфические особенности их передачи в русском языке.
Поставленная цель предопределила решение следующих задач:
описание способов перевода художественно-изобразительных средств с татарского языка на русский;
классификация фактического материала в соответствии со способом их передачи в русском языке;
- определение универсального и специфического в системе
художественно-изобразительных средств при передаче с татарского языка на
русский;
описание различных видов переводческих соответствий и объяснение возможных причин расхождений;
сопоставительный анализ лексико-фразеологических единиц двух языков;
выявление наиболее приемлемых способов передачи изобразительных средств татарского языка в русских текстах для обеспечения семантико-стилистической адекватности перевода.
Цель и задачи обусловили выбор следующих методов исследования: описательного, концептуального, сопоставительно-типологического анализа лингвистического материала для установления общих и специфических особенностей рассматриваемых единиц, а также индуктивного и дедуктивного методов.
Материалом исследования послужили метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты, фразеологизмы, пословицы и поговорки, отобранные методом сплошной выборки из татарских текстов оригинала и русских текстов перевода произведений А. Еники. Всего около 1000 единиц.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые в сопоставительном плане на материале произведений А. Еники и их переводов на русский язык исследуются лингвистические механизмы и способы перевода на русский язык метафор, сравнений, олицетворений, эпитетов, фразеологизмов, пословиц и поговорок; рассмотрены общие и
специфические явления в художественно-изобразительных средствах русского и татарского языков; анализируются проблемы передачи изобразительных средств с татарского языка на русский; определяются соотношения выразительных средств татарского языка и их эквивалентов в русском языке с точки зрения передачи образных средств; выявляются общие и отличительные черты в семантической и синтаксической сочетаемости слов двух языков.
Теоретическое значение диссертации заключается в раскрытии взаимообусловленности способов перевода художественно-изобразительных средств с татарского языка на русский и диалектической связи общих и специфических явлений в разноструктурных языках. В условиях активного двуязычия, когда вопрос о культуре родной речи билингвов стоит особо остро, умение отличить универсальное и специфическое для двух языков представляется важным условием обеспечения лингвокультурной компетенции носителей этих языков.
Практическая значимость. Полученные результаты научного труда
найдут применение в исследованиях по сопоставительному языкознанию, при
чтении специальных вузовских курсов, также на занятиях
в нефилологических вузах при работе над повышением культуры речи
студентов. Ряд положений диссертации могут послужить для решения
некоторых вопросов учебно-методического характера,
непосредственно связанных с изданием методических пособий, двуязычных словарей и т.д.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Сопоставительное изучение художественно-изобразительных средств татарского и русского языков является ценнейшим источником сведений о культуре, стереотипах народного сознания, отражающих представления народа о морали, привычках, обрядах, своеобразии окружающего мира и т.д.
2. Изобразительные средства языка произведений А.Еники являются
трансляторами национальной культуры и образного видения автора.
3. Представление художественных особенностей языка А.Еники
и их воплощение в переводе выступает как объект лингвистического
исследования.
4. Сопоставительное изучение изобразительных средств на основе
перевода раскрывает общие и специфические явления в двух разноструктурных
языках и приводит к взаимодействию не только на языковом, но и на
культурном уровне.
Методологическую основу работы составили теоретические положения, разработанные в трудах по теории перевода: Л.К. Байрамовой, Л.С. Бархударова, B.C. Виноградова, В.Н. Комиссарова, В.Н. Крупнова, Я.И. Рецкера, Н.В. Складчиковой, С. Файзуллина, А.В. Федорова, Р.А. Юсупова. В процессе работы мы придерживались, прежде всего, классификации, изложенной Р.А. Юсуповым в работе «Лексико-фразеологические средства русского и татарского языков» и в его других трудах.
Полезным теоретическим материалом послужили идеи, касающиеся структурных, семантических и стилисических характеристик образных средств, труды ученых-лингвистов, кандидатские диссертации, авторефераты диссертаций. Сюда относятся работы Э.М. Ахунзянова, СИ. Влахова, Р.С. Газизова, Н. Галь, Р.Г. Гачечиладзе, М.З. Закиева, К.З. Закирьянова, К.З. Зиннатуллиной, М. Курбангалиева, Н.М. Любимова, К.С. Миннибаева, Р.К. Миньяр-Белоручева, Ф.С. Сафиуллиной, Р.Г. Сибгатова, Л.Н. Соболева, В.Н. Телия, С. Флорина, К.З. Хантимеровой, К.И. Чуковского и других. Они явились важным подспорьем при создании данной работы.
Малоизученность языка переводов и, прежде всего, языка самого А. Еники вызвала необходимость привлечения к исследованию не только лингвистических, но и литературоведческих трудов, поскольку в
13 плане литературоведения творчество данного автора подвергалось изучению гораздо интенсивнее, чем в лингвистике.
Апробация. Основные результаты, полученные в ходе исследования,
излагались и обсуждались на ежегодных итоговых научно-методических
конференциях профессорско-преподавательского состава КГСХА,
Казанского ГАУ (Казань, 1999-2007); юбилейной научно-методической
конференции «Рыночные преобразования в АПК: проблемы, поиски, решения»
(Казань, КГСХА, 2002); межвузовской научной конференции «Социально-
гуманитарные дисциплины в системе межкультурной коммуникации»
(Казань, КГСХА, 2006); межвузовской научной конференции
«Преемственность в обучении татарскому языку» (Казань, КГТУ, 2006);
Международной научно-практической конференции «Развитие наук в едином
информационном пространстве» (Казань, РГТУ, 2007); Всероссийской научно-
практической конференции «В.А.Богородицкий: современные проблемы
исследования и преподавания языков», посвященной 150-летию
В.А.Богородицкого (Казань, ТГГПУ, 2007); Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие агропромышленного комплекса и лесного хозяйства», посвященной 85-летию Казанского ГАУ (Казань, 2007).
Структура работы определяется целью исследования и подчиняется логике поэтапного решения поставленных задач. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.
Во введении формулируются цели и задачи; обосновывается выбор темы исследования, определяется актуальность, теоретическая и практическая значимость работы.
В первой главе сопоставляются тексты перевода с текстом оригинала с целью выявления общего в переводе художественно-изобразительных средств произведений А. Еники.
Во второй главе сопоставляются тексты перевода с текстом оригинала с целью выявления специфических особенностей в переводе художественно-изобразительных средств произведений А. Еники.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования.
Список литературы содержит труды отечественных и зарубежных авторов. Приводится перечень использованных в ходе работы словарей, представлен список художественных произведений, послуживших основным материалом для исследования.
Способ дословного перевода
В различных языковых стилях, особенно в стиле художественной литературы, широко используются языковые средства, усиливающие действенность высказывания благодаря тому, что к чисто логическому его содержанию добавляются различные экспрессивно-эмоциональные оттенки. Художественная речь отличается от всех прочих форм речи прежде всего тем, что она выполняет эстетическую функцию. Реализация этой функции означает представление окружающей действительности в образной, конкретно-чувственной форме. Слова, типичные для художественной литературы, не просто информативны, а описательны, то есть обладают способностью давать определённому предмету характеристику, дополнительную к тем его признакам, которые узуально закреплены за данной словарной единицей и зафиксированы в словарях. Усиление выразительности речи достигается различными стилистическими средствами.
Обычно стилистические средства подразделяют на изобразительные и выразительные. Изобразительными средствами языка называют все виды образного употребления слов, словосочетаний и фонем, эти средства в большей мере являются лексическими. При этом все виды переносного значения называют общим термином - «тропы», сюда входят: метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, перифраза, олицетворение, гипербола, литота и т.д. Выразительные средства, или фигуры речи, не создают образов, а повышают выразительность речи и усиливают ее эмоциональность и экспрессивность. К выразительным средствам относят: риторические обращения и вопросы, парцелляцию, умолчание, анафору, эпифору, градацию, инверсию и т.д.
В первую очередь обратимся к использованию тропов, так называемых лексических средств создания образности. Исследователи рассматривают троп (от греч. tropos - поворот, оборот речи) как перенос наименования, иногда называемый переносом значения, заключающийся в том, что слово, словосочетание, предложение, традиционно называющие один предмет (явление, процесс, свойство), используются в данной речевой ситуации для обозначения другого предмета, явления и т.д., связанного с первым той или иной формой содержательного или смыслового отношения. Именно поэтому В.В. Виноградов указывал, что образность - это прежде всего совокупность различных видов переносного употребления слов, разных способов образования переносного значения слов и выражений. Функция образной характеристики в тропах преобладает над функцией номинации [Виноградов. О теории, 1971, 47]. Л.А. Введенская дает тропам следующее определение: «Тропы - обороты речи и слова в переносном значении, сохраняющие выразительность и образность» [Введенская. Русский, 2004, 164]. Они характеризуются одновременной реализацией двух значений: словарного и контекстуального предметно-логического. В силу этого осмысление тропов составляет сложный процесс, сопровождающийся выявлением связей между тремя компонентами - словарным значением тропа, его контекстуальным значением и значениями других слов текста. Таким образом, тропы - это стилистически маркированные слова или выражения, называющие объект или его свойство не по тем особенностям, которые ему присущи по самой его сущности, а по тем ассоциациям, которые они вызывают. В основе тропа лежит сопоставление понятия, представленного в традиционном употреблении лексической единицы, и понятия передаваемого этой же единицей в художественной речи при выполнении специальной стилистической функции. Другими словами, некое сопоставление двух понятий, которые представляются близкими в каком-то отношении. Особый интерес в современном переводоведении представляет проблема перевода тропов, так как из-за национальных особенностей стилистических систем разных языков перевод нередко вызывает затруднения у переводчиков. Совокупность значений узуальных образных средств языка отражает типовые образные представления языковой культуры, составляющие образный строй языка. Эти образные представления, с одной стороны, отражают культурно-исторический опыт народа, а с другой стороны, - закладывают в языковую способность личности стереотипные для данного языкового коллектива модели образного ассоциирования. Но каким бы сложным ни был образ, созданный автором, на наш взгляд, необходимо сохранить образ оригинала в переводе. Многие ученые подчеркивают мысль о том, что переводчик должен стремиться воспроизвести функцию приема, а не сам прием. По мнению О.А. Шилиной, для перевода образного средства необходимо определить его информационное содержание, его семантическую структуру. В теории перевода важную роль играет сравнительное определение объема образной информации подлинника и перевода. О.А. Шилина убеждена, что анализ образной информации следует проводить на уровне языка, определяя и сравнивая постоянно закрепленные за словом объем и содержание образной информации [Шилина. Синонимия, 2002, 171-172].
Указывая на определённые сложности при переводе образных средств, Р.А. Юсупов выделяет 4 способа перевода словосочетаний-тропов и фразеологических оборотов [Юсупов. Тэрж,емэ, 1975, 52-63].
Первый способ - дословный, т.е. перевод с сохранением вещественного смысла отдельных компонентов. Если средства художественной выразительности оригинала при переводе не теряют своей образности, эмоциональности и если образы, выражаемые ими, понятны тому народу, на язык которого осуществляется перевод, то эти средства речевой образности оригинала, по его мнению, необходимо перенести на язык перевода. Это важно, так как в образах подлинника отражаются национальное своеобразие народа, с языка которого осуществляется перевод, особенности его умения воспринимать, представлять мир, уподоблять предметы, вещи, явления природы и т.д.
Второй способ представляет передачу тропов с изменением некоторых компонентов. В данном случае образы заменяются или видоизменяются, тем не менее, они являются соответствиями, т.к. в них сохранены переносное значение, эмоциональность, образность исходных тропов.
Третий способ передачи тропов Юсупов Р.А. рассматривает как нахождение при переводе художественных соответствий-тропов в разрезе словосочетаний. В некоторых случаях, по его мнению, художественно-изобразительные средства, словесные образы языка при переводе приходится менять, это объясняется тем, что в видении мира, складе ума и в уподоблении предметов, вещей у разных народов имеются различия. Он приводит пример с образом ястреба, который в русском языке представляет положительный образ, а в татарском, напротив, - отрицательный. Переводчик в таких случаях может добиться полноценности перевода только заменой образа оригинала, таким образом в языке перевода, который наиболее полно соответствует подлиннику по эмоциональной силе. Четвертый способ - компенсация, заключается в замене непереведенного элемента подлинника анологичным или иным элементом, восполняющим потерю информации и способным оказать аналогичное воздействие на читателя.
Выразительные возможности метафоры в переводе
На основе анализа произведений «Рэшэ», «Саз чзчэге», «Тынычлану» с точки зрения употребления в них лексических изобразительных средств языка, мы выявили, что языку А. Еники присущи насыщенная образность и высокая степень метафоризации. Одним из наиболее часто употребляемых лексических стилистических приемов в этих произведениях является метафора. Причем автор использует как простые, так и развернутые метафоры. Последние могут охватывать целые предложения или несколько предложений, составляя цепочку метафор общей семантики.
Как отмечалось выше, перевод метафор осуществляется четырьмя основными способами. В этом параграфе рассмотрим перевод метафор с изменением некоторых компонентов, при котором образ оригинала в основном сохраняется, изменяются лишь несущественные компоненты.
Р.А. Юсупов справедливо замечает, что метафоры, в отличие от сравнений, состоящих из уподобляемой и уподобляющей частей и средства связи, при дословном переводе и переводе с некоторым изменением иногда теряют свое значение и образ, т.е. то, что составляет их суть. Тем не менее, единство объективной действительности, отражаемой в тропах разных языков, а также общие моменты в художественном мышлении русских и татар обусловливают существование значительного количества метафор, имеющих в русском и татарском языках одинаковое значение и выражающих в основном одинаковые образы [Юсупов. Лексико-фразеологические, 1980, 317].
Нужно отметить, образный строй произведения - это та область, где процесс перевода поддается наименьшей предсказуемости и формализации. Здесь решение трудных задач почти целиком зависит от языкового чутья переводчика. В силу своей индивидуальности каждое отдельное слово-образ является единичным случаем, требующим специального подхода. А.Б. Аникина выделяет три характеристики образного слова с точки его семантики: «1) по своей предметной отнесенности оно конкретно, обычно вызывает наглядное представление о внеязыковых явлениях действительности; 2) функция образного слова не исчерпывается одним только коммуникативным заданием, оно содержит дополнительный смысл, проявляющийся в микро- или макроконтексте. Оно выражает личностный, индивидуальный смысл и несет на себе печать живого творческого восприятия и отображения реальности, свойственной автору; 3) оно оказывает эстетическое воздействие на читателя, которое складывается из представлений о живых ощущениях, отразившихся в слове. Они воздействует на чувства и воображение читателя, выражая эмоционально-экспрессивный аспект» [Аникина. Образное, 1985, 18]. Адекватно отразить в переводе все эти характеристики сложно. Задача переводчика осложняется еще и тем, что рождение метафорического образа тесно связано с концептуальной системой носителей языка, с их стандартными представлениями, с системой оценок, которые существуют вне языка и лишь вербализуются в нем. Ведь метафора - прежде всего вербализованный прием мышления о мире. Грамматические и лексические различия языков оригинала и перевода, необходимость соблюдения определенных норм языка перевода часто вынуждают переводчика отказаться от некоторых составляющих оригинала и искать замену отдельных его компонентов. А.В. Федоров подчеркивает, что «чем своеобразнее индивидуальный стиль автора, тем иногда специфичнее для данного языка оказываются используемые им возможности сочетания значений; образно-смысловая специфика языка используется, так сказать, до предела, и это при переводе вызывает необходимость изменять вещественные значения одних слов, другие оставлять не воспроизведенными, вводить новые слова для связи - применительно к условиям другого языка, менять грамматические отношения и т.д. [Федоров. Введение, 1958, 295]. Рассмотрим это на конкретных примерах:
Абзасыныц каты кулыннан ничек ычкынырга белмичэ тыпырчынып яшэгэн чагында [3, 126] - день и ночь ломала голову, как бы вырваться из цепких рук дяди [4, 46] В данном примере переводчик заменяет компонент каты (дословно: жесткий, твердый) на цепкий, что более понятно и привычно русскому читателю, тем не менее образ подлинника сохранен. Сочетание цепкие руки в полном объеме передает значение оригинала. Выражение ничек ычкынырга белмичэ тыпырчынып яшэгэн чагында передается фразеологизмом день и ночь ломала голову. Этот фразеологизм в переводе служит воссозданию соответствующей атмосферы оригинала.
Суйды бит бу юньсез узенец соравы белэн [1, 287] - Срезал под корень, шайтан, своим неуместным вопросом [2, 28]. В данном случае дословный перевод был бы несколько непонятен для русского читателя, т.к. суйды дословно передается, как зарезал. По этой причине переводчик это значение передает фразеологизмом срезал под корень. По непонятной причине автор перевода заменяет слово юньсез (дословно: негодный) на шайтан.
В следующих примерах также наблюдается сохранение образности оригинала: Ул... куана алмады, ул бу вйгэ нич катнашы булмаган чит кешедэй салкын булып калды... [3, 160] - Он не мог радоваться, смотрел холодно и равнодушно, будто не имел к дому никакого отношения... [4, 80]; Хэзергэ бары кабынган утны сундермэу, саклау, квчэйту турында гына уйларга ярый [1, 310] - Сейчас надо позаботиться о том, чтобы не дать огню, так ярко вспыхнувшему в их отношениях, угаснуть, сохранить его и по возможности разжечь сильнее [2, 59]; Юк мондый жэтмэгэ беркайчан да элэккэне юк иде эле аныц [1, 314] - Никогда еще не приходилось ему барахтаться в подобных сетях [2, 64]; Уйлар очен эле нич влгермэгэн, пешмэгэн мэсьэлэ [1, 309] - Не вопрос даже, а вопросик не дозрел и до прикидок [2, 59]; Аца бары Идиятнец ощилкэсе кирэк булган. Шул жилкэгэ атланып алгач, Майпэрвэз тезгенне тота белгэн инде [3, 126] - Было бы на ком ехать - остальное не имело значения. Главное оседлать муженька, а уж поводья удержать она сумеет [4, 47]!; «Борчылма, кияу!» - диде нэм кайбер «сулагай» эшлэрне киявеннэн яшереп тэ калдырды [3, 160] - «Ладно, зять, не волнуйся!» — и скрывал от него иные «левые» опреации [4, 79]; Чайкалып торган халык дщгезе... [1, 279] -..бурлящего людского половодья [2, 15]; Талантлы, уткен-зирэк, эмма чиктэн тыш индивидуалист, узенчэ «хврлек» свюче нэм уз рэхэте очен генэ яшэуче оясыз-нисез бер ялгызак кеше... [1, 318] - Семейного гнезда не вьет, однако в его одиноком обиталище всегда тепло и приятно [2, 69].
Как видно из примеров, несмотря на небольшие изменения, переводчикам удалось сохранить в переводе метафоры оригинала. А это очень важно, поскольку в случае с метафорами мы имеем дело с образной передачей понятий. В метафорах специфика национальной картины мира выражена гораздо ярче, чем в остальных словах или свободных словосочетаниях. Метафоризация является тем самым семантическим механизмом, который обеспечивает формирование нового понятия, создает новые значения. Таким образом, метафоры являются результатом эмоциональной, ценностной и оценочной переработки в сознании автора. Вот почему в переводе важно сохранить рисунок подлинника. Однако встречаются случаи, когда переводчик без надобности заменяет один из компонентов метафоры, в то время как в русском языке есть эквивалент этого слова: Хэзер менэ узецне шул татлы эсирлектэн коткарып кара инде [1, 314] - А вот теперь попробуй освободиться от любовного плена [2, 64]. На наш взгляд, татлы эсирлек можно было бы перевести как сладкий плен. В этой метафоре автор не случайно использует определение татлы - сладкий, тем самым он подчеркивает насколько желанны и дороги герою эти отношения.
Несоответствие выразительных возможностей сравнений
Сравнения состоят из двух основных видов: 1) народные и 2) индивидуальные, т.е. сравнения, созданные отдельными мастерами слова. Народные сравнения обычно основываются на общеизвестных свойствах предметов и явлений, а индивидуальные сравнения порой основываются на совершенно неожиданных свойствах предметов и явлений, вследствие чего иногда возникают весьма оригинальные изобразительные средства. Степень оригинальности зависит от таланта, силы фантазии писателя.
С.Ш.Поварисов подчеркивает, что при создании индивидуально-авторского сравнения, необходимо учитывать 3 основных функции: 1) познание; 2) индивидуализация; 3) субъективная оценка [Поварисов. Тел, 1982, 106-107]. Основные проблемы при переводе встречаются, когда переводчик пытается найти дословный эквивалент подобному тропу. Сталкиваясь с авторским сравнением, большинство переводчиков стоит за верность авторскому тексту, но признает возможность маневра, когда это вызвано языковой или художественной необходимостью. Они пытаются увидеть подлинник вместе с автором как бы его глазами, и передать увиденное верно отобранными средствами своего языка. Они не довольствуются тем, чтобы без разбора переносить в перевод все слова оригинала, не учитывая их относительной функции в разных языках. Выявив и уяснив для себя суть, переводчики пытаются найти в своем языке соответствующее языковое выражение.
Р.А. Юсупов справедливо замечает, что в условиях развитого двуязычия, а также широкой практики перевода с русского языка на татарский и с татарского на русский, языки взаимообогащаются сравнениями - как общенародными, так и индивидуальными. В результате такого взаимообогащения языков новыми сравнениями развивается художественное мышление носителей языков, оно обогащается оригинальными образами и понятиями. Таким образом, общий фонд сравнений русского и татарского языков, как и других тропов, развивается.
Согласно используемой нами классификации, третий способ передачи сравнений представляет собой замену сравнения оригинала таким сравнением языка перевода, которое, соответствуя подлиннику по переносному значению, отличается от него по выражаемому образу. Р.А. Юсупов делает здесь весьма существенное замечание: «...следует помнить, что замена сравнения оригинала сравнением языка перевода допускаются лишь в тех случаях, когда перевод не передает образ подлинника» [Юсупов. Лескико-фразеологические, 1980,216]. К сожалению, в исследуемых нами переводах это учитывается не всегда, имеют место случаи необоснованной замены образа сравнения, о которых мы расскажем ниже. Рассуждая о переводе сравнений, А.В. Федоров отмечает: «Сравнение, основанное на образах национальной литературы и фольклора, требует, как нам кажется, комментирования и при переводе произведения, и при толковании соответствующих слов в словаре индивидуального языка писателя» [Федоров. Сравнение, 1981, 62].
Данный способ встречается гораздо реже, чем все остальные способы перевода сравнений. Это связано с созданием средствами татарского языка новых выразительных средств по образцу сравнений русского языка, т.е. заимствованием переносного значения и образов сравнений с русского языка на татарский. Перейдем к рассмотрению примеров:
Йврэгенэ тшэндк шикелле сырышкан шуилы чуалчык, файдасыз уйларны рэхимле кулы белэн йомшак кына сыпырып алучы кемдер кирэк аца [3, 144] -Как не хватает ему добрых ласковых рук, что умели легким движением ответси тягостные, бесполезные думы, распутать клубок сомнений, камнем лежащий на душе! [4, 64]. Автор бесполезные навязчивые думы сравнивает с прицепившимся репейником: тигэнэк шикелле сырышкан шушы чуалчык, файдасыз уйлар. Но сохранение данного образа в переводе не благозвучно, поэтому автор перевода счел нужным заменить другим образом - клубок сомнений, камнем лежащий на душе. Надо отметить, что характерной чертой системы изобразительно-выразительных средств А.Еники является совмещение тропов, в частности совмещение эпитета и сравнения, эпитета и метафоры. Очевидно поэтому, чтобы воспроизвести эту особенность в переводе А.Бадюгина использует этот прием.
Эмма аныц йвзеннэн шундук ниндидер бер соры пэрдэ твшкэн кебек булды [1, 322] - Но с ее лица будто сошла серая тень [2, 75]. В оригинале описывается эмоциональное состояние персонажа, при этом автор изменение выражения лица сравнивает с процессом «сбрасывания» дословно: серой занавески. Для русскоязычного читателя подобное сравнение,. не совсем понятно, поэтому переводчики воспользовались заменой. Они перевели, как с ее лица сошла серая тень, что на русском языке звучит более естественно.
Тау кадэр газап йотып, ахыр чиктэ узенец язмышы белэн килеште [3, 171] - испив нелегкую чашу горьких дум и разочарований, он примирился со своей участью [4, 89]. В оригинале сравнение, образованное при помощи послелога кадэр, указывает на невероятные переживания героя, сравнимые по степени с горой. Но на русском языке подобное сравнение было бы неудачным, поэтому переводчик вводит замену, которая по эмоциональной силе эквивалентна оригиналу, но не является сравнением.
Полная и частичная компенсация сравнений в переводе
Сравнение является одним из способов характеристики персонажей в художественном произведении. У А. Еники сравнение как художественный прием имеет ряд особенностей. Как известно, среди сравнений выделяются две группы: абстрагирующие сравнения (в них сравнивается конкретный предмет с абстрактным понятием) и конкретизирующие (в них сопоставляются конкретные предметы). В произведениях А. Еники преобладают конкретизирующие сравнения - с человеком, с животными, явлениями природы, названиями растений. Эти сравнения выполняют изобразительно-конкретизирующую и эмоционально-оценочную функции. Другая особенность сравнений А. Еники заключается в том, что в них присутствуют традиционные, восходящие к фольклору образы (например, образ цветов, соловья, лошадей, журавлей, дороги). Из более частых особенностей отметим преобладание визуальных характеристик и отсутствие устойчивой отрицательной коннотации в сравнениях людей с животными.
Сравнительные конструкции занимают значительное место среди используемых автором изобразительных средств, прежде всего потому, что в них заложены большие выразительные возможности: эмоциональность, экспрессивность, стилистическая окрашенность, образность, оценочность. При разграничении этих категорий лингвисты сталкиваются с определенными трудностями, обусловленными их взаимопроникновением и взаимодействием (В.В. Виноградов, Е.М. Галкина-Федорук, Е.И. Калмыкова, Л.А. Киселева, А.Л. Коралова, Ю.С. Язикова). Правомерной, на наш взгляд, представляется трактовка этих категорий В.К. Харченко, который полагает, что оценочность, эмоциональность, экспрессия и образность лишь на первый взгляд кажутся тождественными или трудноразличимыми категориями, и каждый коннотативный элемент в семантике слова имеет качественное своеобразие. Он предлагает изображать их взаимодействие по принципу взаимопересекающихся кругов, в общей точке которых находятся слова, совмещающие в себе четыре компонента [Харченко. Разграничение, 1976, 68]. Именно в подобных случаях усматривается синкретичность значения, по терминологии И.В. Арнольд и В.К. Тарасовой [Арнольд. Контекст, 1985, 12].
Лингвистические определения «образности» охватывают как речь, так и язык. Стилистика интересуется художественной значимостью восприятия образных средств, вопросами контекста, т.к. образы способствуют возникновению определенной стилистической коннотации. Е.И. Калмыкова определяет образность «как художественное качество стилистических средств, их способность создать реальную картину описания, достичь максимальной конкретности, рельефности и наглядности изображения» [Калмыкова. Образность, 1969, 13].
Однако необходимо отметить, что образное видение мира имеет лингвистическую детерминированность, поскольку базируется на закрепленных в языковых единицах образах, общепринятых для определенной языковой культуры, связанных с мифологическими, религиозными представлениями нации, с социально-историческим, духовно-нравственным и практическим, бытовым жизненным опытом народа. Совокупность значений узуальных образных средств языка отражает типовые образные представления, языковой культуры, составляющие образный строй языка. Эти образные представления, с одной стороны, отражают культурно-исторический опыт народа, а, с другой стороны, - закладывают в языковую способность личности стереотипные для данного языкового коллектива модели образного ассоциирования. Например, у татар человека, спящего глубоким, сладким сном, принято сравнивать с растопленным маслом: май кебек эреп, изрэп йоклау, но дословный перевод этого предложения не понятен русскоязычному читателю: он будет спать как растопленное масло. Подобное сравнение мы встречаем и у А.Еники: Иц элек Яруллин мич башы белэн кызыксынды: сыеп буламы, эгэр сыеп булса, аныц очен мич башыннын да рэхэт урын юк. Ул шунда май кебек эреп, изрэп йоклаячак [1, 305] - Оказывается, он весь вечер только и мечтал, как погреет спину на теплой леэ/санке, и в предвкушении сладкой дремы он, как домашний кот, блажено потянулся [2, 53]. По описанной выше причине, переводчики опустили это сравнение, соответственно и сам образ, а в качестве компенсации в другом месте ввели образ кота, который ассоциируется в понимании как татарина, так и русского с лежебокой и любителем поспать.
В следующем примере встречаем то же сравнение: майдай эреп-свенеп, кемгэ ничек кенэ ярарага белмичэ йвргэн хатын [1, 371] - Казалось, совсем растаяла от счастья и носилась по дому, как молодушка, не чуя ног, не зная кому и как угодить [2, 141]. Веселое, приподнятое настроение невестки А.Еники описывает через сравнение маидай эреп-свенеп. Но русскоязычному читателю непонятно сравнение женщины с растопленным маслом, так как это не в традициях русского языка. Поэтому переводчик опускает это сравнение, а само ощущение радости, которое в оригинале передано сравнением маидай эреп-свенеп, передает выражением совсем растаяла от счастья, но вместо опущенного сравнения, в качестве компенсации, вводит другое сравнение - как молодушка, а для того чтобы передать ее радостное настроение, добавляет выражение не чуя ног. Таким образом, отсутствие одного средства компенсируется другим.
Их, узебезнец йорт булса, мин аны курчак ое кебек итеп тотар идем! -[3, 149] - Ах, какое счастье - домі [4, 69]. У татар красиво убранную комнату принято сравнивать с домом куклы. Об уютном, опрятном и со вкусом обустроенном доме татары говорят: курчак ее кебек. Именно о таком доме мечтает героиня повести А.Еники, именно он, по мнению главной героини, принесет им счастье. Но перевод этого предложения без ущерба для смысла невозможен, т.к. в русском языке такое сравнение не принято, поэтому переводчик передает это желание Назии эмоциональным выражением: - Ах, какое счастье - домі
-Яхшы, - диде Мостафин, ничектер, узен урэ каткан солдат шикеллерэк хис итеп. Эйе, бик начар тээсир итте аца секретарьнец бу соцгы сузлэре... Туя, Андреев, узе дд сизмэстэн, аныц вчен гаять куцелсез бер хакыикатьне фаш итте: чыннан да, ул Нажиясен ацардан яшерэ бит [3, 143]. В переводе читаем: -Хорошо. - Мустафину были неприятны слова секретаря. Как видим из примера, в переводе сравнение ощущений Мустафина диде Мостафин, ничектер, узен урэ каткан солдат шикеллерэк хис итеп опущено. Однако перводчик в следующем же предложении вводит другое сравнение, тем самым компенсируя отсутствие одного сравнения другим: Андреев, сам того не подозревая, разоблачил его, поймал за руку, словно воришку: ведь так оно и есть - он прятал жену [4, 63]. дбидэн ишеткэн, тормышныц узе кебек, гади.