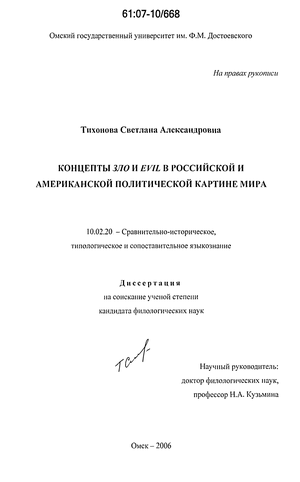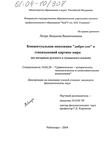Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Концептуальный анализ политического дискурса 15
1.1. Концепт в лингвокогнитивной интерпретации 15
1.1.1. Соотношение терминов «концепт», «понятие», «представление», «лексическое значение» и «слово» 15
1.1.2. Структура и содержание концептов 24
1.1.3. Методики исследования концептов 30
1.2. Отражение политики в языковой картине мира 37
1.3. Концептуализация мира в политическом дискурсе 48
Выводы 55
ГЛАВА 2. Концептуализация зла в российской политической картине мира 57
2.1. Концепт зло в русской картине мира 59
2.1.1. Дефиниционные признаки концепта зло (по данным лингвистических словарей) 59
2.1.2. Энциклопедические признаки концепта зло (поданным лингвистического эксперимента) 66
2.2. Концепт зло в российском политическом дискурсе 75
2.2.1. Понятийный компонент концепта зло в российском политическом дискурсе 75
2.2.2. Образный компонент концепта зло в российском политическом дискурсе 114
Выводы 125
ГЛАВА 3. Концептуализация зла в американской политической картине мира 127
3.1. Концепт evil в американской картине мира 127
3.1.1. Дефиниционные признаки концепта evil (по данным лингвистических словарей) 127
3.1.2. Энциклопедические признаки концепта ev//(no данным лингвистического эксперимента) 133
3.2. Концепт evil в американском политическом дискурсе 139
3.2.1. Понятийный компонент концепта evil в американском политическом дискурсе 139
3.2.2. Образный компонент концепта evil в американском политическом дискурсе 176
Выводы 188
ГЛАВА 4. Отражение национально-культурной специфики концептов зло и evil в политической картине мира 190
4.1. Сопоставление концептов зло и evil в картине мира русских и американцев 190
4.2. Сопоставление содержательных компонентов концептов зло и evil в политическом дискурсе 193
Выводы 205
Заключение 207
Список литературы 212
Список словарей 231
Принятые сокращения 233
- Концепт в лингвокогнитивной интерпретации
- Концепт зло в русской картине мира
- Концепт evil в американской картине мира
- Сопоставление концептов зло и evil в картине мира русских и американцев
Введение к работе
В последнее время наблюдается большой интерес к изучению политической картины мира, политического дискурса со стороны исследователей, занимающихся политологией, социологией, философией, а также лингвистикой. Интерес лингвистов к языку политики можно объяснить тем, что политическая сфера (как важная часть национальной культуры) входит в языковую картину мира и, по мнению А.П. Чудинова [Чудинов 2005: 55], концептуализируется особым образом в национальном сознании. В политическом дискурсе «привычные единицы языка получают необычную интерпретацию» [Гаврилова 20046: 128], именно поэтому анализ политических концептов является одной из наиболее актуальных задач политической лингвистики. За последние несколько лет появилось большое количество работ, посвященных исследованию различных концептов, функционирующих в политическом дискурсе: концепт политика [Трофимова 2004], концепт борьба [Тихонова 2005], концепт Америка [Гришина 2004], концепт война [Бенедиктова 2004], концепт власть [Ермаков 2004].
Однако мы полагаем, что в современных условиях особое значение приобретают проблемы совместимости моральных представлений о добре и зле и политической целесообразности, применимости моральных оценок к политическим действиям. М.В. Ильин также замечает, что продуцирование новых ситуативных значений усиливается в случае активной причастности некоего концепта к ключевым сферам человеческих интересов, включая политику и безопасность [Ильин 1997: 22]. Поэтому, как представляется, в свете политических событий последних лет концепты зло и evil можно считать ключевыми для современной российской и американской политической картины мира, репрезентируемой прежде всего национальным политическим дискурсом.
Политический дискурс находит свое выражение в различных жанрах начиная с политических слухов и кончая политическими документами. Однако большой интерес для исследования представляют тексты печатных и
5 электронных средств массовой информации. Считаем целесообразным принять точку зрения Е. И. Шейгал [Шейгал 2004: 26], полагающей, что любой материал в средствах массовой информации, в котором речь идет о политике и автором которого является политик или, наоборот, адресованный политику, следует относить к полю политического дискурса. Кроме того, масс-медиа являются выражением определенной идеологии, причем идеология в данном контексте предстает как «система смыслов, обеспечивающая постижение и толкование ценностных суждений о мире и обществе» [Тузиков 2002: 123]. В этом случае значение понятия «идеология» близко содержанию понятия «мировоззрение». Таким образом, СМИ предлагают не только информацию, но и определенное мировоззрение. Другими словами, медиа создают, распространяют и в некоторой мере навязывают ту или иную картину мира. Без сомнения, средства массовой информации по-разному отражают объективную политическую действительность в зависимости от своей политической направленности. Поэтому, принимая точку зрения О.А. Гришиной [Гришина 2004], согласно которой выбор газет, имеющих какую-либо одну политическую направленность, не позволяет выявить максимально полное количество признаков изучаемого концепта, мы делаем заключение о том, что анализ концепта на материале СМИ разной политической ангажированности позволит исследовать концепт, функционирующий в данном типе дискурса, в полной мере.
Зло относится к концептам абстрактных номинаций (по типологии А.П. Бабушкина). По мнению А.П. Бабушкина [Бабушкин 1996], «концепты слов отвлеченной семантики относятся к субстанциям «мира умопостигаемого», которые сами по себе чувственно не воспринимаются» [Бабушкин 1996: 32]. Сущность таких слов расплывчата. «Носители языка не знают их точных дефиниций и, как правило, не узнают их по словарям» [там же: 32]. Концепты абстрактных имен не носят фиксированного характера, они -текучи, более индивидуальны, имеют модально-оценочный характер и определяются морально-нравственными нормами и традициями социума [Бабуш-
6 кин 1996: 33]. Тем самым можно предположить, что, несмотря на то, что концепт зло, как и добро, свобода, красота, существует в любом языке и актуален для всех, в разных этнокультурах можно найти немало различий в концептуализации феномена зла.
Кроме того, принимая во внимание идею Н.И. Азарова [Азаров 1997] о том, что «нравственные категории «благо», «добро», «зло», «справедливость», используемые в политическом мышлении, выражают, как правило, иное содержание, чем в сознании моральном» [Азаров 1997: 118], можно прогнозировать наличие существенных отличий между концептом зло и концептом evil в политической картине мира русских и американцев.
Актуальность избранной темы определяется несколькими положениями:
Несмотря на большое количество работ, посвященных различным морально-оценочным концептам ([Егорова 2005, Лисицька 2001, Лотря 2004, Лунина 2005, Моспанова 2005, Мокаева 2006, Неверова 2006]), не существует исследований концептуализации зла в политической картине мира ни в рамках одной лингвокультуры, ни - тем более - в сопоставительном аспекте.
Исследование способов концептуализации зла ведется в соответствии с современной научной антропоцентрической парадигмой, так как зло занимает одно из центральных мест в системе морально-этических ценностей человека и общества.
3. Изучение концептов зло и evil как части политической картины мира
имеет междисциплинарный характер и объединяет интересы и задачи
следующих смежных наук: когнитивной лингвистики, семантики, лин-
гвокультурологии, политической лингвистики, социолингвистики.
Предметом исследования являются концепты зло и evil, локализую
щиеся в политической картине мира носителя русской и американской лин
гвокультуры.
7 Объектом изучения являются особенности концептуализации зла в национальных политических картинах мира и вербальные средства репрезентации концептов.
Цель исследования состоит в выявлении лингвокультурной специфики концептов зло и evil посредством их моделирования, системного описания и сопоставления их значимости в российской и американской политической картине мира.
Цель работы определяет следующие задачи:
проанализировать различные подходы к определению концепта, его структуру и содержание; определить систему методов исследования концептов и выработать алгоритм концептуального анализа;
установить соотношение между политической картиной мира и политическим дискурсом;
описать понятийные признаки концептов, зафиксированные в толковых словарях русского и английского языков и корпусе российского и американского политического дискурса;
на основе ассоциативного эксперимента и анализа концептуальных метафор выделить образные признаки концептов;
построить обобщенные модели концептов зло и evil, функционирующих в политическом дискурсе;
провести сопоставительный анализ исследуемых концептов по основным содержательным компонентам, выявить общие признаки и факты национально-культурной специфики концептов;
интерпретировать исследуемые концепты как способ отображения современной политической ситуации.
В зависимости от поставленных задач использовался комплексный метод, включающий анализ словарных дефиниций, элементы логического анализа, методы компонентного и сопоставительного анализа, элементы этимологического анализа, метод контекстного анализа материалов СМИ, а также психолингвистический метод (ассоциативный эксперимент), социологиче-
8 ский метод анкетирования носителей русского языка и американского варианта английского языка и статистический метод, предполагающий количественную обработку полученных материалов.
В диссертации используется синхронный подход к описанию исследуемых явлений, что дает полное представление об особенностях концептуализации отдельных фрагментов современной политической картины мира.
Методологической основой диссертации являются работы известных отечественных и зарубежных когнитологов и лингвокультурологов: Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1990], А. П. Бабушкина [Бабушкин 1996], Н. Н. Болдырева [Болдырев 2000], Т.А. ван Дейка [Ван Дейк 1989], А. Вежбицкой [Вежбицкая 2001], С. Г. Воркачева [Воркачев 2004], М.В. Гавриловой [Гав-рилова 2004], В. И. Карасика [Карасик 2004], Е. С. Кубряковой [Кубрякова 1996], Дж. Лакоффа [Лакофф 2004а], М. Джонсона [Лакофф 20046], 3. Д. Поповой [Попова 2003], 10. С. Степанова [Степанов 1997], И. А. Стернина [Стернин 2004], А. П. Чудинова [Чудинов 2001], Е. И. Шейгал [Шейгал 2004] и др.
Материалом для исследования послужили лексикографические источники (толковые, синонимические словари русского и английского языков, а также словари тезаурусного типа), материал, полученный путем анкетирования носителей русской и американской лингвокультур (через сеть Интернет), а также статьи политической тематики из электронных изданий российских и американских газет и журналов за 2001-2005 год. Корпус материала для исследования русского концепта был сформирован на основе следующих российских общенациональных газет разной политической направленности: «Российская газета» (2003-2005), «Независимая газета» (2001-2005), «Новая газета» (2002-2004), «Известия» (2003-2005), «Советская Россия» (2003-2005), «Время новостей» (2002-2005), «Аргументы и факты» (2001-2005), «Московские новости» (2002-2005); журналов: «Новое время» (2001-2005), «Россия в глобальной политике» (2002-2005) и «Политического журнала» (2004-2005). Кроме того, анализу подверглись основные заявления президен-
9 та РФ В.В. Путина за 2001-2005 годы. Для анализа концепта evil были привлечены статьи из американских общенациональных и региональных газет и журналов разной политической направленности: Washington Times (2002-2005), New York Times (2004-2005), Washington Post (2002, 2004), USA Today (2004), People's Weekly (2001-2005), Los Angeles Weekly (2001-2005), San Francisco Chronicle (2001-2005), Chicago Tribune (2001-2005), New York Post (2001-2005), San Diego Tribune(2005), Delaware State News (2001-2005), St. Petersburg Times (2001-2005), Newsweek (2002-2004), Интернет - издания Opinion Journal (электронная версия журнала US News & World Report) и uExpress, а также выступления Дж. Буша-мл. за тот же период.
Всего было проанализировано 376 статей русских СМИ и 47 заявлений В.В. Путина, 697 статей из американских изданий и 54 выступления Дж. Буша, отбор которых проводился при помощи поисковой системы официальных сайтов данных информационных источников, позволяющих выявлять статьи по наличию в них определенного слова, и официальных сайтов президентов России и США. Нами отбирались статьи с присутствием в них имени исследуемых концептов, далее путем контент-анализа отбирались статьи по политическим вопросам. Из 423 текстов на русском и 527 на английском языке было выделено соответственно 500 и 527 микротекстов употребления ключевого имени концептов зло и evil в различных контекстах.
В основе проведенного исследования лежит следующая гипотеза: не только национальный язык, но и политический дискурс накладывает определенные особенности на способы концептуализации зла. Анализируемые концепты в русской и американской лингвокультурах содержат не только общие, но и дифференциальные признаки, отображающие современную политическую ситуацию.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые изучена концептуализация зла в политической картине мира представителей различных лингвокультур;
предложено понимание концептов зло и evil как мегаконцептов и установлены наборы подчиненных им частных концептов;
описано содержание политических концептов в единстве понятийного, образного и значимостного компонентов;
впервые на материале опроса представителей русской и американской лингвокультур воссозданы наивно-языковые концепты-фреймы зло и evil, отражающие этноспецифику исследуемых картин мира.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в установлении связи между способами концептуализации моральных явлений и функционированием соответствующих концептов в политическом дискурсе, а также в выявлении закономерностей репрезентации концептов в русском и американском политическом дискурсе, в развитии методологии сопоставительного описания концептов.
Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы в практике преподавания английского и русского языков как иностранных, при подготовке общих и специальных курсов по лингвокультурологии, лингвострановедению, межкультурной коммуникации. Кроме того, представляется, что данные проведенных исследований будут интересы для специалистов в области СМИ и политологии. В частности, работа может служить источником для изучения особенностей освещения политической информации в российских и американских СМИ, что также представляет интерес для переводчиков. Проблемы влияния политического медиа-дискурса на формирование национального сознания, затронутые в диссертационном исследовании, являются актуальными для сотрудников отделов по связям с общественностью государственных структур.
На защиту выносятся следующие положения: 1. Зло и evil - универсальные концепты, в настоящее время наиболее полно реализующиеся в политическом дискурсе, в котором посредством языковой репрезентации отражается не только политическая си-
11 туация двух стран, но и особенности мировоззрения, стереотипов и языкового поведения носителей русской и американской культур.
Концепты зло и evil являются мегаконцептами, объединяющими определенный набор частных концептов. В качестве совпадающих в двух культурах выступают концепты терроризм, экстремизм, политический режим, власть, политические выборы, война, коррупция, негативные экономические процессы, негативные социальные процессы, наркотики и моральное зло. Специфическими частными концептами в русской политической картине мира являются государство, законы, преступность, реформы, бизнес, чужие культурные традиции, в американской - торговля людьми.
Сопоставительный анализ репрезентации концептов зло и evil в двух национально-языковых системах выявляет их общие и дифференциальные концептуальные признаки.
Дефиииционныс признаки, выявляемые в ходе анализа словарных толкований имен концептов (зло и evil), позволяют реконструировать прототипическую ситуацию: источник зла - непредвиденное событие или некое состояние человека, способствующее причинению физического или психологического вреда. Особенность русской лингвокуль-туры - необходимость ответа на проявление зла.
Энциклопедические концептуальные признаки сопоставляемых концептов эксплицируются в ассоциативном эксперименте. Общие признаки - 'жестокость', 'убийство', 'причинение вреда', 'ненависть', национально-специфические - 'обман', 'несправедливость', 'предательство', 'боль', 'преступления', 'война' для концепта зло и 'безнравственность', 'инфернальность', 'предубеждение' для концепта evil.
Потенциальные (периферийные) концептуальные признаки, выявляемые через исследование контекстной сочетаемости имен концептов зло и evil, квалифицируются как универсальные ('градуированность
12 размера'и 'степеньважности', 'непостижимость', 'необходимость', 'временная, национальная и религиозная обусловленность') и дифференциальные: для русской ЯКМ- 'неизбежность', 'абсолютность', 'универсальность', для американской - 'реальность'. 4. Сопоставительное изучение репрезентации концептов зло и evil в российском и американском политическом дискурсе позволяет выявить их основные компоненты и описать их национальную специфику.
Понятийный компонент концептов зло и evil может быть представ
лен в виде фрейма «причинение зла». При совпадении структуры
фрейма (общего набора слотов) различия обнаруживаются в характере
і их вербальной репрезентации в русских и американских СМИ.
Универсальные образные параллели: «зло - военный противник», «зло -растение», «зло - вещество», «зло - страна». Для русской ЯКМ характерны модели «зло - сверхъестественное существо», «зло - болезнь»; для американской - «зло - лидер», «зло - работодатель», «зло - захватчики», «зло - оружие», «зло — материальный объект».
Значимостная/ ценностная составляющая концептов указывает на их место в современной политической картине мира. Зло является общечеловеческой антиценностыо, оппозицию которой составляет добро. По этой шкале «добро - зло» человек оценивает все происходящее внутри и вокруг него. Концепты зло и evil в настоящее время активизируются в связи с изменениями культурных, национальных, религиозных и политических факторов. Это проявляется в высокой словообразовательной продуктивности, в большом количестве лексико-семантических вариантов лексем-имен концептов, а также в создании идеологем («evil empire»/ «империя зла» и «axis of evil»/ «ось зла»), в частом использовании имени концептов для психологического воздействия и манипуляции обществом.
Апробация работы. Ход и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры стилистики и языка массовых коммуникаций Омского го-
13 сударственного университета. Основные положения диссертации были изложены на Всероссийской научной конференции с международным участием «Антропоцентрическая парадигма лингвистики и проблемы лингвокультуро-логии» (Стерлитамак, 14 октября 2005 г.), Всероссийской научной конференции «Язык. Система. Личность» (Екатеринбург, 23-25 апреля 2006 г.), I Международной конференции «Изменяющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике» (Кемерово, 29-31 августа 2006 г.). По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 3 статьи и тезисы 3 докладов на научных конференциях.
Структура работы определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (180 наименований), списка словарей (22 наименования), списка принятых в работе сокращений. Основной текст диссертационного исследования изложен на 235 страницах. В работе содержится 7 диаграмм, 3 таблицы и 2 схемы.
Содержание работы. Во введении представлена основная характеристика исследования: указывается актуальность поставленной проблемы, формулируется научная новизна темы, обозначается теоретическая и практическая значимость работы, определяются объект, предмет, методы исследования, основная цель, обусловленные ею задачи и положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Концептуальный анализ политического дискурса» посвящена разграничению терминов «концепт», «понятие», «представление», «лексическое значение» и «слово» в современной лингвистике, анализу существующих точек зрения на структуру, содержание концепта и методики его исследования. Кроме того, рассматривается понятие картины мира, определяется соотношение политического дискурса и политического фрагмента языковой картины мира и выявляются особенности исследования моральных концептов, функционирующих в политическом дискурсе.
Во второй главе «Концептуализация зла в политической картине мира русских» рассматриваются особенности представления исследуемого кон-
14 цепта в словарях и в наивном сознании с помощью анкетирования носителей русского языка. Определяется содержание понятийного, образного и значи-мостного компонентов концепта зло.
В третьей главе «Концептуализация зла в политической картине мира американцев» исследуется структура и содержание концепта evil, функционирующего в американском политическом дискурсе по модели анализа, используемой при изучении концепта зло.
В четвертой главе «Отражение национально-культурной специфики концептов зло и evil в политической картине мира» проводится сопоставительный анализ исследуемых концептов с целью выявления специфических и сходных черт в структуре и содержании концептов.
В заключении обобщаются результаты исследования и намечаются перспективы дальнейшего изучения тических концептов в политическом дискурсе.
В библиографическом разделе представлены списки использованной научной литературы и лексикографических источников.
Список сокращений включает сокращения названий словарей и материалов СМИ, используемых для контент-анализа.
Концепт в лингвокогнитивной интерпретации
Прежде чем рассмотреть термин «концепт», необходимо кратко изложить особенности когнитивного подхода в лингвистике. В центре внимания когнитивной лингвистики находится язык как общий когнитивный механизм. Центральная задача когнитивной лингвистики формулируется как описание и объяснение внутренней структуры и динамики говорящего - слушающего. Одной из ветвей когнитивной лингвистики является когнитивная семантика, которая в свою очередь также неоднородна. К теоретикам когнитивной семантики причисляют Дж. Лакоффа [Лакофф 2004], Р. Лангаккера [Лангаккер 1997], Р. Джекендоффа [Jeckendoff 1983], Ч. Филлмора [Филлмор 1988], Л. Тал ми [Тал ми 1999], представляющих разнообразные подходы внутри когнитивной парадигмы.
Когнитивная семантика нацелена на описание и моделирование содержания исследуемого концепта как ментальной единицы концептосферы путем выявления максимально полного состава языковых средств, объективирующих зтот концепт.
Впервые в лингвистике понятие «концепт» появилось в трудах Г.Фреге [Фреге 1987] и А. Черча [Черч 1960], которые заимствовали его из математической логики. Термин «концепт» получил распространение в отечественной лингвистике сравнительно недавно. И в настоящее время тот термин, как и многие другие лингвистические термины, имеет множество толкований.
В современной лингвистике выделяются два направления, в рамках которых происходит осмысление понятия «концепт», - когнитивное и культурологическое. При когнитивном подходе концепт интерпретируется как ментальное образование, своеобразный фокус знаний о мире, когнитивная структура, включающая разноуровневые единицы сознания (Е.С. Кубрякова [Куб-рякова 1996], А.П. Бабушкин [Бабушкин 1996], И.А. Стернин [Стернин 2004] и др.). В концептуально-культурологическом направлении концепт также рассматривается в системе «язык - сознание - культура», но в центре внимания при том оказывается метаязык культуры (А.С. Аскольдов [Аскольдов 1997], А. Вежбицкая [Вежбицкая 2001а], Ю.С. Степанов [Степанов 1997], Д.С. Лихачев [Лихачев 1997]).
В процессе познания человеком окружающего мира возникают концепты, доступ к которым обеспечивают языковые средства. Таким образом, концепт имеет языковое выражение. Однако, так как концепт, по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина [Попова 20036], есть «комплексная мыслительная единица, которая в процессе мыслительной деятельности поворачивается разными сторонами, актуализируя в процессе мыслительной деятельности свои разные признаки и слои» [Попова 20036: 15], то некоторые признаки или слои могут быть репрезентированы в языке разными языковыми средствами или языковое обозначение того или иного концептуального признака в языке может вообще отсутствовать. При том все потенциальные репрезентации концепта в языке, а именно: отдельные лексемы, фразеологизмы, свободные словосочетания, структурные и позиционные схемы предложения, несущие типовые пропозиции (отмеченные З.Д. Поповой и И.А. Стерниным [Попова 20036: 15] синтаксические концепты), тексты и совокупности текстов - у каждого человека будут индивидуальными. При анализе этих средств вербализации концептов, по мнению Е.Г. Пшедромирской [Пшедромирская 2002], обязательно найдется что-то общее для всех. Это и будет именем концепта. Однако здесь необходимо обратиться к точке зрения В.И. Карасика [Карасик 2004], по мнению которого говорить о наличии имен концептов можно лишь тогда, когда «концептуализируемая область осмыслена в языковом сознании и получает однословное обозначение» [Карасик 2004: 109] Концепт может быть представлен в языке группой лексики, среди которой выбирается имя концепта, а все другие имена становятся его альтернативными обозначениями. Е.Г. Пшедромирская продолжает: именем концепта является его внешняя форма, а внутренней формой считается «его «буквальный смысл», который становится видимым лишь после тщательного этимологического анализа слова или явления» [Пшедромирская 2002: 39].
За каждым концептом, как считает Т.Н. Маляр [Маляр 2001], стоит некая структура знаний. Концепт является частью «концептуальной системы, сложившейся у определенного языкового сообщества в ходе познавательной деятельности» [Маляр 2001: 51].
Концепт зло в русской картине мира
Обобщив различные взгляды на классификацию концептов, а также на их структуру, мы предлагаем рассмотреть концепт зло, функционирующий в политическом дискурсе, по следующей схеме. Согласно трехкомпонентной структуре концепта, на данном тапе исследования рассмотрим понятийный компонент концепта зло, используя данные лингвистических словарей и анкетирование носителей русского языка. Хотя слово представляет концепт не полностью, исследование словарных статей лексемы «зло» дает нам доступ к основным дефиниционным концептуальным признакам данного концепта, которые, по мнению С.Г. Воркачева, позволяют «выделить предмет из класса ему подобных» [Воркачев 20036: 190] и входят в понятийный компонент концепта. Целью опроса респондентов является выделение энциклопедических признаков концепта зло - информации, которой располагают все носители языка и получить которую можно только путем целенаправленных действий. Анкетирование респондентов позволяет выявить некоторые особенности концепта зло в наивном сознании носителей русского языка. Представляется, что энциклопедические признаки частично репрезентируют все три структурных компонентов концепта (понятийный, образный и значимостный). Представляется, что понятийный компонент концепта зло логично рассматривать, опираясь на теорию фреймов. В данном случае вслед за И.А. Тарасовой [Тарасова] мы рассматриваем фрейм «не как тип концепта, а как когнитивную структуру более высокого уровня, тип взаимодействия между концептами, как способ (форму) организации ментального пространства». Полагаем, что сравнение набора и содержания слотов фреймовой структуры концептов зло и evil позволяет выявить лакунарные позиции в содержании исследуемых концептов, а также национально-культурную специфику концептов в разных языках. Известно, что фреймы описывают типичные связи стандартных ситуаций. Фреймовая структура представляет собой ассоциативный набор обязательных и факультативных компонентов — сети смысловых узлов (слотов) и терминалов. М. Минский [Минский 1979] указывает, что каждый узел должен быть заполнен своим «заданием», представляющим собой те или иные характерные черты ситуации, которой он соответствует. Для объяснения быстрого понимания человеком ситуации, представляемой сценарием, Р. Шенк [Шенк 1980] предлагает отождествлять терминалы фрейма-сценария с наиболее характерными вопросами, обычно связанными с той ситуаций. По существу фрейм-сценарий в том случае является собранием вопросов, которые необходимо задать относительно некоторой гипотетической ситуации. Для того чтобы понять действие, человек часто вынужден задавать такие вопросы: "Кто осуществляет действие (агент)?", "Какова цель действия (намерение)?", "Каковы последствия (эффект)?", "На кого то действие влияет (получатель)?", "Каким образом оно произведено (инструмент)?". Разные люди могут задавать разное число вопросов относительно одной и той же ситуации. Число и характер тих вопросов в большой степени зависит от базы знаний относительно обсуждаемого объекта у того или иного индивидуума. Нам представляется, что структура фрейма, выявленная с помощью вопросов, напрямую соотносится с теорией семантических ролей (или падежей, по терминологии Ч. Филлмора). Разные исследователи выделяют от 10 до 30 таких ролей. Таким образом, основные слоты исследуемого фрейма можно обозначить, используя названия актантов (семантических ролей), которые и будут исполнять роль «задания», отражая основные характеристики исследуемой ситуации. Мы предполагаем, что данные лингвистических словарей позволяют наметить основные слоты фрейма «причинение зла». Следующим тапом исследования является проведение анкетирования носителей русского языка с целью получения информации об особенностях функционирования концепта зло в национальном сознании. Результаты данного, начального, тапа исследования послужат базисом для анализа особенностей концептуализации зла в политическом дискурсе. Как любой тический феномен, зло является универсальным и очень значимым концептом для любой лингвокультуры, несмотря на возможные различия в его концептуализации. В русской лингвокультуре об том свидетельствует длительное существование данного концепта и богатое словообразовательное гнездо лексемы «зло». Рассмотрим данные этимологических словарей, которые предоставляют сведения о базовых признаках концепта. По данным Этимологического словаря русского языка М.Фасмера [ЭСФ] и словаря под редакцией Н.М. Шанского [ЭС] слово «зло» является общеславянским, образованным в результате субстантивации прилагательного «злой», основное значение которого - плохой . Кроме того, слово «злой» родственно литовскому atzulas со значением черствый, бесчеловечный , авестинскому zurah-, обозначающему несправедливость и ново-персидскому zur, значение которого фальшивый, ложный . Таким образом, исторически ядро концепта образовано следующими признаками: плохой, бесчеловечный, несправедливый, ложный. На значимость данного концепта в русской лингвокультуре указывает и богатая палитра эпидигматических связей лексемы «зло». В Словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой [СРЯ] кроме слова «зло» зафиксировано еще 73 лексемы с общим корнем «-зло-». По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина [Попова 2003а: 128], изучение словообразовательного поля имени концепта также позволяет выявлять когнитивные признаки концептов. Анализ словарных толкований лексических единиц словообразовательного гнезда «зло» позволяет определить некоторые признаки изучаемого концепта. Так, лексемы «зловещий» (предвещающий зло, несчастье), «злосчастный» (несчастный), «злоключение» (бедствие) репрезентируют концептуальный признак несчастье/ бедствие . Зло может быть репрезентировано в виде преступления. Данный признак вербализуется словами «злодей» (тот, кто совершает злодеяния, преступник), «злодеяние» (тяжкое преступление), «злоумышлять» (замышлять что-нибудь преступное), «злоупотребить» (незаконно использовать что-нибудь во вред кому-чему-нибудь). Признак опасность/ вред раскрывается через лексемы «злокачественный» (очень опасный, грозящий смертью) и «зловредный» (причиняющий зло, вред).
Концепт evil в американской картине мира
При изучении способов и особенностей концептуализации зла в американском политическом дискурсе мы будем придерживаться схемы анализа, апробированной при изучении концепта зло. Прежде всего исследуем содержание понятийного компонента концепта evil, используя данные лингвистических словарей и анкетирование носителей английского языка. Рассмотрим данные этимологического словаря [OED], которые, как представляется, репрезентируют базовые признаки концепта. Лексема «evil», являющаяся именем концепта, происходит от древнеанглийского слова Yfcl со значением bad, vicious (плохой, жестокий, злой). История этой лексемы берет свое начало с протогерманской формы Ubilaz, которая в свою очередь происходит от прото-индо-европейской формы wap- и up-elo-, придавшей лексеме «evil» значение uppity, overreaching bounds (нахальный, перешедший границы). Значение чрезмерный моральный порок/ дурной поступок имелось уже у древнеанглийского слова, однако ключевым значением стало лишь в 18 веке. Таким образом, исторически ядро концепта образовано следующими признаками: плохой , жестокий , чрезмерный , порочный поступок . На лингвистическую ценность данного концепта, в отличие от русского концепта, репрезентированного лексемой «зло», отличающейся значительной словообразовательной продуктивностью, указывает большое количество лексико-семантических вариантов имени концепта evil. «Evil», будучи лексемой с широкой семантикой, насчитывает по словарю Roget s New Millennium Thesaurus [RNMT] 52 синонима (affliction, baseness, blow, calamity, catastrophe, corruption, crime, criminality, curse, debauchery, depravity, devilry, diabolism, disaster, harm, hatred, heinousness, hurt, ill, impiety, indecency, infamy, iniquity, injury, knavery, lewdness, licentiousness, looseness, malevolence, malignity, meanness, mischief, misery, misfortune, obscenity, outrage, pain, perversity, ruin, sin, sinfulness, sorrow, suffering, turpitude, vice, viciousness, vileness, villainy, wickedness, woe, wrong, wrongdoing) и 4 антонима (good, goodness, morality, righteousness). Кроме того, лексема «evil» имеет два грамматического значения - прилагательное и абстрактное существительное. Лексема «evil» является основой для образования ряда других слов: evilly (нар.), evilness (сущ.), evil-doer (сущ.), evildoing (сущ.), evil-minded (прил.). Исследование понятийного компонента, как и в случае с концептом зло, мы начали с анализа семантемы ключевого имени концепта на основе изучения словарных толкований лексемы «evil». Проведенный анализ толкований данного слова, предложенных в ряде словарей английского языка (см. [MED], [LDCE], [LDELC], [CDAE]) позволяет определить evil как very bad or cruel, wicked behaviour, causing great harm, harmful or unpleasant influence or effect, wickedness, the condition of being immoral, cruel, or bad or an act of this type (плохое, жестокое поведение, действие, причиняющее ущерб; неприятное влияние; жестокое, аморальное состояние или событие такого типа). Более детальное представление о понятийном компоненте концепта evil позволяет получить методика анализа словарей тезаурусного типа, предложенная Е.И. Шейгал и Е.С. Арчаковой [Шейгал 2002а]. Они, опираясь на утверждение С.А. Жаботинской о том, что «концептуальный анализ есть анализ одних концептов с помощью других» [Жаботинская 1997: 4], предлагают к общеизвестным методикам исследования концептов добавить выявление концептуальных связей через анализ словарей тезаурусного типа. Как концепты образуют целостную систему с определенными связями между ними, так и слова связаны со значениями многих других, что отмечал Ю.Н. Караулов. По тому представляется, что ссылки в тезаурусных словарях помогут выявить связь базового имени концепта с лексемами, которые также могут являться словами-репрезентантами исследуемого концепта или же смежных концептов. По существу лексемы в тезаурусных словарях представляют собой различного вида синонимы. Итак, рассмотрим базовое имя концепта evil и ряд смежных лексем, зафиксированных в словарях тезаурусного типа. Анализ данных «Тезауруса» Роже [RT], «Тезауруса» Вебстера [WNWT], Оксфордского Тезауруса [СОТ] и Оксфордского словаря синонимов и антонимов [ODSA] выявил наиболее часто встречаемые лексемы, являющиеся функциональными квивалентами базового имени концепта. 1. Vice/ vicious/ viciousness - evil or criminal activities that involve sex or drugs; a bad or immoral quality in someone s character; violent and dangerous, and likely to hurt someone; 2. Wrong/ wrongdoing - not morally right or acceptable; behaviour that is not morally right; illegal or immoral behaviour 3. Sin/ sinful/ sinfulness - something that you strongly disapprove of; literary or biblical morally wrong or guilty of doing something morally wrong; very wrong or bad 4. Devil/ demonic/ diabolic/ devilment - any evil spirit; wild or bad behaviour that causes trouble; wild and cruel; evil or cruel 5. Immorality/ amorality- behaviour that is morally wrong; having no moral standards at all 6. Foul/ foulness/ foul play- an action in a sport that is against the rules; evil or cruel; actions that are dishonest or unfair
Сопоставление концептов зло и evil в картине мира русских и американцев
Анализируемые концепты имеют имя, представляющее абстрактное существительное с широкой семантикой, - «зло» и «evil».
Исторически ядро концепта зло образовано признаками тохой , бесчеловечный , несправедливый , ложный ; концепта evil - плохой , жестокий , чрезмерный , порочный поступок . Как видно, несмотря на сходство основного смысла, существует разница: в русской культуре зло связано с ложью и несправедливостью, а в англоязычной - с пороком, грехом.
Анализ словарных статей позволяет реконструировать модель ситуации по причинению зла, существующей в русскоязычном и англоязычном сознании. Как видно из таблицы 1, источником зла в рассматриваемых лингво-культурах является непредвиденное событие или некое состояние человека, побуждающее его на причинение вреда. В результате данной ситуации наносится физический или психологический вред. Однако в русской культуре за таким событием следуют ответные действия, что в англокультуре не кспли-цируется.
Полученные результаты по базовому содержанию сопоставляемых концептов дополняются данными ассоциативного ксперимента. Русские и американцы единодушны во мнении, что зло есть жестокость, убийство, причинение вреда, ненависть. Отличие состоит в том, что русские часто ассоциируют зло с обманом и несправедливостью, предательством и болью, преступлениями и войной. Полагаем, что то связано с политическими и кономическими факторами, характерными для России и ее предшественника СССР. Особенными ассоциатами для американцев являют-сябезнравственность, дьявол и предубеждение.
Образы зла также указывают на национальные особенности восприятия изучаемого феномена. Исторические фигуры Сталина и Гитлера, как и представители современности - террорист № 1 бен Ладен и президент США Дж. Буш мл., являются общепризнанными воплощениями зла. Остальные ассоциированные со злом личности отражают особенности политической истории двух стран. Русские называют прежних лидеров страны - Ленина и Ельцина, а американцы - политических деятелей стран, оппозиционных США, таких как: С. Хусейн, Хо Ши Мин, Ф. Кастро, Че Гевара, Я. Арафат, Иди Амин, Уго Чавес.
По мнению респондентов, причинение зла в политике прежде всего связано с использованием власти в личных интересах, коррупцией, ущемлением прав граждан, причинением какого-либо вреда гражданам, развязыванием войны. Кроме того носители русского языка указывали на характерные кономические проблемы России - нищету народа, халатное отношение руководителей страны к благосостоянию граждан.
Опрос представителей сопоставляемых лингвокультур выявил особенности восприятия ситуации причинения зла в политике. И русские, и американцы сошлись во мнении, что зло прежде всего исходит от террористов и чиновников. В качестве дополнительных субъектов для русских выступают олигархи, а для американцев - нынешний президент Буш. В России жертвами являются все граждане, в США вред прежде всего наносится различным группам меньшинств. В результате описываемой ситуации Россия сталкивается с беспорядками в стране, ростом преступности и кономиче-ским кризисом. Американцев больше всего беспокоит падение нравственности и кономического благосостояния. Борьбу со злом русские доверяют политикам (39% ), граждане страны играют второстепенную роль (32,4%). Более сильную гражданскую позицию проявляют американцы. По их мнению, ведущая роль в борьбе со злом принадлежит гражданам страны и журналистам, а политикам отводится лишь третье место. Полученные данные, представляется, отражают особенности национального характера - неагентивность (фатальность, покорность) русских и агептивность (деятельностный подход) американцев.
Таким образом, сопоставление содержания концептов по данным лингвистических словарей и опросу носителей русской и американской лингво-культуры позволяет нам сделать вывод о практическом совпадении ядерных признаков концептов. Однако следует оговориться, что словари фиксируют основное общекультурное содержание концепта, вне зависимости от сферы его функционирования. Анкетирование носителей русской и американской лингвокультур позволило выявить особенности восприятия политического зла в наивном сознании.