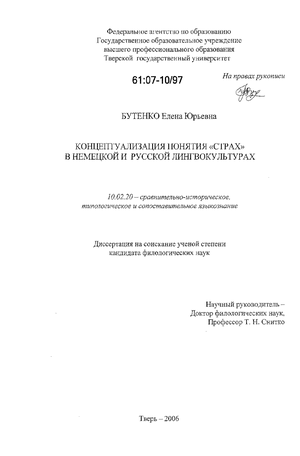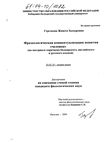Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Общетеоретические. и методологические основания исследования
1.1. Основные понятия и задачи лингвокультурологических исследований .14
1.1.1. Понятие концепта и концептуальный анализ в лингвокультурологии
1.1.1.1. Концепт и понятие 19
1.1.1.2. Онтология эмоциональных концептов 25
1.1.1.3. Способы символизации и средства языковой концептуализации эмоций 27
1.1.1.4. Процедуры концептуального анализа 28
1.2. Meтодологический аппарат филологической герменевтики 32
1.3. Методологические основания данного лингвокультурологического исследования 39
1.4. Онтологические основания концепта СТРАХ в европейской культурной традиции 41
1.5. Выводы по Главе 1 51
Глава 2. Концептуализация понятия «страх» в немецкой лингвокультуре
2.1 Лингвокультурный статус конпепта СТРАХ в немецкой лингвокультуре ..55
2.2. Концептуализация понятия «страх» в философии экзистенциализма 70
2.3. Концептуализация понятия «страх» в немецкой художественной литературе 82
2.4. Концептуализация понятия «страх» R немецкой мифологии, эпосе, фольклоре, фразеологических единицах и паремиях 93
2.5. Выводы по Главе 2 108
Глава 3. Концептуализация понятия «страх» в русской лингвокультуге
3.1. Лингвокультурный статус концепта «страх» врусской липгвокультуре ...110
3.2. Концептуализация понятия «страх» в русской религиозной философии 119
3.3. Концептуализация понятия «страх» в русской художественной литературе 129
3.4. Концептуализация понятия «страх» в русской мифологии, фольклоре, фразеологических единицах и паремиях 139
3.5. Специфические особенности концептуальной парадигмы понятия «страх» в двух лингвокультурах 151
3.6. Выводы по Главе 3 157
Заключение 160
Список литературы 168
Список словарей 178
Список источников примеров 182
Приложение 1 185
Приложение 2 189
- Meтодологический аппарат филологической герменевтики
- Лингвокультурный статус конпепта СТРАХ в немецкой лингвокультуре
- Концептуализация понятия «страх» R немецкой мифологии, эпосе, фольклоре, фразеологических единицах и паремиях
- Лингвокультурный статус концепта «страх» врусской липгвокультуре
Введение к работе
Актуальность настоящего исследования обусловлена двумя основополагающими представлениями европейского языкознания: во-первых, идеей взаимосвязи культуры и языка, традиционной для европейской лингвистической науки, но приведшей в конце двадцатого века к возникновению лингвокулътурологии как самостоятельной лингвистической дисциплины и, во-вторых, идеей экзистенциональной значимости эмоций и важности их изучения в рамках научного предмета лингвистики. Как разноплановые изыскания в области взаимоотношения языка и культуры, ставшие предметом лингвокультурологии. так и эмоциональные переживания человека, в рамках антропоцентрического подхода ставшие в последние десятилетия в центр изучения многих научных дисциплин, являются важнейшими направлениями проблемного поиска современной лингвистики.
Расширение исследований в области лингвокультурологии во многом объясняется сменой парадигм в лингвистике. Современный этап развития научной мысли характеризуется важнейшим методологическим сдвигом в сторону гуманитарного знания. Для лингвистики этот методологический поворот означает возрастание интереса к языку как феномену человеческой культуры. Внутри лингвистики вычленяются дисциплины, занимающиеся изучением языка в тесной связи с сознанием и мышлением человека, культурой и духовной жизнью народов, В рамках указанной тенденции изучение лингвокультурной проблематики становится все более актуальным. Лингюкультурный подход к изучению эмоциональной сферы и ее вербального представления позволяет выявлять специфическую логику, свойственную носителям той или иной лингвокультуры.
СТРАХ является одним из ключевых концептов культуры, т.е. является обусловленной культурой ядерной (базовой) единицей картины мира, обладающей экзистенциальной значимостью и для отдельной языковой личности, и для лингв окультурно го сообщества в целом. СТРАХ
рассматривается в качестве одного из основных эмоциональных концептов. Заметим, что под последним обычно понимается этнокулътурно обусловленное, вербально оформленное образование, включающее помимо понятия культурную ценность и замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации однопорядковые элементы мира, С точки зрения онтогенеза страх считается одной из базисных эмоций.
Все вышесказанное определяет актуальность разработки проблематики, связанной с концептуализацией понятия «страх» в двух липгвокультурах. Подчеркнем, что актуальность темы исследования определяется как внутрилингвистическими, так и впелингвистическими причинами. В частности, внутри лингвистики в рамках лингвокультурологии остается не вполне решенной проблема методов описания культурных смыслов лексики. Вне лингвистики проблема страха рассматривалась практически всеми философскими направлениями, В то же время многие вопросы, касающиеся природы страха, не могут быть удовлетворительно решены без предварительных лингвистических разработок на материале различающихся лингвокультур,
СТРАХ как один из основных эмоциональных концептов неоднократно привлекал внимание отечественных и зарубежных лингвистов, В последние десятилетия концепт СТРАХ анализировался в следующих направлениях;
- описывался когнитивный сценарий на языке универсальных
семантических элементов немецкого концепта ANGST [Всжбицкая 2001];
проводился анализ фразеологических единиц, отражающих
физиологическое проявление страха на материале русского языка
[Феоктистова 1996. Ссмененко 2002];
страх рассматривался как составная часть эмоциональной концентосферы немецкого и русского языков [Красавский 2001];
- выявлялась образная составляющая в идиомах «страха» [Добровольский
1996];
- эмоциональный концепт СТРАХ исследовался в сопоставительной
перспективе на основе английского и русского языков [Зайкина 2004];
на основе когнитивного подхода к языку исследовался феномен Angst, его психологический, понятийный и культурный аспект [Аблецова 2005];
в русле лингвопсихологии проводился контрастивный анализ концепта СТРАХ в русском и немецком языках на материале художественного текста [Воронин 2005];
- рассматривалась с применением когнитивного подхода динамика
эмоционального концепта СТРАХ в британской лингвокультуре [Яшкина
2005],
Вместе с тем, но нашим данным, комплексный анализ культурных смыслов лексики в разных культурных областях не проводился, не рассматривалось функционирование культурного концепта СТРАХ в двух лингвокультурах как совершаемые мыслительные акты разного уровня рефлексии.
Тема данной работы находится на стыке важнейших областей современной лингвистики: лингвокультурологии, лингвоконцептологии, эмотиологии.
Лингвокуяътуру мы определяем как некоторое единство языка и культуры, составляющее непосредственный предмет лингвокулыурологяи.
Концепт мы дефинируем, вслед за А. Вежбицкой, как «объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление человека о мире «Действительность» [Wierzbicka 1985: 23].
Эмоциональный концепт, вслед за Н.А. Краеавским, мы определяем как «этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое лексически, фразеологически оформленное образование, базирующееся на понятийной основе, и вк;ночающее в себя помимо понятия культурную ценность, функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации однопорядковые предметы, вызывающие пристрастное отношение к ним человека» [Красавский 2001: 60].
О концептуализации понятий мы говорим как о смыслопоролсдении в разных лингвокулътурных областях, подчиняющимся определенным закономерностям рефлексии. Делая акцент на том, что познающая деятельность человека обусловливает постоянное порождение новых смыслов, концептуализацию понятий мы понимаем как разлитые «способы» смыслообразования, составляющие специфику лингвокулътуры в ее деятелъностиом аспекте. Смыслопорождепие, по Г.И.Богину, есть некоторая организованность рефлексии |Богип 1986J. Под рефлексией при этом понимается процесс освоения текстовой ситуации посредством ее соотнесения с опытом предшествующей деятельности субъекта [Богип 1986].
Концептуализацию понятия «страх» мы исследуем через описание ноэматических характеристик лексики как совокупности культурных смыслов в разных культурных областях. Понятие ноэмы мы трактуем, по Г.И.Богину, как самую малую единицу с функцией установления связи и отношений между элементами коммуникативной и деятельностной ситуации, которая необходима для емыслообразования [Богин 1986].
Лингвокулы урологический подход к проблеме концептуализации понятия «страх» заключается в описании «множественности» способов смысяообразоваиш в различающихся лингвокулътурах.
Под лингвокультурной областью мы понимаем некоторую обособленную в культурном и языковом отношении область внутри лингвокулътуры. Например. философия, художественная литература, фразеология и паремиология могут в рамках лингвокультурологии рассматриваться как отдельные лингвокультурные области.
Объектом исследования в настоящей работе является концепт СТРАХ в русской и немецкой лингвокулътурах.
В качестве предмета исследования выступает лексика, связанная с концептуализацией понятия «страх».
Научная новизна данной работы заключается как в самой постановке проблемы, так и в ее конкретном решении. В частности, ставится задача
описания липгвокупътур в определенной сфере как некоторой специфической области смыслопорождения. Лексика понятия «страх» анализируется в традиции концептуального анализа и с позиций герменевтического подхода в лингвокультурологии, обусловливающего рассмотрение ноэмати веских характеристик лексики как реализацию рефлексивных актов разного уровня. Систематизируется описание слов - номинантов понятия «страх» относительно различающихся лингво культур. Теоретически осмысляется вопрос о культурном статусе понятий «Angst» и «страх» в немецкой и русской лингвокультурах.
Целью данной работы является исследование концептуализации понятия «страх» в культурно значимых областях немецкой и русской липгвокультур. Поставленная цель конкретизирована в следующих задачах:
выявить специфику лиш'вокультурологического подхода к исследованию языковых явлений;
определить понятия концепта и концептуального анализа в лингвокультурологии;
определить основные теоретические подходы к исследованию концептуализации понятий;
рассмотреть онтологические основания коннеита СТРАХ в европейской культуре;
исследовать смысловую парадигму концепта СТРАХ в различающихся лингвокультурпых областях в двух лингвокультурах;
теоретически обобщить полученные данные о концептуализации понятия «страх» в двух лингвокультурах.
Поставленные задачи обусловили выбор методов исследования. Традиционный для лингвокультурологии метод концептуального анализа мы дополняем герменевтико-интерпретагщонным методом у который позволяет выявить культурнозначимые характеристики лексики рассматриваемого понятия- Для этого используется специальная методика работы с ноэматикой, представляющей собой рефлективное интерпретирующее моделирование с
опорой на еистемо-мыеледеятельностную методологию, разработанную Г.П, Т Цедро вицким. Нозматические свойства лексики анализирую! ея в соответствии: 1) с ее статусом - принадлежностью к определенной лингвокультурной области; 2) с уровнем рефлексии, приведшим к возникновению той или иной поэмы.
Материалом исследования послужили лексикографические источники, философские тексты, тексты художественной литературы, материалы по мифологии и фольклору, сказки, паремии, фразеологизмы двух лингвокультур. Совокупный объем рассмотренного материала составил 21327 страниц. Корпус сплошной выборки составил свыше 4000 примеров вербализации понятия «страх», что обеспечивает достоверность и объективность результатов исследования.
Сущность какого-либо явления, в нашем случае, страха открывается только философскому взгляду. Проблема страха как важнейшего модуса человеческого существования нашла свое выражение в философии экзистенциализма, в русской религиозной философии. Тексты художественной литературы позволяют увидеть спонтанные представления о страхе, ситуациях переживания сіраха, сложившиеся в обыденном сознании человека. Данные мифологии и фольклора подтверждают исторический и эволюпионный характер культурного феномена «страх», обращают внимание на динамику его становления. В паремиях и фразеологизмах в концентрированном виде содержатся образы и оценки «страха» как жизненные смыслы, характерные для той или иной лингвокультуры.
Работа с вышеуказанными источниками в рамках
лингвокультуролошческого подхода позволяет рассмотреть, помимо собственно языковых семантических характеристик, также и культурный статус исследуемых понятий, указывая способы рефлексии, приведшие к их возникновению. Тем самым расширяется понимание своеобразия и уникальности понятия «страх» в различающихся лингвокультурах.
Методологической основой исследования послужили следующие теоретические представления: 1) понимание слова как его употребления, по Л.Виттенштейну: "Значение не есть какой-либо объект, соотнесенный с данным еловом; значение слова есть его использование в языке" [Витгенштейн 1994: 75]; 2) представление о ноэмагической природе словоупотреблений (Тверская школа филологической герменевтики: Г.И.Богин, Н.Л. Галеева, Н,Ф. Крюкова); 3) понимание лингвокультурологии как дисциплины, совмещающей в себе культурологическое и лингвистическое рассмотрение языковых явлений (Н.Д.Арутюнова, В.В,Воробьев, В.И.Карасшс, В.А. Маслова, И.Г. Ольшанский, 1 Л.Снитко, 10. С-Степанов. В Л. Телия и др.); 4) представление о концепте как одной из основных единиц изучения в лингвокультурологии (С.Л, Аскольдов, АЛ. Бабушкин, А,А. Заленская, В.И. Карасик, В.В, Колесов, Е.С. Кубрякова, Д,С, Лихачёв, ВА. Маслова, В.А, Пищальникова, Ю.С. Степанов, RA. Стернин, VIA. Тарасова и др.); 5) понимание концептуального анализа как "перебора" контекстуальных употреблений слова с целью многократного определения понятия-концепта (КДАрутюнова); 6) представление о страхе как об одной из первичных эмоций и о концепте СТРАХ как о базовом эмоциональном концепте (Н.Д. Арутюнова, НА. Красавский, В.Н. Телия, В.И.Шаховский, А. Вежбицкая и др.).
Па защиту выносятся следующие положения и основные результаты,
Деятелъностно-герменевтический подход даст возможность рассмотреть различие способов концептуализации понятия как основу для описания лингвокультур.
Различные культуры по-разному располагают «пучки» смыслов внутри понятия, что задает разный объем понятия и его содержательные характеристики.
3. ANGST принадлежит к базовым концептам немецкой лингвокультуры,
что подтверждается культурным тезаурусом, зафиксировавшим осмысление
концепта носителями языка. СТРАХ в русском языковом сознании, в отличие
от немецкого, не является основной «темой» жизни и культуры, но также относится к культурнозначимым концептам, о чем свидетельствует его представленность на различных уровнях рефлексии.
4. Слово Angst является центральным в концептуализации понятия «страх» в немецкой лингвокультуре и связывается практически с любой реалией, может иметь позитивную опенку, признание практической целесообразности. Анализ концептуализации понятия «страх» в русской лингвокультуре выявляет общее негативное отношение к страху русского сознания, указывает на выраженный сенсорный тип оценки, характерный для русского менталитета.
5. Выявленные ноэмы составляют следующую системную иерархию:
а) поэма - культурная основа, указывающая на некоторые базовые
культурные смыслы, в немецкой лингвокультуре - «Ничто - салю бытие в
мире бытие к смерти, в русской лингвокультуре - «Бог»\
б) обширный ряд ноэм - доминант, воспроизводящих стереотипы и
константы культуры, составляют как общие для сопоставляемых языков
ноэмы, что иллюстрирует принципиальную общность способов вербального
освоения мира двумя этносами, так и специфичные ноэмы, характеризующие
самобытность смыслообразования и различия ментали гета немцев и русских;
в) список периферийных ноэм, устойчивых тематических направлений развертывания нозм - доминант, в обеих лингвокультурах объемный и остается открытым, так как ассоциативность мышления приводит к непрерывному рождению в языке образных номинаций.
Теоретическую значимость данного исследования мы усматриваем в том, что оно намечает один из возможных путей исследования лексики в рамках лингвокультурологии. Исследуя концепт СТРАХ как совокупность культурных смыслов в разных культурных областях, мы получаем возможность исследовать значения, с большим трудом поддающиеся лингвистическому исследованию в терминах признаков-сем. Исследование ноэматических характеристик лексики сферы «страх» в культурно значимых областях
немецкой и русской лингвокультур способствует конкретизации наших представлений о смыслообразовании в различающихся лингвокультурах и о способах концептуализации понятий в языковой картине мира.
Практическая ценность работы состоит в том, что выводы диссертации,
выработанные теоретические положения, содержащийся в ней языковой
материал могут быть использованы при чтении лекций и проведении
семинарских занятий по курсам общего языкознания, культурологии, в
спецкурсах [го лингвокультурологии, эмотивной лингвистике,
лингвоконцептологии; спецкурсах, посвященных проблемам сопоставительного изучения родного и иностранных языков. Кроме того, практический языковой материал может быть полезен в практике преподавания немецкого и русского языков как иностранных.
Апробация результатов исследования осуществлялась в форме докладов на региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «Язык и культура в эпоху глобализации: проблемы лингвистики и методики», на региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков в вузе», на заседаниях кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Ростовского-на-Дону государственного экономического университета «РИНХ». По теме диссертации опубликовано 6 статей общим объемом 2 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, списка словарей, списка источников примеров и двух приложений.
Во введении определена тема исследования, обоснована ее актуальность, сформулированы цели, задачи и методы исследоваїїия, отмечена новизна диссертации, приведены выносимые на защиту основные положения диссертационного исследования, оценено ее теоретическое и практическое значение.
В первой главе «Общетеоретические и методологические основания лингвокультурологическор.о исследования» рассматриваются основные
теоретические вопросы, связанные с интересующей нас проолематикой. Обсуждаются существующие подходы к изучению проблемы концептуализации понятий в общем языкознании и лиигвокуяьтурологии. Рассматриваются онтологические основания концепта СТРАХ в европейской культурной традиции. Определяется специфика лингвокультурологического подхода при осуществлении частного лингвокультурологического исследования.
Вторая глава «Концептуализация понятия «страх» б немецкой лингвокультуре)} посвящена исследованию поэматическои природы и культурного статуса обозначенного понятия в немецкой лингвокультуре. Рассматриваются ноэматические свойства понятия «Angst» в философии экзистенциализма, в художественной литературе, в мифологии, эпосе, фольклоре, ФВ и паремиях.
В третьей главе «Концептуализация понятия «страх» в русской лингвокультуре» проводится анализ ноэматической природы и культурного статуса данного понятия в русской лингвокультуре. Обсуждаются ноэматические свойства понятия «страх» в русской религиозной философии, в художественной литературе, в мифологии, фольклоре, ФЕ и паремиях. Выявляются специфические особенности концептуализации понятия «страх» в русской и немецкой лингвокультурах.
В заключении осуществляется обобщение результатов проведенного исследования и намечаются перспективы его дальнейшего развития.
Meтодологический аппарат филологической герменевтики
В современной научной парадигме герменевтика рассматривается как методологическая основа гуманитарного знания. Филологическая герменевтика, сформировавшаяся в конце XX века усилиями Тверской герменевтической школы, дала новое представление о понимании, в том смысле, что каждый мыслительный шаг осмысливается и осознается как направленное действие. Предметом филологической герменевтики, по утверждению проф. Г.И.Богина, является понимание, рассматриваемое ученым как одно из инобытии рефлексии (в терминах ГЛ. Щедровицкого) - связки между гносеологическим образом и наличным опытом. ІЦедровицкий считает, что рефлексия - это очень важный механизм, без которого не может быть понят ни один предмет из области гуманитарною изучения. По словам ученого, проблему рефлексии надо определять через ситуацию коммуникации, множественности разных пониманий текста, функционирующего в этой ситуации, и через необходимость приведения разных смыслов к единой и общей для всех индивидов объектыости. Процедура сведения разных смыслов к единой объектности составляет суть и ядро рефлексии [Щедровицкий, www.reflexion.ru/ library/Schedr 1972.doc]. Г,И. Богин употребляет термин рефлексия в значении, введенном Джоном Локком, писавшим, что рефлексия - это «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления» [Локк I960,1: 129]. Рефлексия заключается-в—возникновении -взаимных- сопоставлений- и -противопоставлений, приводящих к выражению одного содержания в другом, причем именно в этих условиях реципиент и получает выход к смыслам, которые выступают «в форме особого представления, в форме знания о смысле, которое выступает в качесіве средства, организующего процессы понимания» [Щедровицкий 1974:95]. Базовая схема мыследентсльности, предложенная Г.П Щедровицким, позволяет представить весь духовный мир как рефлективную реальность, состоящую из трех поясов: опыта предметных представлений - пояс (мД): опыта действования в ситуациях коммупирования - пояс (М-К); опыт действовавши в невербальных парадигмах - пояс (М). Содержанием поясов оказываются реальные и потенциальные точки фиксации (объективации) рефлексии. При фиксации рефлексии происходит ее переход в одну из возможных ее ипостасей (инобытии)- В качестве превращенных форм рефлексии рассматриваются: решение, собственно человеческое чувство, проблематизация, оценка и, самое важное - понимание. Понимание - лишь один из моментов системомыследеятельности, но такой многогранный, что допускает много типологий и много таксономии. Особого внимания заслуживает идея Г,И. Богина об иерархическом трехуровневом расположении типов понимания текста художественной литературы (см. Богин 1986, 1993). 1.Семантизирующее понимание - "декодирование" единиц текста, выступающих в знаковой функции. 2.Когнитивное понимание. т.е. освоение содержательности познавательной информации, данной в форме тех же самых единиц текста, с которыми еіалкиваеіся семантизирующее понимание. 3. Смысловое («феноменологическое», распредмсчивающее - переход от художественного к научному освоению) понимание, построенное на распредмечивании идеальных реальностей, презентируемых помимо средств прялшй-номинац-ии-но епредметешгых-вее же-и-мен-н-е-в ередствах-текстёгитсрг Предложенная типология понимания текста соответствует современным представлениям логики о движении от значения к смыслу. В семантизирующем понимании значение и смысл совпадают, в когнитивном и распредмечивающем смыслы формируются, «Понимание текста есть не только движение от значения к смыслу, от экстенсионального к интенсиональному, но и движение к объективации и субъективации понимаемого в тексте и, в конечном счете, познаваемого через текст» [Богин 1986; 7J.
Освоение знаковой ситуации в семантизирующем понимании (фиксация рефлексии в поясе системомыслсдеятельности (мД)) - момент в освоении социальности, гарантия равноправной коммуникации, опирающейся на иптерсуоъективность значений. Освоение объективно-реальностных ситуаций в когнитивном понимании (фиксация рефлексии в поясе (М-К) - момент освоения культуры (всех содержаний, хранящихся в накопленном человечеством состояний, где особую роль играют знания).
Распредменивающее понимание (фиксация рефлексии в поясе (М), фокусирующееся на индивидуальной субъективности, - это более высокий уровень собственно смыслового понимания, связанный с восстановлением ситуаций, с воспроизводством процессов смыслообразования силой рефлексии реципиента, сопровождающейся привлечением наличного собственного опыта мыследействования, опыта коммуникации, использованием социально-культурных знаний о ситуации текста.
Таким образом, в семантизирующем понимании рефдектируется опыт хранения в памяти знаков языка, в когнитивном - познавательный опыт, в смысловом - опыт чувствований и переживаний, соотнесенный со всем опытом личности. «Грани между этими «разделами души» не являются непроницаемыми, однако каждый рефлективный акт. осуществленный для понимания текста, сопряжен с задействованием опыта определенного типа» [Богин1993: 107].
Действительность пояса мыследействования (МД)-это действительность реальная; действительность пояса мысли-коммуникации (М-К) -действительность коммуникативная; а действительность пояса чистого мышления (М) - это действительность мышления в невербальных схемах, В рефлективном акте, направленном на оптимальное понимание, все три нояса оказываются взаимосвязанными, благодаря рефлексии и пониманию. Фиксации рефлексии только в одном из поясов мыследействования, выхолащивают из процессов рефлексии и понимания их суть, поскольку не приводят к усмотрению и категоризации смыслов в ходе восприятия текстов.
Лингвокультурный статус конпепта СТРАХ в немецкой лингвокультуре
В немецкой интеллектуальной традиции в качестве «первозданного» чувства рассматривается не простой страх, что скорее по-немецки Furcht, а нечто, обозначаемое немцами как «Angst».
«Angst» - особое немецкое понятие, которому в большинстве европейских языков нет эквивалентов. ANGST - центральный концепт немецкий липгвокультуры содержание которого сформулировано носителями языка и отражает специфику языковой картины мира. Это имя абстрактного понятия, которое в реальности не имеет денотата, и поэтому в его семантике преобладает сигнификативный уровень. Общеизвестно, что страх - одна из основных человеческих эмоций, обусловленная, прежде всего, биологической природой человека. Многие авторитетные ученые, например Ф.Риман, утверждают, что «-..страх существует независимо от культуры и уровня развития народа или отдельных его представителей; единственное, что изменяется - это объекты страха» [Риман 1998; 12". Такая точка зрения нам кажется пе вполне правомочной, т.к. она отрицает саму возможность процесса концептуализации понятия «Angst», который вершится в рамках историко-культурного пространства- Мы придерживаемся позиции, что Angst - это продукт культуры. Помимо этого, укажем, что Риман, говоря об объектах. страха, не учитывает его самого важного вида - безобъектного страха.
Выдающийся французский историк Жан Делюмо [Делюмо 1994] отмечает, что такой беспредметный экзистенциальный страх возник в конкретное время, при определенных обстоятельствах и в четко очерченном пространстве, что и явилось предпосылкой его концептуализации в немецкой липгвокультуре.
Семантическое различие между Angst и Furchi, которое имеет место в немецкой лексике, сходно с различиями, которые проводятся между fear и anxiety в английском или между страхом и тревогой в русском, рвиг и angoisse в французском.
По мнению Ж. Делюмо [Делюмо 1994] у страха есть конкретный объект. У тревоги такого объекта нет, и она переживается как тягостное ожидание опасности, тем более страшной из-за того, что она с достаточной ясностью не идентифицирована: это ощущение глобальной незащищенности. Учитывая такое существенное концептуальное различие между тревогой и страхом, надо признач ь своеобразие ситуации, сложившейся в немецком языке, где понятие «Angst», более близкое к тревоге, заняло столь важное место, в то время как во многих других языках и культурах мы можем наблюдать прямо противоположную картину.
В немецком Angst есть нечто особенное, что требует специального объяснения. По наблюдению А. Вежбицшй [Вежбицкая 2001], в тех странах, в языках которых концепт более близкий к гибриду «тревоги» и «страха» оказывается более значимым, нежели концепт более близкий просто к «страху» или «испугу», преобладает лютеранство. Как мы видим, природа Angst не может быть объяснена при помощи ссылки на «базовый» характер «страха». Необходимо рассмотреть данный концепт в широком культурном контексте, для чего следует обратиться к истории, языку и религии.
Процесс концептуализации понятия «Angst» в немецком языке -длительное историческое явление, и чтобы дойти до его истоков мы провели эышолого-куль 1 урологический анализ номинантов эмоции страх.
Этимология, «воспоминание о внутренней форме слова» - это емыслообразование, соотносительное с Р/м-к над языком, т.е. здесь рефлективная реальность для рефлексии, фиксирующейся в поясе мысли -коммуникации (Р/м-к), состоит из собственно языка.
Синонимический ряд Angst, по данным немецко-русского синонимического словаря И.В.Рахманова, включает 11 слов - die Angst (страх), die Scheu (боязнь), die Beklemmung (стеснение), die Furcht (страх), der Schreck (страх), der Schrecken (ужас), der Schauder (ужас), das (jrauen (ужас, страх), das Grausen (ужас), das Entsetzen (ужас), die Panik (паника). Слово Angst -доминанта в этом ряду [Рахманов 1983: 36].
В древневерхненемецком языке слово Angst, образование от германского имени прилагательного angu начинает употребляться в VIII в., обозначая вначале физическую величину - «узость пространства» и употребляется в различных немецких диалектах. Этимологи видят генетическую связь немецкого Angst со словами ряда индоевропейских языков: с авест. gsah сдавливание (горла), стеснение, узость, плен; с лат. angmtus -angostos —узкий, angidstia - узость, стесненность [EW 1989: 52]; с ц.-елаБ. ozoso - сужение [EW 1999:401.
В современном немецком языке напоминает об этимологии Angst слово Angster (zu lat. Angustus = eng): Trinkglas mit engem Hals bzw. enger Miindimg. -стакан с узким горлом, точнее с узким отверстием [Duden 1993, В. 1: 188],
Ф- Клуге в своем известном словаре определяет связь Angst с др.-инд. корнем amhas - «стеснение», «удуише» [EW 1999: 40]. В.Пфайфер указывает на наличие в слове Angst индоевропейского суффикса -stP который служит для обозначения абстрактного понятия [EW 1989: 52].
Таким образом, мы можем наблюдать, что древнее слово Angst, изначально отражающее фрагмент физического мира «узость пространства» [EW 1989: 52], физиологическое состояние человека - «стеснение, удушие» [EW 1999: 40] трансформирует свою семантику в психологическую субстанцию. Этимологии не извесгно точное время деполиеемизацми анализируемого слова. Предполагается, что лексема Angst на определенном лапе своего существования употреблялась и для выражения физиологического ощущения (реального сдавливания горла), и для обозначения непосредственно самого психического переживания, В современном немецком языке это слово моносемично. Аналогичные семантические трансформации происходили со всем синонимическим рядом Angst, что показывает лексикографический материал (Этимологические данные синонимов слова Angst приведены в приложении 1), Итак, лексемы, номинирующие понятие «страх» в современном немецком языке, первоначально обозначали либо физические предметы и их свойства (Angst), либо совершение физических действий человека (Beklemmimg, Hntsetzens Seheu, Schreck, Schrecken, Gmuen). И впоследствии их наречения переносились па внутренний мир человека. В.И. Карасик [Карасик 2002] отмечает, что в своем развитии концепты проходят путь от проявления к содержанию (оиепеиение-сграх). С точки зрения исюрии Angst, важно вспомнить о влиянии Мартина Лютера на становление литературного немецкого языка, в том числе и на семантическую историю Angst. В годы жизни Лютера в протестанской Германии, как и во всей Ьвропе XVI - нач. XWU вв,, были сильны эсхатологические страхи. Термин «страх» в лексиконе Лютера вышел на центральные позиции. «Немецкий теологический словарь», в основу которого положены цитаты из лютеровской Библии, дает основания предположить, что значение слова Angst в произведениях Лютера отличалось от его современного значения. В языке и мыслях Лютера можно наблюдать переход от Angst как переводного эквивалента латинских слов prcssura, angustia и tribulatio («мука/расстройство») к Angst как слову, которое ассоциируется с внушающими тревогу мыслями о смерти, дьяволе и аде. Фокус значений, по всей видимости, сместился с «тревоги» и «расстройства» на чю-то больше похожее на «страх».
Концептуализация понятия «страх» R немецкой мифологии, эпосе, фольклоре, фразеологических единицах и паремиях
Страх как антропологическая характеристика уже в глубине веков стал превращаться в культурные темы. Опыт человеческих страхов нашел отражение в мифах. Мифы - это ни что иное, как способ первобытного мышления, это бессознательное, естественное отражение мира человеком, -такова основная мысль Вильгельма и Якоба Гриммов, сформулированная ими в книге «Немецкая мифология» (1835),
Образы древних богов отражали страх перед силами природы, страх перед войнами. Страхи древности сохраняли свою направленность на внешний мир. Даже страх человека перед самим собой представал в форме внешних сил, например, богов и богинь, вызывающих раздоры и войны между людьми. Говоря об образах страха, необходимо отметить, что в каждой мифологии, наряду с представителями высшей мифологии - богами и героями, присутствуют персонажи низшей мифологии. Они менее значительны, теснее связаны с повседневностью, более понятны для народа. Именно образы представителей низшей мифологии сохранились в произведениях фольклора и дошли до наших дней в народных поверьях.
Известно, что первичные эмоции-представления архаичного человека, строились па архетипах (огонь, вода, земля, воздух) и их «производных» (дым, река, дерево и т.п.). Сакрализация данных первоэлементов мира приводит к их фетишизации и анимизации. Данные феномены толкуются как попытки психологической защиты древнего человека от окружающего, непонятного ему мира. О популярности низшей мифологии свидетельству с г тот факт, что в Средние века в Европе сложился общеевропейский «малый пантеон нечистой силы», из которого практически невозможно выделить собственно германские персонажи (Краткие сведения о паніеоне богов древних германцев, олицетворяющих страх, приведены нами в приложении 2). Мифология оказала существенное влияние на германский героический эпос. В ряде существенных моментов граница между мифом и эпосом оказывается расплывчатой или вовсе исчезает.
В рассмотренных нами произведениях рыцарского эпоса («Geschichlen um Dietrich von Bern» - «Дитрих Бернский», «Walthcr und Hildegundc» -«Вальтер и Хильдегунда», «Drachentoter. vom Nibcluagschatz und von Kricmhilds Rache» «Песнь о Нибелунгах», «Wieland dcr Schmied» - «Кузнец Виланд», «ParzivaJ» - «Парцифаль», «Lohengrin» - «Лоэнтрин», «Tannhauser» -«Тапхойзер», «Tristan und Isolde» - «Тристан и Изольда») самыми характерными были страх смерти / страх за свою жизнь, так как рыцари часто сражались в поединках и выступали в военные походы; страх потерять свои земли или власть, ужас от содеянного убийства, страх предательства, но самым сильным был страх позора / поруганной чести / имени.
Самым главным, что должен был отстаивать и доказывать рыцарь того времени, были сила, репутация непобедимого воина; власть, если речь шла о правящем сословии, но превыше всего ценилось доброе имя- В это понятие входили честность при участии в поединках и соблюдение рыцарских правил, а также всргюсть своим собратьям по оружию. Так, Дитрих Бернский, в одноименной немецкой легенде, в самый страшный для него момент выбора, предпочитает отдать вражескому королю свою страну ради спасения семи верных товарищей, сохранив тем самым свою честь и рыцарскую верность [Bchcim-Schw-arzbach2001:80].
Но:ша «страх перед силой» прослеживается в следующих примерах из «Geschichten urn Dietrich von Bern»: «Da wurde er wegen seiner Demut von alien geaehieL und sle verloren die Angst vor seiner ubermafiigen Starke» - Так как он уважался всеми за свое смирение, они потеряли страх перед его чрезмерной силой [Beheim-Schwarzbach 2001: 119]. (Перевод наш-Е.Б.) . Er war aber auch ein fiirchferlicher Kampfer und hatte noch jeden zur Strecke gebracht, der es wagte, mit ihm anzubinden» - Так же он был страшным воином и убивал каждого, кто отваживался с ним завязать ссору [там же: 120]. Пример из «Drachentoter, vom Nibelimgschatz und von Krierahilds Rache»: «...wie ein Stiirmwind brauste er mit den seinen ins Tal hinab imd fiel fiber das Zelllager her, und gleich verbreitete sich Angst und Schrecken» - ,.,когда бушевал ураган, он со своими близкими спустился в долину и набросился па палаточный лагерь, и немедленно распространились страх и ужас [там же: 146J.
Ноэма «страх - смерть» реализована в примере из легенды «Walther und Hildegunde», где рыцари перед боем с непобедимым Вальтером решают, кто из них будет сражаться, пойдет на верную смерть: «Uast du etwa Angst? » -stichelte Gunther. - «Onkel Hagen hat Angst». Er sagte Onkel, weil Hagen ein paar Jahre alter war als er, Und weiter: «Dem Vater war auch ein Angsthase» - «Может ты боишься? » - язвил Гунтер. - «Дядя Хаген боится». Он сказал дядя, потому что Хаген был на пару лет старше его. И далее: «Твой отец был тоже трусом» [там же: 71], В легенде о Тристане и Изольде читаем: «Nicht sein Tod ira l euer war ihm das Schrecklichste, sondern die Angste, die Isolde ausstand vor dem Grausen dieses lodes» - He его смерть в огне была для него самая ужасная, а страхи, которые Изольда терпела перед ужасом этой смерти [там же: 283], «Ein Ritter klopftc mit seinem Schwertlmauf an die Beschlage des Tores, dass es weithin widerhallte, und die Monche zogen angstlich die Kopfe ein, denn die Zeiten waren wild und wust. und die eben uberstandene Gefahr hatte sie bangen gemacht» -Рыцарь постучался рукояткой мена в обшивку ворот, что далеко отразилось эхом, и монахи трусливо втянули головы, так как времена были дикие и страшные, и только что пережитая опасность сделала их боязливыми [там лее: 121]. («Geschichten um Dietrich von Bern»), «...stand Hildegunde neben dem Hengst, an den sie sich klammerte in ilirer Angst um den Gclicbten, aber immer mehr frohlockte sie, ... wie keincr ihren Gcllebtcn zu uberwinden verstand» - ... Хильдсгунда стояла возле жеребца, за которого схватилась в страхе за любимого, но все больше она ликовала, так как никто не мог одолеть се любимого [там же: 75]. («Walther und Hildegunde»).
Лингвокультурный статус концепта «страх» врусской липгвокультуре
Обращение к этимологическим словарям обнаруживает первичность в языке базисных номинантов понятия, с точки зрения их онтогенеза.
Первичным значением русского слова страх (др.-рус. страх ъ), по одной из версий этимологических толкований; принято считатв «оцепенение». При этом указывается па его смысловую и этимологическую общность со словами разных языков: с лит. stregfi. stregiu - оцепенеть, превратиться в лед: лтш, sfregele - сосулька; ср.-верх.-нем. strac - тугой; нов.-всрх,-нсм. strecken -растягивать; др.-верх.-нем. stracken - быть растянутым. Другая версия предполагает; что слово страх связано с лат. strages - опустошение, поражение, повержение на землю. В соответствии с третьим вариантом объяснения слова страх, оно генетически корреспондирует с лтш. slruostii - угрожать, строго предупреждать [ЭС 1996, т. 3: 722]. Высказывается мнение об этимологической связи слов страх - страсть и глагола страдать [Степанов 1997: 875].
В народном русском сознании «страх» и «страсть» тесно связаны; страсти-мордасти; про эти места рассказывали страсти (ужасы) и т. п.
Аналогичные но форме и семантике слова в славянских языках (ср.: укр. страх, др.-рус. страхъ, ст.-слав, страх ь, болг. страх, еербохорв. страх, словен. strah, чеит strack елвц. strach, польск. sirach), могут указывать на славянское происхождение слова страх, но с этим не всеїда соглашаются многие этимологи В словаре М Фасмсра лексему страх сопоставляют с европейской формой treso-трясти [ЭС 1996, т. 3: 722].
Учитывая вышеизложенное, можно заключить следующее: ]) слово страх этимологически корреспондирует со многими словами других языков (главным образом, славянскими); 2) данное слово обозначало первично либо природные явления (превратиться в сосульку), либо свойства предмет (тугой, быть растянутым); либо результат человеческих действий, угнетающе действующих па психику (опустошение и т.п.), либо вербальный акт угрозы (угрожать), либо же физические действия человека (трясти), (ср. устойчивое выражение в русском языке «трястись от страха»).
Н.А. Красавский считает, что эмоциональное значение слова страх не первично, поскольку многие версии этимологического анализа обнаруживают у него первичность «физического» значения [Красавский 2001]. Впоследствии осуществляется перенос с наименования физических действий человека на его внутренние переживания, наименование конкретной неблагоприятной для человека ситуации переносится на его ощущения.
По данным И.И. Срезневского, уже в XJ-XIV вв. это слово имело два значения: для обозначения эмоционального состояния человека и для номинации вызывающего его явления, события [Срезневский 1989, т.З, чЛ; 546]. В настоящее время оно представляет собой нолиссмичнуго лексическую единицу, располагающую указанными выше значениями [ТС 1995: 760],
Слово страх - доминант синонимического ряда - имеет в современном русском языке следующие синонимы: уэюас, боязнь, опасение, трепет [ССРЯ 1970, ССРЯ 1986]; боязнь, испуг, ужас, шпика [НОССРЯ 1997: 406]: ужас, трепет, жуть, испуг, паника, страсть, боязнь, опасение [ССРЯ 2001: 561]. Слова, номинируюшие понятие «страх» в русском языке, также как и в немецком. первоначально обозначали фрагменты преимущественно физического мира (или реже - физиологического). «Эмоциональные» лекеико-семантические варианты, как правило, вторичны по своим хронологическим параметрам в значении анализируемых слов, (Этимологические данные синонимов слова страх приведены нами в приложении 1). Вторичные эмоциональные значения у слов, номинирующих понятие «страх» появились уже в древнерусском языке. Культурно-значимыми являются этимологические данные Й.И. Срезневского из «Словаря древнерусского языка». Слово страх в древнерусском языке (как и в современном русском) используется И.И. Срезневским в качестве метаязыкового средства. Через него даются определения таким словам, как трепет и ужас. Само же слово-гипероним страх, в данном словаре, дефиницией не располагает. В данных контекстах ЯЕШЫ ассоциация страха с архетипом «огонь-вода» (ВЪСКЪПАТЬ); высокочастотное использование слова страх с синонимом трепет, что говорит об онтологической близости соответствующих понятий. Человекоподобная активность страха прослеживается в примерах б) и в). «Быстрое передвижение человека ввиду угрозы» - пример г). В примере д) очевидны представления древнерусского человека о связи между страхом и его продуцентом - Господом Богом.