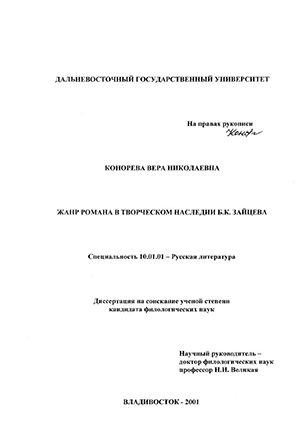Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Романистика Б. Зайцева доэмигрантского периода 40
1.1. «Дальний край» (1913) Начальные поиски романной структуры 40
1.2. «Голубая звезда» (1918) Закрепление романического мышления, тяготеющего к форме романа воспитания 68
ГЛАВА II. Романистика Б. Зайцева эмигрантского периода 83
2.1. «Золотой узор» (1926) как сформировавшаяся структура романа воспитания 83
2.2. «Дом в Пасси» (1933) как явление жанрового единения романа воспитания и полифонического романа 106
ГЛАВА III. Тетралогия «путешествие глеба» как синтез романных жанровых модификаций 136
Заключение... 168
Список использованной литературы 1
- «Дальний край» (1913) Начальные поиски романной структуры
- «Голубая звезда» (1918) Закрепление романического мышления, тяготеющего к форме романа воспитания
- «Золотой узор» (1926) как сформировавшаяся структура романа воспитания
- «Дом в Пасси» (1933) как явление жанрового единения романа воспитания и полифонического романа
«Дальний край» (1913) Начальные поиски романной структуры
Как уже нами отмечалось, на 1989-90-й годы приходится наибольшее количество изданий произведений Бориса Зайцева в нашей стране. Это связано, конечно же, с изменениями в жизни общества, которые неизбежно привели к осознанию того, что литература эмиграции - тоже наша, русская литература, наше наследие и его нужно изучать.
Отечественное литературоведение активно развертывает осмысление этого пласта художественной культуры, долгие годы оторванного от национальных корней. Бурный всплеск интереса к литературе русского зарубежья выразился в издании целого ряда различных справочников, сборников, биографических указателей. Во всех этих изданиях упоминается и Борис Зайцев.
Краткий обзор творчества писателя дает, например, В. Толмачев в «Литературной энциклопедии русского зарубежья» (229) и в «Золотой книге эмиграции» (230). Ценные сведения о писателе библиографического плана содержатся в работе А. Алексеева (30); в указателе литературы, выпущенном в Якутском госуниверситете (204); в выборочном указателе публикаций за 1986 - 1990-е годы «Литература русского зарубежья возвращается на родину» (143) и во многих других.
Параллельно со справочными изданиями появляются статьи, сопровождающие первые публикации произведений Бориса Зайцева. Обычно они снабжались краткими сведениями биографического характера и комментариями к конкретным произведениям. Жанр вступительной статьи, естественно, был ориентирован на предоставление информации историко-биографического характера. Перед авторами стояла задача познакомить читателя с Б. Зайцевым, обрисовать его жизненный и творческий путь, ту атмосферу, в которой он жил и работал, указать его основные произведения и дать представление об особенностях издаваемых произведений. Таковы публикации М. Шаповалова («Простор», №3, 1989), О. Михайлова («Подъем», №6-7, 1989), Т. Прокопова («Знамя», №10, 1989), Е. Воропаевой («Литературное обозрение», №12, 1989). Но уже в этих сравнительно небольших комментариях критики чутко улавливали своеобразие мироощущения и писательской манеры Б. Зайцева, обращали внимание на особенности его личности (почти всегда доброжелательное отношение к людям).
И если говорить об основных тенденциях, существующих на сегодняшний день в современной исследовательской литературе о Б. Зайцеве, то наряду со сбором текстов и биографических сведений наблюдается переход от жанра вступительной статьи к серьезному исследованию творчества писателя, к анализу природы его художественного метода, концепции мира и человека.
Основные жанры этих исследований - глава в монографиях о русском зарубежье и учебниках по русской литературе, статья-очерк о творчестве Б. Зайцева и отдельных его произведениях, особый жанр представляют диссертации.
Первым был небольшой, но достаточно емкий анализ эмигрантского периода в творчестве Б. Зайцева, который дал А. Соколов в своей монографии «Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов» (1991 г.). О Зайцеве речь идет в главе «Писатели-реалисты поколения 1890-1910-х годов. Бывшие «знаньевцы». Если раньше отношение критика к творчеству Б. Зайцева было скорее негативным, писателю отводилось место «на периферии противостоящих реализму течений», то в указанной работе происходит корректировка исследовательской позиции. А. Соколов относит Б. Зайцева к писателям-реалистам, а своеобразная манера Б. Зайцева характеризуется здесь как «импрессионистическая, выражающая пантеистическое ощущение мира» (216, 108). В 90-е годы А. Соколовым издано несколько пособий о русском зарубежье, разработана программа вузовского курса. В 1999 году им опубликован учебник «История русской литературы конца 19-начала 20 века», где Борису Зайцеву отведена отдельная глава. В ней А. Соколов попытался определить творческий метод Б. Зайцева как «импрессионистический реализм», хотя развернутой аргументации, анализа этого метода он не дал.
Л. Смирнова, автор учебника «Русская литература конца 19-начала 20 века», изданного в 1993 г., ведет речь о Б. Зайцеве не только как о современнике Л. Андреева, И. Бунина, И. Куприна, А. Ремизова, но и как о самобытном писателе со своей творческой манерой, поисками в области жанра и типологии характера. Одной из первых исследовательница отметила, что «реализм этого периода сочетал в себе обилие ярких разновидностей. Это не исключало, а подтверждало единство творческого поиска. В громадном массиве неустойчивых, текучих, меняющихся явлений была открыта духовная сущность только наступившего столетия» (211, 19).
В творческом методе Б. Зайцева, по мнению Л. Смирновой, тесно переплетены импрессионизм, реалистическая глубина и романтический элемент. Пишет Л. Смирнова и о религиозном чувстве Б. Зайцева, многое определившем в его произведениях. Завершается разговор о творчестве писателя очень важным, на наш взгляд, выводом о типе героя: «Герой Зайцева обращен к себе, собственному внутреннему миру, познает в нем то страшные отступления от совести, то зреющие зерна «божьей правды», либо, как Христофоров, величавые порывы.
«Голубая звезда» (1918) Закрепление романического мышления, тяготеющего к форме романа воспитания
Религиозная тема в творчестве Б. Зайцева (в особенности эмигрантского периода) заявлена предельно широко и требует отдельного разговора. Отметим только, что и ранним произведениям писателя уже было присуще «смиренное принятие жизни, доверие к ней и оправдание ее» (А. Любомудров), но эти черты еще не были осознаны вполне. И только «потрясения революции (вспоминал Б. Зайцев многие годы спустя) вызвали религиозный подъем... Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви» (3, 27).
Пантеистическое начало также претерпевает ряд изменений в творчестве писателя. Как известно, признание пришло к Б. Зайцеву сразу же после опубликования в 1901 году «маленького бессюжетного импрес-сионистическо-лирического пустячка» - рассказа «В дороге». Много лет спустя уже сложившийся писатель-прозаик вспоминал о тех «мучительных томлениях юности, когда себя ищешь, не находишь, временами отчаиваешься». И вдруг совершенно случайно, в поезде, рассказывал Б. Зайцев, «я и почувствовал ритм, склад и объем того, что напишу по-новому. Нечто без конца и начала - о грохоте поезда, тумане, звездах, лучах, - попытка бегом слов выразить впечатление ночи, поезда, одиночества» (3, 25). Мотив слиянности с миром явно проступает в этом рассказе
Е. Воропаева справедливо считает главной темой раннего Зайцева «интуитивное религиозное постижение целостности мира» (66, 13), с этой темой связаны и все особенности его писательской манеры (импрессионизм, лиризм, бессюжетность, безгеройность, живописность). Мы не ставим перед собой задачу анализа конкретных рассказов первого сборника, обратимся лишь к общей характеристике Зайцева-прозаика этой поры.
Отметим, что из всех произведений сборника «типично зайцевски-ми» критика называет «Тихие зори», «Священника Кронида» и «Миф», в которых наиболее заметно свойственное писателю в этот период «чувство мистического слияния и взаимоперехода человеческого и природного миров», при котором человек осознает себя «частью великого начала, духа, разлитого во Вселенной» (66, 13).
Названные рассказы в полной мере отражают характерное для этого периода пантеистическое мировосприятие Б. Зайцева. Человек оказывается включенным в природу очень естественно, органично. Природа для писателя, по мысли Т. Прокопова, «не фон, не место, где происходят какие-то события, а сама жизнь человека, погруженного в при-родно-космическое» (193, 18).
О. Михайлов, говоря о сильно заметном в ранних произведениях Б. Зайцева пантеистическом начале, прослеживает, как от него появляется «ощущение единого, живого и восходящего к космосу мира, где все взаимосвязано - люди, волки, поля, небо...» (159, 6). Герои, казалось бы, живут в реальных земных условиях, но у каждого из них есть свой «микрокосмос, отрешенный от конкретного быта, от повседневья - как бы второй глубокий план, возникающий в раздумьях наедине с собой» (159,6).
В дальнейшем пантеистическое начало уступило место религиозным (христианским) мотивам, возникшим, по собственному признанию автора, под влиянием Владимира Соловьева. Борис Зайцев отмечал, что именно Владимир Соловьев сыграл огромную роль в его духовном развитии. Философ «раздвинул, как бы расширил и чрезвычайно освежил рамки официального христианства», приблизив Б. Зайцева к «самому Христу» (112, 464). В. Соловьев оказался «водителем», открывшим «новый и прекрасный мир, духовный и христианский, где добро и красота, знание мудро соединены, где нет ненависти, есть любовь, справедливость». Через всю жизнь пронес писатель благодарность Соловьеву «за разрушение преград, за вовлечение в христианство - разумом, поэзией, светом» (193, 9).
В романе «Голубая звезда» как раз и отразился процесс столкновения двух миропонимании - пантеистического и религиозного (христианского), связанный с образом главного героя - Христофорова.
Обратимся к этому произведению и попытаемся выяснить, какие изменения, происходящие в мировоззрении писателя в этот период, отражаются в романе, какова космогония, каково видение мира и человека, сложившееся у Зайцева на границе двух важнейших этапов его творчества.
Главный герой «Голубой звезды» Христофоров при всей индивидуальности своего облика представляет собой то, что ищет Борис Зайцев. Это герой его художественного мира. Зайцевский тип героя - человек чистый духовно, с четкими нравственными ориентирами, сосредоточенный на созерцании мира и поисках своего предназначения.
В первых строках романа автор знакомит нас с главным героем, погружая читателей в мир его чувствований, его ощущений пространства. Комната Алексея Петровича Христофорова наполнена «розовым отсветом зари, зеленоватым рефлексом распустившегося тополя» (10, т.1, 298 - далее в тексте делаются ссылки на это издание с указанием страницы в скобках). Читатель сразу же проникается почти физическим ощущением цвета, музыки окружающего мира.
«Золотой узор» (1926) как сформировавшаяся структура романа воспитания
Даже во внешнем облике Капы окружающие улавливали странность, непонятность. Вот, например, какой видит её Рафа. Это была «невысокого роста, слегка сутулая девушка, которой лицо казалось ему не очень красивым, но глубоко сидящие глаза, тяжкие, почти сросшиеся брови, глуховатый голос и некая внутренняя напряжённость вызывали чувство смутное: уважения, расположения - но и чего-то не совсем понятного» (9, т. 3, с. 206). Так и осталась она «не совсем понятной» для остальных героев. Даже общение с подругой Людмилой, с которой Капу связывали общие воспоминания о России, не даёт Капе сил, необходимых для жизни в новом, чужом мире.
Капа описывает в своём дневнике, как они вместе с Людмилой и её женихом катались на автомобиле. «Людмила смотрит на меня синими, холодными глазами. Может быть, они вовсе теперь залакированы, раз навсегда закрашены. Мне казалось, что я так же одна, как в тот вечер на Елисейских полях» (9, т. 3, с. 320). Эта «залакированность» людей, подобных Людмиле, скорее всего, и есть их защитный слой, отчуждённость от мира. А у Капы нет такой защиты, поэтому мир травмирует её.
Людмила показана среди тех обитателей дома, кто не размышляет о смысле жизни, для них не существует проблемы «привыкания» к новому миру. «Всё это люди, крепко на земле стоящие, в чужом мире легко и охотно растворяющиеся» (226, 160).
Людмила, говоря о своей жизни, замечает: «Кручусь. Иначе нельзя. Не люблю задумываться, останавливаться. Начнёшь думать, ничего хорошего не надумаешь, лучше просто делать. Жить так жить. И возможно лучше» (9, т. 3, 208). Мы понимаем, что в это желание «жить лучше» вложен свой, отнюдь не духовный смысл: «жить лучше» в материальном плане, нисколько не задумываясь о духовных ценностях.
Такие люди «в России - русские, во Франции - французы, в Америке - американцы, то есть ничьи. За удачными аферами, домовитостью, обеспеченностью, скрывается, в сущности, ложное бытие» (226, 15 8). Они вписались в ситуацию, но всё равно они чужие в этом мире. Кроме Людмилы, в их числе шофёр Лев, портниха Валентина Григорьевна, Олимпиада Николаевна, сестра Доры Фанни, да и сама Дора довольно «крепко стоит на ногах».
Ещё в России, будучи беременной, Дора Львовна ушла от мужа: «углом» любовного «треугольника быть не пожелала». «Сначала в Германии, а потом в Париже занялась делом - хоть не на высоте прежнего, лишь полумедицинским, всё-таки дававшим заработок» (9, т. 3, с. 215). «Её спокойствие, некий крепкий и достойный тон, ощущение порядочности и солидности, остававшееся от неё, создавали ей хорошую прессу» (9, т. 3, с. 216). О муже Дора ничего знать не хотела, «она его просто вычеркнула. Жила одиноко, холодновато. Рафу очень любила, но без сантимента» (9, т. 3, с. 216).
«Разумная», «правильная», «солидная клиентка» - этими словами определяют Дору и окружающие. «Это мнение было довольно справедливо - от шума революционной молодости, богемского бытия прежних лет мало что уцелело у Доры Львовны. Теперь она любила порядок, культуру, буржуазность» (9, т. 3, с. 246). Но встреча с Анатолием Ивановичем перевернула её размеренную жизнь: «Душа не была покойна». «Как всё неожиданно случилось! Ну, конечно, слабость... Да, но с другой стороны... Не маленькая, свободный человек, захотела и полюбила. Тело тоже имеет свои права» (9, т. 3, с. 268).
Дора старается трезво оценить сложившуюся ситуацию: «Я здоровая массажистка сорока трёх лет. И так легко сблизилась с ним, что, понятно, никаких на него прав не имею. Таких, как я, у него были десятки» (9, т. 3, с. 269). Беспокоят её возможные осложнения с Капой: «Конечно, она болезненная девушка, меланхоличка и, должно быть, истеричка ... Мы, здоровые и случайные, должны оберегать этих Достоевских девушек, которые, впрочем, тоже довольно легко отдаются, но потом разводят бесконечные истории» (9, т. 3, с. 269). Дора Львовна пытается заглушить в себе эти мысли, но «нельзя сказать, чтобы в глубине» был покой». «Что-то должно прийти, как-то окончательно выясниться» (9, т. 3, с. 269). Но при встрече с Анатолием Ивановичем вся «разумность» Доры исчезает, «ей определённо теперь казалось, что река, довольно быстрая, с неким головокружением в водоворотах, несёт её» (9, т. 3, с. 280).
Доре Львовне становится неуютно в своём доме: «Каждый раз теперь, проходя по площадке, испытывала нечто тягостное, щемящее -смесь мрака, стыда» (9, т. 3, с. 315).
Даже Мельхиседек, ещё не зная сути происходящего, чувствует: «И у этой женщины тайные скорби. На уме одно, в сердце другое - тяжесть» (9, т. 3, с. 296). После бурной сцены выяснения отношений между Капой и Анатолием Ивановичем, генерал говорит: «Но насчёт Доры Львовны не полагал-с... Вот по видимости и аккуратная, солидная -да и возраст не из детских... - а тоже значит слаба. Сердце-то женское слабое, любви ищет, о. Мельхиседек. И никакими вашими постами не залить любви-с...» (9, т. 3, с. 299).
На это Мельхиседек отвечает, что и не собирается «заливать». Главное для священника, когда к нему «приходят люди, истерзанные этой жизнью и этой любовью», постараться «утешить» их (9, т. 3, с. 299).
«Разумная иудейка» Дора, когда «сталкивалась с православными, их службами, испытывала некое недоумение. Хорошо поёт хор. Хорошо соединяет руки новобрачных священник... - всё это очень поэтично. Но неужели можно серьёзно верить? Придавать этому глубокий и таинственный смысл? Они говорят - можно. Странно. Очень странно. Искренне ли всё это?» - задаёт себе вопрос Дора (9, т. 3, с. 323).
«Дом в Пасси» (1933) как явление жанрового единения романа воспитания и полифонического романа
Действительно, повествование в тетралогии ведется от третьего лица, во внесубъектной форме. Всеведущий автор знает все о своих героях, свободно переходит из одного временного плана в другой, из одного пространства в другое. Необходимость показать процесс внутреннего развития главного героя приводит к сочетанию в речи, формально принадлежащей повествователю, точки зрения Глеба.
При сближении повествователя и героя широко используется форма несобственно-прямой речи, в которой голоса повествующего и действующего лица сливаются воедино.
Вот, например, как соединяются речевые поля автора и героя: «Что же с ним будет? Что за жизнь предстоит? Вот отец инженер. Соня -Собачка скоро кончит гимназию и в Москву на фельдшерские, Лиза в Консерваторию. А он? Так вот все и читать Цезаря, зубрить неправильные глаголы? Он ничего не видел, для себя впереди и это его страшило. Губернатор управляет, дядюшка Красавец лечит, отец возится со своими домашними ... Единственное, что Глебу нравилось - рисовать, но разве это дело? А ведь и он станет взрослым, надо же делать что-нибудь? И вообще, какой он будет взрослым?» (Подчеркнуто нами -В.К.) («Тишина», с. 172).
Или вот другой внутренний монолог Глеба, получившего отказ из журнала. «Глеб лег на диван, закрыл глаза. Едко и жестко ныло сердце. Да, и тут пролетел, как раньше в рисовании живописи. Все равно, пусть и на экзамене провалился, один конец: не удалось, не удалось... Жизнь не удалась - ну и Бог с ней. Это очень мило, разумеется, что народник такой благожелательный, но и Глеб не ребенок, пустяками его не умаслишь. Нет, он не боится правды. Недоросль так недоросль, неудачник так неудачник. Что же. Это его доля. Жизнь пройдет быстро. И, конечно, в страданиях. Никому до этого дела нет. Вот он, Глеб, бездарный художник, бездарный писатель, лежит сейчас на диване, но никто не узнает, что он чувствует, и к чему стремиться. Ах, если бы вот взять, вздохнуть ...- и не проснуться» (Подчеркнуто нами - В.К.) («Юность». С.120)
Приведенные отрывки по своим синтаксическим признакам являются авторской речью, но их экспрессивная структура (многоточия, восклицания, риторические вопросы) сохраняет особенности речи Глеба. Перед нами форма несобственно-прямой речи героя, при этом речь героя близка авторскому повествованию, но всё-таки может быть вычленена из него в виде самостоятельных синтаксических конструкций (они подчеркнуты нами - В.К.). Такие гибридные конструкции вносят в произведение Зайцева «разноречивость».
Именно «разноречивость», «расслоенность» языка, стирание границ между авторской и чужой речью, считает М. Бахтин, «служит основою романного стиля»1.
Мы не ставили перед собой задачу проследить сложное сочетание биографической и автобиографической романной структуры в тетралогии Б. Зайцева. Отметим только, что в «Путешествии Глеба», с одной стороны, предметом становится жизнь главного героя, биография вымышленного лица. С другой стороны, перед нами - наблюдения автора и над своей жизнью, собственно автобиография. Отсюда насыщенность текста лирическим компонентом, особая лирическая тональность повествования.
Наличие имплицитного повествователя обусловливает монологическую структуру произведения, в то же время в тетралогии широко развернута внутренняя диалогизация, смещение точек зрения автора и героя. Главным образом это проявляется в использовании несобственно-прямой речи.
Внутри тетралогии возможно выделение жанровых модификаций, основой которых является соотношение героя и реального исторического времени. В связи с этим первые три части мы определяем как роман воспитания, представленный структурой романа-биографии. Четвертая часть, сохраняя признаки романа-воспитания, соединяет их со структурой семейной хроники, в которой продолжает развертываться осознание героями своей духовной сущности.
Историческое время выражено в тетралогии не через фабулу (описание конкретных событий). События истории не описаны впрямую, они представляют собой атмосферу бытия, своеобразный «фон», на котором происходят важные для героя события личностного ряда. Вначале историческое время как бы впрямую не соприкасается с личностным. Однако постепенно вырисовывается связь личностного и исторического времени, влияние хода истории на судьбу не только страны, но и конкретного человека. Историческое время предстает, с одной стороны, разрушающим, но, с другой стороны, и закаляющим началом. Герой оказывается в ситуации выбора дальнейшего пути, выбора жизненной опоры. Внутри романа отчетливо прослеживается сочетание временных рядов: циклического, индивидуально-личностного, исторического, вечного времени.
Автобиографическая тетралогия в целом - сложный идейно-тематический комплекс, широко развернутый во времени и пространстве. В нем нашли свое завершение поиски Б. Зайцевым романной структуры. Ключевые для романистики писателя вопросы о соотношении человека и времени, постижении смысла жизни, становления творческой личности выразились в особом романом сюжете, выстроенном как соотношение центростремительной и центробежной структуры. Тетралогия «Путешествие Глеба» представляет собою синтез романных жанровых модификаций.