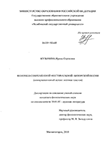Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Десятые годы 17
1.1. «Одесская школа» 17
1.2. Революция 27
Глава 2. Двадцатые годы 33
2.1. Завоевание столицы 33
2.2. Поиски новых приемов письма 42
2.3. Пафос «простой и чудной» жизни 53
Глава 3. Тридцатые годы 68
3.1. Писатель «государственного заказа» 68
3.2. Производственный роман: «Время, вперед!» 83
3.3. Повесть о детстве: «Белеет парус одинокий» 101
3.4. Народная эпопея: «Я, сын трудового народа» 112
Глава 4. Сороковые годы 123
4.1.ВойнаимирвпрозеВ.Катаева 123
4.2. Идеологически выдержанное своеволие: «За власть Советов!» 146
Глава 5. Пятидесятые годы 157
5.1. «Оттепель» 157
5.2. «Юность» 161
5.3. Беллетристика 169
Глава 6. Шестидесятые годы 181
6.1. Кризис 181
6.2. «Ленин - мой современник»: «Маленькая железная дверь в стене» 188
6.3. Смерть говорящего кота: «Святой колодец» 204
6.4. Три поэта: «Трава забвения» 220
6.5. «Опыт третьей сигнальной системы»: «Кубик» 237
Глава 7. Семидесятые годы 253
7.1. Литературный генерал: «классик советской литературы» 253
7.2. Разночинец, сын разночинца: «Разбитая жизнь...» 256
7.3. Офицер, внук дворянина: «Кладбище в Скулянах» 271
7.4. Поэт: «Алмазный мой венец» 279
Глава 8. Восьмидесятые годы 291
8.1. Жертвы века: «Уже написан Вертер», «Юношеский роман» 291
8.2. Прощание с миром: «Спящий», «Сухой лиман» 312
Глава 9. Место В.П.Катаева в культуре XX века 337
9.1. Репутация 337
9.2. Динамика формотворчества 352
9.3. Координаты художественного мышления 392
Заключение 424
Примечания 429
Список литературы
- Революция
- Пафос «простой и чудной» жизни
- Повесть о детстве: «Белеет парус одинокий»
- Смерть говорящего кота: «Святой колодец»
Введение к работе
Актуальность. Гуманитарная мысль XX века настойчиво ставит в качестве важнейшей проблему взаимосвязи художника и общества: никогда ранее человек не осознавал столь отчетливо свою тотальную зависимость от множества ближних и дальних привходящих социальных факторов. Анализ взаимоотношений общества и писателя имеет особое значение для русской литературы XX столетия, когда естественное духовное бытие художника корректировалось открыто выраженными требованиями государства. Социальное не просто подспудно влияло на творческое развитие, но требовало обязательного выполнения многих навязанных функций, приведения индивидуальных художественных задач и решений в соответствие с «текущим моментом». Это не только предопределяло внешнюю биографию художников, но и заставляло каждого из них искать свой способ взаимодействия с государственной машиной, вырабатывать свои личные правила творческой самозащиты.
Без осмысления данного комплекса проблем невозможно создание истории русской литературы XX века — насущной задачи современного литературоведения. Подход к ее решению возможен как в плане общетеоретических гипотез, так и в виде ряда «частных» историй с постановкой в центр внимания конкретного писателя или проблемы и рассмотрения их в максимально полной совокупности контекстуальных связей. Исследование под углом социального воздействия творческого поведения — и далее — собственно художественного творчества обусловливает первостепенный интерес к тем писателям, чья жизнь в литературе была достаточно продолжительна, чтобы распространяться на несколько исторических и художественных эпох, и в чьих произведениях существовали прямые взаимосвязи между художественными результатами и установками времени, при этом избираемые литераторы должны быть несомненно талантливыми, чтобы отношения между «общественным» и «индивидуальным» обретали видимую остроту.
Творческая биография Валентина Катаева практически полностью совпадает с биографией литературы советской эпохи. «Видный советский писатель», чьи книги вошли в читательский опыт не одного поколения, герой Социалистического труда, лауреат Сталинской и Государственной премий, автор произведения, героям которого в его родном городе был поставлен памятник, к концу долгой творческой жизни (1912-1986) именовавшийся не иначе, как «классиком советской литературы», одним из лучших стили-
стов в отечественной прозе, В.Катаев в каждый из периодов советской литературы создает произведения, которые в той или иной степени можно считать типичными, то есть наиболее полно и отчетливо выражающими своеобразие каждого этапа развития. Сатирическая повесть «Растратчики» (1926), комедия «Квадратура круга» (1928), «производственный роман» «Время, вперед!» (1932), историческая повесть «Я, сын трудового народа» (1937), повести для детей «Белеет парус одинокий» (1936) и «Сын полка» (1945), «от-тепельная» повесть о Ленине «Маленькая железная дверь в стене» (1964) и исповедальный «Святой колодец» (1965), так называемая «новая проза» — все это произведения, не просто этапные для писателя В.Катаева, но знаковые для времени их создания.
Писатель, так точно улавливающий веяния времени, существующий в условиях довольно жесткого государственного диктата, по логике должен бы был постепенно утратить самостоятельность. Широко применяющиеся в литературно-критических трудах последних лет формулы «сдача и гибель советского интеллигента» и «непрекращающееся духовное сопротивление» эффектны, но, как показывает реальная история литературы, и сдача редко бывала полной, и сопротивление редко было бескомпромиссным. Судьба А.Солженицына — скорее, исключение в отечественной литературе XX века, судьба В.Катаева в этом смысле более типична, хотя тоже по-своему является феноменальной (в смысле — удивительной): мало кому из писателей его поколения удалось после долгих лет конформизма или молчания не просто сохранить, но и укрепить свой талант. Проза же В.Катаева после всех испытаний полуправдой и соцреализмом как будто настоялась, что явно свидетельствует об особом свойстве катаевского дарования, которое оказалось не столько неуничтожимым, сколько достаточно пластичным и в то же время глубоким, чтобы не ухудшить, а напротив, улучшить свое качество.
Литературная судьба В.Катаева заключает в себе ряд парадоксов, характерных для многих талантливых советских писателей. Создавая произведения, чьи содержание и форма довольно точно соответствовали ведущим тенденциям развития «независимой» литературы, писатель почти никогда не встречал единодущного приема критики. Как все советские писатели, много занимаясь общественной работой, он опубликовал десятки статей, в которых одобрялась официальная линия партии, — и при этом сохранял известную аполитичность в своем творчестве. Он был первым редактором журнала «Юность» — органа ЦК ВЛКСМ и источника идеологической переориентации молодежи эпохи «оттепели» од-
новременно. Впитывая влияния самых разных предшественников и современников, он сохранил неизменными основополагающие черты своего художественного мира. Творческая биография талантливого писателя позволяет наглядно увидеть формы взаимодействия писателя и общества, рассмотреть механизм самостояния художника, внешне лояльного к власти, но сохраняющего определенную внутреннюю независимость.
Степень изученности вопроса и новизна исследования. В.Катаев, долгие годы находясь в центре литературной жизни, не был обделен вниманием критики. При анализе текущего литературного процесса имя писателя упоминалось весьма часто, почти все его произведения имели прессу, причем о нем писали критики разных направлений: от В.Шкловского до И.Машбиц-Верова, от А.Овча-ренко до Е.Тудоровской. Уделяя львиную долю своего внимания вопросам типа: буржуазный Катаев писатель или попутчик (в двадцатые годы), формалист он или все же соцреалист (в тридцатые годы), правдиво или украшательски он изображает реальность (в сороковые-пятидесятые), этично или неэтично писать «Ленин — мой современник» или определять доминирующий в облике старой женщины — вдовы Бунина цвет как цвет «белой мыши» (в шестидесятые), в 1970-е разговоры о писателе обернулись спором о том, насколько может быть назван святым колодец его памяти, на чем, собственно, критика о В.Катаеве себя исчерпала. Зарубежными славистами В.Катаев рассматривался то как типичный, но талантливый соцреалист (В.Федоров, А.Бронштейн), то как модернист, автор «новой прозы» (Н.Шнейдман, Д.Кизирья). Интересны многочисленные исследования, рассматривающие творчество В.Катаева в широком литературном контексте (К.Борден, Ф.Джонсон, Р.Рассел и др.). Ему посвящена отдельная глава в многотомной франко-итальянской «Истории русской литературы XX века» (автор — Р.Зернова), где он представлен в ряду других «разрешенных» советских писателей 1930-х годов (наряду с И.Ильфом и Е.Петровым, В.Кавериным и др.) в противовес «запрещенным» (Л.Добы-чину, А.Платонову, М.Булгакову. О.Мандельштаму).
Большая часть работ о жизни и творчестве писателя отличалась либо открытой тенденциозностью (Б.Брайнина, Л.Скорино, М.Ка-ганская, Б.Сарнов и др.), либо установкой на фактографичность (Р.Рассел) или эссеизм (Б.Галанов), в них сосредоточивалось внимание на отдельных произведениях (В.Гусев, Е.Иванова, Н.Иванова, К.Дорнахер, В.Кардин, Г.Шауманн и др.) или аспектах поэтики катаевских произведений (Э.Бальбуров, Т.Геворкян, Ю.Карпенко, Д.Кизирья, К.Нефедов, Т.Рытова, И.Шарыч и др.). В последние
годы отношение к В.Катаеву несколько изменилось: его произведения перестали восприниматься только как часть живого контекста, сменившаяся литературная ситуация и неизменно наступающая в конце календарных эпох инвентаризация позволили увидеть истинный масштаб этого писателя. Столетний юбилей писателя вызвал ряд статей (авторы — А.Гладилин, СЛипкин, О.Новикова и Вл.Новиков, Евг.Попов и др.), где уточнялось место В.Катаева в литературе, появилась и первая посвященная анализу наиболее значительных произведений писателя монография (W.Supa. TworczoSc* Walentina Katajewa. Biafystok,1996), автору которой творчество В.Катаева «кажется самым подходящим материалом для определения масштаба потерь, вызванных идеологизацией литературы». Эти последние публикации, по-прежнему очень страстные, показывают, пользуясь словами Б.Эйхенбаума, что В.Катаев — «сложная и живая историко-литературная проблема*.
В.Катаев прошел долгий творческий путь, который требует аналитического описания в своем единстве как путь человека, развивавшегося и менявшегося во времени. Подобное описание неизбежно выводит нас по меньшей мере к двум проблемам: определению факторов происходящих изменений и закономерности этих изменений. Если исходить не из a priori существующих в сознании исследователя стереотипных установок («верный сын партии», «приспособленец» , «движение к социалистическому реализму», «движение к модернизму»), то, видимо, удастся обнаружить характер и специфику тех причин, что стимулируют творчество художника, побуждая его и к изменениям, и к определенной устойчивости. Равно важными оказываются и обнаружение черт сходства между произведениями Катаева и поиск различий, обусловленных в обоих случаях временем создания, биографическими обстоятельствами, темами произведений, их жанровой природой и прочими факторами. Надо проследить динамику художественной манеры писателя и установить устойчивые, глубинные ее признаки. Этот завершенный во времени биографически, но не исчерпанный феномен, нуждается на данный момент не только в истолковании, но и в описании.
Новизна данной работы обусловлена не только систематизацией опубликованного у нас и за рубежом обширного и разноречивого материала, посвященного творчеству В.Катаева, но и целостным подходом к изучению творческого пути писателя. Основанием исследования явился корпус всех опубликованных произведений В.Катаева — от его широко известных романов, повестей и рассказов до менее известных, включая газетные очерки, статьи, фельетоны, интервью, заметки, разные редакции его произведений. Мы по-
старались учесть всю опубликованную критику, востребованную произведениями В.Катаева, а также воспоминания о нем, даже основанные заведомо на слухах и недостоверные, отзывы о писателе его современников, сохранившиеся в мемуарной литературе, переписке, дневниковых записях. Впервые проанализированы как части единого творческого наследия деятельность В.Катаева-писателя, В.Катаева-общественного деятеля, В.Катаева-редактора. Творческий путь писателя рассмотрен, с одной стороны, как динамическое целое, находящееся в сложных связях с историческими и собственно-литературными обстоятельствами, а с другой — как некое определившееся в себе явление, обладающее собственными сущностными чертами и закономерностями развития. Это потребовало обращения к ряду малоисследованных или находившихся вне поля научных интересов вопросов; о создании и функционировании литературной репутации писателя, характере его отношения к советской власти, этическим ценностям, классическим литературным традициям, современной ему литературной жизни, о его поведенческой и повествовательной стратегиях. В итоге представлен разносторонний анализ социальных и собственно художественных факторов формирования феномена В.Катаева, сам феномен описан через создающие его закономерности динамики развития творчества и устойчивые системные качества, определено его место в отечественной культуре столетия.
Конкретные задачи Цель диссертации состояла в том, чтобы представить творчество В.Катаева как закономерно развивавшееся целое в теснейшей взаимосвязи как с социальными, так и обще-культурными процессами, обнаружить системные закономерности в развитии художественного мира и творческого поведения писателя. Для этого необходимо было решить следующие задачи: 1) описать творческую биографию В.Катаева, поставив ее в контекст как политико-культурной ситуации эпохи, так и проблем «путей слова» в тогдашней литературе, передавая живую жизни литературного процесса, в котором осуществлялось развитие писателя; 2) проанализировать особенности восприятия писателя современниками в целях уточнения параметров творческой индивидуальности художника; 3) выявить устойчивые качества творческого поведения писателя, обусловленного его миропониманием, акцентировав проблему взаимосоотнесенности этого миропонимания с «сознанием» времени; 4) обнаружить закономерности художественного мышления В.Катаева, определить основные координаты порожденного им художественного мира, особое внимание обратив на взаимосвязи этого мира с социальным и художественным окружением;
5) представить творчество писателя в литературно-типологической перспективе.
Методы исследования. Поставленные задачи требуют единства теоретике- и историко-литературного подходов к объекту изучения. Современное состояние гуманитарного знания позволяет включать в качестве исходных предпосылок возможного исследования богатый опыт сопредельных наук: социологии, истории, культурологии. Важными оказываются исследования, исходящие из того, что осознание культурного смысла того или иного феномена невозможно без диалога, построенного, если использовать терминологию М.Бахтина, не только на «вненаходимости», но и на «со-бытии», проводящиеся на границе собственно литературоведения и сопредельных наук (Р.Арнхейм, А.Виала, Б.Гудков и Л.Дубин, В.Изер, Р.Ингарден, В.Руднев, А.Эткинд и др.) Особое место занимают работы, посвященные проблемам анализа жизни и творчества художников в единстве биографического и собственно эстетического подходов, когда исследователи выдвигают гипотезы, реконструируя не просто черты художественного мира, явленные в произведениях, но и стоящие за ним, полностью не вербализуемые ценностно-смысловые и предметные векторы того, что мы именуем художественным сознанием. При всей разнице подходов авторов к разрешению сложнейшей проблемы переведения непонятийного на язык понятий (так, А.Гастев пытается восстановить духовную целостность всего содеянного Леонардо да Винчи через живописные понятия сфумато, контрпост и сфорца (Гастев А.Леонардо да Винчи. М., 1982), Ю.Лотман избирает жанровую форму романа-реконструкции, в котором научное сопрягается с художественным (Лотман Ю. Сотворение Карамзина. М., 1987), И.Паперно делает основной акцент на декодировании трансформировавшегося в структуру литературного текста социально обусловленного человеческого опыта (Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996) эти и многие другие исследователи, предлагающие свои варианты методик анализа (С.А-веринцев, Ю.Мальцев, И.Сухих, М.Чудакова, В.Швейцер и др.), исходят из признания возможности обнаружения и описания целостности содержания индивидуального художественного сознания в его широкой контекстной обусловленности. Исследование предполагает включение творчества В.Катаева в широкий контекст современной ему культуры, сопоставление процесса и результатов его творческой деятельности с особенностями художественных миров и творческим поведением близких ему (хотя, возможно, и не подозревающих об этом) биографически и творчески писателей
(Ю.Олеши, Э.Багрицкого, И.Ильфа и Е.Петрова, А.Соболя, И.Бунина, О.Мандельштама. Б.Пастернака и др.) Подобные сопостав ления требуют применения описательно-аналитических и структурно-семиотических методик исследования в рамках системного аспекта историко-функционального подхода с использованием элементов типологического и сравнительно-исторического анализа.
Теоретическая значимость работы. Предложенный в диссертации подход к изучению творчества писателя, предусматривающий анализ социокультурных основ творчества, воплощенных в художественных его результатах, имеет значение для построения общей теории целостного изучения творчества писателя, а также углубляет наши представления о литературной жизни советского периода, в частности, об особенностях взаимодействия писателя и государства, писателя и его литературного окружения, писателя и литературной эпохи.
Практическое использование результатов работы Результаты предпринятого исследования применимы в практике вузовского преподавания, в процессе чтения общих и специальных курсов, посвященных истории русской литературы XX века. Если иметь в виду, что выделенные в диссертации аспекты анализа до сих пор остаются за чертой школьного изучения литературы (или преподносятся в «спрямленном», вульгаризированном виде), исследование феномена В.Катаева окажется полезным и в практике школьного преподавания литературы. Итоговые материалы исследования могут быть интересны широкому кругу филологов-славистов, культурологов, преподавателей литературы, всех интересующихся историей русской литературы XX века и творчеством В.Катаева.
Апробация работы. Наблюдения и умозаключения, положенные в основу диссертации, были предметом докладов, прочитанных на научных конференциях разных уровней в Екатеринбурге, Перми, Саранске, Самаре, Томске, Тюмени, Челябинске.
Революция
При анализе текущего литературного процесса имя В.Катаева упоминалось весьма часто, почти все его произведения имели то что называется прессу, при этом писали о нем критики разных направлений: от В.Шкловского до И.Машбиц-Верова от А.Овчаренко до Б.Сарнова. Уделяя львиную долю своего внимания вопросам типа: буржуазный Катаев писатель или попутчик (в двадцатые годы), формалист он или все же соцреалист (в тридцатые годы), правдиво или украшательски он изображает реальность (в сороковые-пятидесятые), этично или неэтично писать «Ленин - мой современник» или определять доминирующий в облике старой женщины - вдовы Бунина цвет как цвет «белой мыши» (в шестидесятые), в 1970-е годы разговор о В.Катаеве обернулся спором о том, «святой» или не святой колодец его памяти, на чем собственно критика о В.Катаеве и кончилась, так как его произведения 1980-х годов интерпретации в прессе практически не получили (31). Чуть ли не общим для всех работ о В.Катаеве становится вывод о том, что художник он, вне сомнения, значительный, но человек, увы, сомнительный — то есть разыгрывается вечная тема гения и злодейства, причем выводы сделаны такие, что случай уникален: гений и злодейство оказались совместны (32). В литературоведении анализу собственно результатов творческих усилий В.Катаева уделено немало внимания, в первую очередь, из-за стилевой изощренности его письма. Анализ формы катаевских произведений проводился на самом широком материале. Его творчеству еще при его жизни были посвящены монографические исследования Т.Сидельниковой, Б.Брайниной, Л.Скорино, Б.Галанова, Р.Рассела (33), а после его смерти - того же Б.Галанова и В.Супы (34).
Произведения В.Катаева сначала как классика советской литературы, потом как «мовиста» довольно много переводились за рубежом, начиная с 1920-х гг., но успех имели в основном среди славистов (35). Уже в начале 1980-х гг. американская исследовательница Д.Кизирья с огорчением отмечала, что наиболее интересные произведения В.Катаева - его «новая проза» - остались практически незамеченными ее коллегами: В.Катаев продолжал оставаться для них автором «Растратчиков» и сервильным советским писателем, обласканным правительством (36). Творчество В.Катаева рассматривалось зарубежными исследователями то как типичного, но талантливого соцреалиста (37), то как модерниста, автора «новой прозы» (38). Интересны многочисленные исследования, рассматривающие творчество В.Катаева в широком литературной контексте (39). Ему посвящена отдельная глава в многотомной «Истории русской литературы XX века», где он рассмотрен в ряду других «разрешенных» советских писателей 1930-х годов (наряду с И.Ильфом и Е.Петровым, В.Кавериным и др.) в .противовес «запрещенным» (Л.Добычину, А.Платонову, М.Булгакову, О.Манделылтаму)(40).
В последние годы отношение к В.Катаеву несколько изменилось: его произведения перестали восприниматься в живом контексте, сменившаяся литературная ситуация и неизменно наступающая в конце календарных эпох инвентаризация позволили увидеть истинный масштаб этого писателя. Столетний юбилей писателя вызвал ряд статей (41), по-новому определяющих место В.Катаева в литературе, появилась и первая посвященная анализу всего творчества монография В.Супы. Эти последние публикации, по-прежнему очень страстные, показывают, пользуясь словами Эйхенбаума, упоминающего, впрочем, другое имя, что В.Катаев - «сложная и живая историко-литературная проблема» (42).
Несмотря на всю обширную «катаевиану» творчество писателя только начинает последовательно изучаться. Результаты, достигнутые к настоящему времени совокупным трудом многих литературоведов, позволяют перейти к выработке обобщающих концепций катаевского творчества. Пока это изучение затруднено отсутствием обстоятельного подготовительного этапа. Нет научной биографии В.Катаева, единичны архивно-публикаторские материалы, не проводились текстологические исследования. Отчасти это связано с тем, что писатель только недавно ушел из жизни, отчасти с позицией его наследников, но работа эта, видимо, постепенно будет разворачиваться. Но даже опубликованные, доступные материалы, кроме того, что они нуждаются в систематизации и осмыслении, дают возможность для постановки ряда проблем. Поясняя свой интерес к творчеству В.Катаева, В.Супа заметила: «Для польского и вообще для зарубежного литературоведа... творчество автора «Святого колодца» представляет странный литературный феномен и одновременно очень удачный пример для рассуждений об условиях развития литературы в советскую эпоху. А точнее, о парадоксах, которые тормозили ее развитие, а также о зависимости писательских судеб от литературной ситуации. Судьба Катаева кажется мне самым подходящим материалом для определения масштаба потерь, вызванных идеологизацией литературы» (43). По сути дела, речь идет о проблеме «писатель и время», которая была вынесена даже в заглавие монографии Л.Скорино: учитывая своеобразие катаевской творческой биографии, эта проблема просто не могла не ставиться при жизни писателя. Но решение ее затруднялось традиционной идеологической полярностью мысли как в отечественной, так и в зарубежной славистике, что побуждало создавать либо глубокие, но сугубо академические исследования, касающиеся частных проблем поэтики катаевских текстов, либо апологетические или, напротив, обвинительные работы, касающиеся идеологических особенностей творчества писателя. В последнее время они решались либо на уровне метафорически-интуитивном, либо свернуто (из-за жанра, скажем, юбилейной статьи), либо в аспекте анализа какой-то грани поэтики (так, В.Супа исходит из идеи жанрового многообразия катаевского творчества). Целый ряд вопросов, без разрешения которых к анализу творчества В.Катаева трудно приступать, не был даже отчетливо сформулирован: от вопроса о создании и функционировании его литературной репутации, характере его явно поливалентных отношений с Советской властью, классическими литературными традициями, культурными ценностями и т.д., вплоть до отношения В.Катаева к религии или, скажем, «еврейскому вопросу».
Завершенный во времени биографически, но не исчерпанный феномен В.Катаева -нуждается на данный момент не только в истолковании, но и в описании исходя из принципа презумпции невиновности. В.Катаев прошел долгий творческий путь, который требует изучения в своем единстве как путь одного человека, развивавшегося и менявшегося во времени. Подобное описание неизбежно выводит нас по меньшей мере к двум проблемам: определения факторов, происходящих изменений и закономерности этих изменений. Если исходить не из априори существующих в сознании исследователя установок (верный сьш партии, приспособленец, циник, движение к социалистическому реализму, движение к модернизму), то, видимо, удастся обнаружить характер и специфику тех причин, что двигают вперед творчество художника, побуждая его как к изменениям, так и к определенной устойчивости. Обнаружение этих закономерностей, возможно, позволит пролить свет на движущие творчество художника силы.
Пафос «простой и чудной» жизни
По точному замечанию В.Супы, реалистическое стремление правдоподобно и убедительно рассказать «историю из жизни» соединяется у него с модернистской образностью (43). Совмещение разных углов видения, выраженных с помощью разных функциональных стилей, интонационная чересполосица и создают в ранних произведениях В.Катаева, с одной стороны, ощущение живой захлебывающейся речи человека этой же эпохи, рассказывающего хорошо известные ему истории, а с другой -писательской «недостроенности» текста, излишней пестроты и утомительной обстоятельности, того, о чем позже в связи с катаевским рассказом «Отец» скажет И.Бунин: «Нет, все-таки какая-то в нем дикая смесь меня и Рощина. Потом такая масса утомительных подробностей! Прешь через них и ничего не понимаешь! Многого я так и не понял. Что он, например, делает с обрывком газеты у следователя? Конечно, это из его жизни» (44).
Эта «неразборчивость» будущего «лучшего стилиста советской литературы» в выборе стилевых приемов была точно спародирована А.Архангельским в цикле «Классики и современники», где литераторы новой эпохи «по-своему» трактуют «Капитанскую дочку». По верному замечанию В л. Новикова этот пародист обычно «исследует единую художественную позицию» авторов, «под знаком легкой иронической остраненности синтезирует главную суть устремлений» писателя (45). У В.Катаева пародист обнаруживает стремление к яркой изобразительности, когда каждый предмет или явление не просто называются, но неизменно метафорически усиливаются и гиперболически оцениваются. При этом ряды, из которых заимствуются метафоры и сравнения, разнородны, а порой и плохо соединимы: «Гуттаперчевое облачко круто висело на краю алюминиевого неба. Оно было похоже на хорошо созревший волдырь. Bejep был суетлив и проворен. Он бьш похож на престидижитатора»(46). Загадочный «престидижитатор», что значит всего-навсего фокусник, - это украшательство не столько ради демонстрации своей эрудиции, сколько для придания тексту эффектности. Мир оценивается глазами человека нахватанного, шустрого: среди его сравнений и «кучер диккенсовского дилижанса», и «пуше н ш трол неосвещенного метрополитена» и «страшно утопическое солнце», по-журналистски и по-одесски развязного: «Черт подери! У старика был страшно шикарный нюх», желающего произвести впечатление. По сравнению с приведенным в начале пушкинским текстом эта жажда эффектности производит тем более комическое впечатление, что техника катаевского письма основана на переписывании пушкинского с обязательным метафорическим разворачиванием каждого слова: «Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами» - «Я спешно приближался к географическому месту моего назначения. Вокруг меня простирались хирургические простыни пустынь, пересеченные злокачественными опухолями холмов и черной оспой оврагов»(« больничная» тема здесь заменяет определение «печальные». - М.Л.)(47).
Чуть позже В.Катаев откажется от этой стилевой пестроты и подчеркнутой «шикарности», в чем, думается, ему немало помогли работа над фельетонами и авантюрно-приключенческими повестями, жанровые условия которых требовали стилистической однородности. Он научился «держать» единство интонации и приемов на большом тексте. И, скажем, вызвавшая положительную реакцию у весьма взыскательных читателей повесть «Растратчики»(48) написана уже явным «гогольянцем», правда, 20-х годов, что отразилось в эпиграмме того же А. Архангельского: «В портрете - манера крутая, / Не стиль, а сплошной гоголь-моголь: / Посмотришь анфас - В.Катаев, / А в профиль посмотришь - НГоголь!» (49).
С.Рассадин, назвавший «Растратчиков» лучшим из написанного у В.Катаева, книгой, сопоставимой с произведениями М.Булгакова, М.Зощенко, И.Ильфа и Е.Петрова справедливо выделяет в ней именно «гоголевскую» составляющую: «Станиславский, в 1928 году руководивший постановкой пьесы по «Растратчикам».., увидел в них новые «Мертвые души», «фантасмагорию», «которую надо было развернуть на сцене в космических масштабах». И вправду, история двух советских мальков, бухгалтера Филиппа Степановича и кассира Ванечки, бессмысленно и бездарно сорванных с места стихией растратничества и не сумевших, прежде чем очутиться в тюрьме, вкусить от краденого богатства хоть малую толику удовольствия, - это наша, российская история (история в обоих смыслах). Это Русь-тройка, не в первый и не в последний раз сбившаяся с дороги и вывернувшая седоков в сточную канаву. Словом: «Вместо того, чтобы увидеть на сцене растрату как социальное зло, видишь страдания несчастных людей, мучающихся безвинно». Сказано, между прочим, одним из инициаторов запрета спектакля: глаз хулителя, как бывает, оказался остер, увидев в фарсе, «трагедию» (50).
С самого начала повести автор выдерживает, на первый взгляд, необоснованно длинные гоголевские периоды - рассуждения-описания по самым, казалось бы, мелким поводам с многочисленными попутными отступлениями от основной темы: «Собственно говоря, уже довольно давно в природе никакой Мясницкой улицы не существует. Имеется улица Первого мая. Но у кого же повернется язык в середине ноября, в тот утренний тусклый час, когда мелкий московский дождь нудно и деятельно поливает прохожих, когда невероятно длинные прутья неизвестного назначения, гремящие на ломовике, норовят на повороте въехать вам в самую морду своими острыми концами, когда ваш путь вдруг преграждает вывалившийся из технической конторы поперек тротуара фрезерный станок или динамо... - у кого ж тогда повернется язык назвать эту улицу каким-нибудь другим именем? Нет, Мясницкой эта улица была, Мясницкой и останется. Видно, ей на роду написано быть Мясницкой, и другое, хотя бы и самое замечательно лучезарное, название к ней вряд ли пристанет»(2,7-8). И «возвышенные» мыслц Прохорова (2,11), разительным образом несоответствующие его мирному занятию, и слабости Ванечки (2,14) - все это восходит к гоголевским произведениям и конкретным характеризующим гоголевским приемам. От Гоголя идет и общая сюжетная схема путешествия по городам и весям в поисках некоего промысла, и более частные фабульные элементы: «миражная» интрига «Невского проспекта» в любовных похождениях Ванечки (51), мечты героев как движущая сила их поведения, внезапно вспыхнувшая любовь плута к невинной девушке, расплата за осуществленную мечту душевной болезнью и т.п. В.Катаев к этому времени отчетливо осознает, что те или инью приемы должны быть содержательно увязаны с предметом описания. И гоголевская интонация отчетливо отсылает читателя к характеристикам «миражного», таинственного во лвсей его, казалось бы, конкретности мира. Не случайно искать счастье герои отправляются в «город-призрак» с тройным именем, что актуализирует весь сложный ассоциативный ряд, связанный с этим полумифическим для чужих местом: от Евгения «Медного всадника», Евгения Онегина, который так же, как и Ванечка, «утомленный в постелю с бала едет» утренним городом, до Аблеухова «Петербурга».
Повесть о детстве: «Белеет парус одинокий»
Созданный чуть позже первых "производственных" романов ("Соть"Л.Леонова, "Гидроцентраль" М.Шагинян, "День второй" И,Эренбурга), роман В.Катаева вобрал в себя "способы строить и завершать целое", присущие этим произведениям: концентрация всех сюжетных линий вокруг производственного конфликта, рассмотрение последнего как частной формы борьбы старого и нового, фабульное движение от старого к новому ("Переменилась Соть и люди переменились на ней"), подчинение частного в жизни героев общему. Даже сам материал романа отправляет нас к «Цементу» Ф.Гладкова (44).
Формально "Время, вперед!" содержит все приметы правоверного соцреалистического романа, хотя сама идея нового творческого метода в то время еще только вызревала, не оформившись окончательно.
Основанный на традиционной для подобного типа сочинений схеме, роман содержит необходимый расклад героев и проблем: прогрессивный искренний инженер Маргулиес и консервативный лицемерный инженер Налбандов спорят, сколько замесов бетона можно сделать за одну смену; одержимые строители нового мира переводят этот спор в практическую плоскость, тогда как тунеядец Саенко бросает бригаду на произвол судьбы в самый ответственный момент; уверенные в своем будущем советские рабочие воплощают свои мечты, американец же переживает крах всех своих мечтаний. В романе отмечены приметы нового мира, начиная от Мавзолея Ленину и кончая памятником ему же на плотине Магнитки. А главное, в романе есть безудержная вера в справедливость и правоту нового жизнеустройства.
Тем не менее "Время, вперед!" является произведением не совсем обычным. Действительно, поставить в центр романа производственную коллизию, притом намеренно прозаическую - не схватку старого с новым не переделку человеческого материала, а историю борьбы за увеличение количества замесов бетона - задача смелая, дерзкая и в то же время обреченная на официальный успех. Но это типично катаевская дерзость, поскольку решает писатель свою задачу, опираясь на мощный п аст традиции, проявляя себя не столько новатором, сколько преемником.
Названный цитатой из В.Маяковского (своеобразное преломление популярной в начале 1930-х годов идеи коллективности творчества), роман оказывается местом скрещения разнородных традиций. В самом тексте есть ссылка на авторитетную тогда горьковскую идею создания "истории фабрик и заводов", и роман по жанровому определению органически включается в ряд создаваемых тогда хроник, летописей, историй: хроника одного дня большой стройки, летопись жизни одного участка, история одного рекорда. Д.Молдавский справедливо говорил, что «Время, вперед!» - это «первая маяковская книга в советской прозе», «овеществленный энтузиазм» (45). Если сопоставлять стиль прозы В.Маяковского и В.Катаева (46), то обнаруживается явное сходство в ритме, концентрированности, экономности, резкости, ориентированности на рубленую фразу. В этом романе очевидно влияние отечественных конструктивистов с их идеями эпизации, очень популярного в то время среди советских литераторов Д.Дос Пассоса и ЛЕФов с идеями включения документального в художественное. В романе перекрещиваются называемые самим писателем «принципы кино" со своеобразным способом организации времени, когда время протекания эпизода не может быть короче или длиннее, чем в реальной жизни, а концентрация художественного времени осуществляется за счет монтажа, и "толстовского" подчеркивания устойчивой детали (маленькие босые ноги Ищенко, застенчивая шепелявость Маргулиеса, замшевый подбородок Рай Рупа и др.). Даже сюжетный замысел романа очевидно перекликается с «Улиссом» Д.Джойса: один день из жизни, насквозь пронизанный уходящими вглубь веков ассоциациями (47).
Узнаваемы лейтмотивные образы романа. Бури и бураны традиционно знаменовали в русской литературе приближение чего-то огромного и стихийного, не случайно в романе поминается «Капитанская дочка» А.С.Пушкина. Ветер буквально гулял по всей послереволюционной литературе, начиная с «Двенадцати». Образ бегущего времени характерен для поэзии эпохи «великого перелома». Но при этом роман «Время вперед!», довольно легко при внимательном чтении поддающийся раскладыванию на отдельные традиционные ходы, цитаты и заимствования, обнаружению в нем чужих влияний, оказывается устойчивым и цельным сплавом, к тому же органично включенным в предшествующее и последующее творчество писателя.
На всем протяжении своей творческой жизни вбирая художественные идеи самых разных писателей, В.Катаев сохраняет неизменным излюбленный круг мотивов, присущий только ему пафос и соответствующую интонационную определенность. Три излюбленные темы катаевского творчества: детства и отрочества как эпохи получения наиболее полных впечатлений бытия и первых схваток с миром, прошедшего и найденного времени, поиска новых форм для выражения «мирового ребуса, полного новых связей», - возникают и в «романе о пятилетке».
В романе «Время, вперед!» в качестве одного из ведущих мотивов выступает вопрос: «Что здесь - стройка или французская борьба?» Он звучит своеобразным рефреном, передается от одного героя другому, и все герои романа определяются именно по отношению к этому вопросу. Французская борьба - культовое занятие времен катаевского детства. В ней сочетаются азарт и невозможность обмана: схватка неизбежно выявляет сильнейшего. Ирония по отношению к этому занятию - удел взрослых людей, а в романе подчеркивается подростковое желание поразить, доказать, переплюнуть ближнего и дальнего соперника, что сближает полуграмотных мальчишек, малюющих лозунги и высоколобых инженеров.
В строителях Магнитки подчеркивается детское начало: леденцы и цукаты, которые целый день сует в рот Маргулиес, его малорослость, шепелявость, сходство с экстерном; короткие платья Шуры, ее грязные локти и колени, «замурзанное» лицо и грубый мальчишеский голос Моей, «способный разбудить мертвого»(2,259), его мечты «умыть Харьков»(2,261) и попасть в центральную газету, «розовое детское капризное лицо с кислыми глазами»(2,284) у Ищенко, его «цепкие босые ножки»(2,282), «голые детские ноги хронометражистки с опустившимися носочками». Даже у сбегающей со стройки в Анапу Клавы «уже не слишком молодое, но все еще детское лицо»(2,418).Отрицательный Саенко омерзителен, как злой переросток со своей болячкой на губе, неумелой пьянкой и душещипательными плохими стихами, втягивающий в карточную лихорадку простодушного Загирова, глядящего на мир «с покорным, бессмысленным любопытством и тупым отчаяньем мальчика, пррданного в рабство»(2,424).
В тексте романа слова "молодой" и "детский" едва ли не самые употребительные эпитеты. В итоге выстраивается цепь, образов: в молодой Советской стране строится молодыми людьми из молодого бетона (даже такое применение эпитету есть в романе) молодой город. Это странный город, в котором нет «ни церквей, ни ларьков, ни трамваев, ни каменных домов»(2,280), нет даже улиц, вместо них участки. Это набросок города, план которого уже определен, но еще зримо не проявлен. Населяющие роман герои азартны, самолюбивы и резки, как подростки. Строительство комбината для них - спорт, не случайно перед рекордной сменой члены бригады Ищенко «разминаются, пробуя силы, как перед матчем»(2,403), а во время работы напоминают орудийную прислугу.
Смерть говорящего кота: «Святой колодец»
Однако если внимательно прочитать оба этих произведения, мы увидим, что, объединенные общей темой, они написаны в рамках разных литературных периодов, традиций, жанровых образований, что позволяет этим текстам, органично включаясь в творчество обоих писателей, не столько вступать в полемику друг с другом, сколько расширять диапазон видения войны. Искусство, так или иначе отражая прожитое народом, в то же время остается частью бытия того мира, о котором ведет речь, изменяясь вместе с этим миром. Война, вошедшая в духовный опыт народа, в сознании народа с течением времени трансформировалась. Эти трансформации порождали разные художественные интерпретации, усугубляемые еще и субъективностью видения художника, и разными способами создания им художественного мира своих произведений. Война, являющаяся частью духовного опыта народа, не является чем-то внешним по отношению к художнику, она для него своя, и каждый имеет свою войну, и даже когда берутся абсолютно совпадающие ситуации, типы героев, при полном формальном совпадении каждый передает разный духовный опыт, соотнесенный с народным духовным опытом.
Повесть В.Катаева написана для детей военного времени, не только от войны страдавших, но, судя по всему, о войне(точнее, об участии в битве с врагом, о мести в случае гибели близких) даже мечтавших. Ваня Солнцев - один из таких военных детей, лицом к лицу столкнувшихся с войной. Мир его сознания прост и ясен: есть наши и есть фашисты, фашисты несут муки (гибель отца, смерть матери, сестры, бабушки, уничтожение дома), с ними нужно бороться. Как, он не очень-то задумывается, потому и носит в сумке на всякий случай остро заточенный гвоздь, чтобы при случае убить какого-нибудь врага. Он попадает в армию, представляя ее себе очень приблизительно: «Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник, если не самый главный, то, во всяком случае, достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакиевым. Это же подтверждали и звездочки на погонах. Их было очень много: по четыре штучки на каждом золотом погоне, не считая пушечек. «Хоть и не старый, а небось генерал»,-решил Ваня»(3,260). Его обращение "дяденька", детская хитрость, наивный восторг перед "роскошным мальчиком" в казачьей форме и ликование по поводу своей новой прически, когда на голове его появился "не бесшабашный кавалерийский чубчик, а скромная артиллерийская челочка"(3,299), -все это сродни поведению и мироощущению Тани и Вани, которые отправились "в Африку гулять", не думая о последствиях. Ваня Солнцев - абсолютный ребенок: не случайно он повсюду, даже в разведку, берет с собой букварь, "чтоб грамоте не разучиться", попутно внося в него все то, чему научился у разведчиков. Его ребячливость подчеркнута во внешности, у него мальчишеская улыбка, звонкий голос, "лопатки торчат, как топорики"(3,301),синие детские глаза, он искренне радуется жизни и огорчается по пустякам, он естественный человек.
Его видение подкрепляется общей картиной мира, изображенной в повести. Война - столкновение двух способов жизни. Мир немцев - химический, едкий, ненастоящий, то слащавый до приторности,то садистически жестокий. В нем лампы светят "очень ярким, но каким-то едким, химическим, мертвенно-зеленоватым светом"(3,241),а женщина разговаривает "голосом ученого скворца" (3,284). В мире Советской Армии, напротив, все разумно, крепко и надежно: "Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь желтое полотно проникал ровный, веселый свет, похожий на солнечный"(3,231-232). Недаром такое место в повести занимают описания удобств, устроенных для себя "хозяйственными разведчиками", именно через хозяйственность они характеризуются как хорошие настоящие солдаты. Самым важным в этом столкновении двух миров оказывается противопоставление показной доброжелательности немцев (разговор с переводчицей) и истинной семейственности русской армии.
Тема сиротства и отцовства проходит через все творчество Катаева, являясь одной из самых болевых. Допрашивающий Ваню немец с обручальным кольцом на пальце готов повесить чужого ребенка, капитан Енакиев, потерявший сына, сам сирота, напротив, хочет спасти этого чужого ребенка, сделав его своим сыном. Тема родства пронизывает всю повесть: Енакиев и Акунбаев любили друг друга, как родные братья, разведчики относятся к Ване с умилением и нежностью, батарея Енакиева называется "новой семьей, принявшей Ваню к себе", о наводчике Ковалеве говорится , что "его дом была армия".Разговаривая с солдатами, командиры дают понять, что "официальный разговор кончен и теперь разрешается держаться по семейному"(3,266). "Живая деятельная отцовская любовь" капитана Енакиева к Ване заставляет первого разрабатывать план воспитания второго и начинать педантично претворять этот план в жизнь. При этом для писателя важно, что после гибели капитана план этот продолжает воплощаться, потому что эстафету отцовства принимают полковник( "И, отдавая мальчику погоны капитана Енакиева, полковник сказал так: "Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у разведчиков и у орудийцев. Ты был достойным сыном капитана Енакиева...И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя твоим сыном...Прощай, Ваня Солнцев, и, когда ты станешь офицером, возвращайся в свой родной полк. Мы будем тебя ждать и примем тебя как родного"(3,358), старый генерал, начальник училища, и, наконец, сам генералиссимус Суворов - "старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным худым лбом"(3,362) из Ваниного сна, "он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, говоря :"-Иди, пастушок...Шагай смелее!"(3,362.)
Этот бравурный финал может вызвать реакцию, сходную с той, что возникла у богомоловского Ивана Буслова-Бондарева после чтения рассказа о разведчиках: "Переживательно. Только по правде так не бывает"(5. Но Катаев дает к своей повести заранее опровергающий такую позицию эпиграф из Н.АНекрасова :"Это многих славный путь". Судьба М.В.Ломоносова, с которым связана некрасовская строка, тоже была не слишкой типичной для русского крестьянства, и В.Катаев неожиданно придает повествованию о войне черты пасторали - жанра заведомо условного и не претендующего на жизненную достоверность, но вполне уместного в рамках того представления о войне, которое было у детей той эпохи.