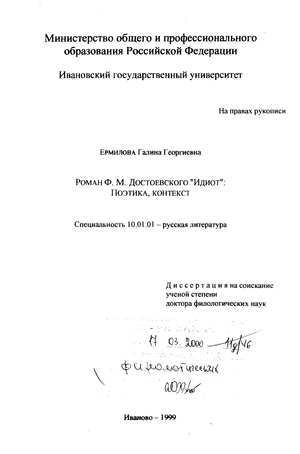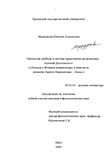Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Христология Достоевского 31
Глава 2. Рыцарский сюжет в "Идиоте". Пушкинский контекст 56
Глава 3. Христианская эзотерика. "Неисследимый" сюжет "Идиота" 85
CLASS Глава 4. Восстановление падшего Слова, или о "филологичности" "Идиота" 14 CLASS 9
Глава 5. "Идиот" - в метароманном контексте 187
Заключение 238
Примечания 242
- Христология Достоевского
- Рыцарский сюжет в "Идиоте". Пушкинский контекст
- Христианская эзотерика. "Неисследимый" сюжет "Идиота"
- Восстановление падшего Слова, или о "филологичности" "Идиота"
Введение к работе
ГС. Померанц в одной из своих последних работ написал: "...мы никогда не сможем сказать, что знаем Достоевского. Мы только узнаем его" . Кажется, это единственная истина, которую разделяют все, кому дорого творчество писателя.
Углубление в Достоевского, в художественную метафизику его творчества (именно в этом позитивный итог исследовательских усилий последнего десятилетия) не только не сняло ранее возникших противоречий, но обнажило новые, тревожащие исследовательскую мысль.
В известной мере, это общий закон: время приближает и отдаляет, дает права и отбирает их. Мы ближе к Достоевскому, чем его современники, но и дальше их. Нам даны исторические преимущества ("большое видится на расстоянии") , но мы утратили чувство непосредственной сопричастности эпохе Достоевского, нужен подвиг эмоционально-интеллектуальной "настройки" на ее "голоса" и "веяния". И какие "веяния"!
Преимущества неотделимы от обязательств. Культура - традиция, поток, "завихрение" энергийных смыслов Слова. В Нем промыслительное раскрытие Божественного Откровения, Божественного Домостроительства. В Нем -высшая предзаданность, которая - через слово культуры - угадывается в ее целостности.
Слово культуры - всегда с метафизической перспективой. Достоевский это осознавал: "Вся действительность не исчерпывается насущным, ибо огромною своею частию заключается в нем в виде еще подспудного, невысказанного будущего слова. Изредка являются пророки, которые угадывают и высказывают это цельное слово" (11, 237)2.
Поставить Достоевского в традицию - значит не только "решить" его культурно-историческую участь, но и обнажить за- и над- культурное (в
культуре же реализуемое) метафизическое измерение, актуализировать не только культурный, но и метакультурный контекст.
Для этого нужны преимущества исторической и метафизической "дальнозоркости".
Для искусства время не поток, бесследно стирающий прошлое, а растущий организм, в котором настоящее и будущее нераздельно связаны с никогда не умирающим прошлым. Основа искусства - вера в непрерывное творческое самообновление мира.
Христология Достоевского
Скажем сразу со всей определенностью: христология Достоевского - не мировоззрение, не философия, не сформулированный им "символ веры", а страсть и жизнь, где все "горит и жжет". Вера, в его понимании, - "красный цвет" (27, 56). Легче всего превратить ее в потухший вулкан. Но ведь это будет застывшая лава, чувство горячей и горящей сопричастности Иному исчезнет. А в нем-то все дело. Как всякий художник, обладавший опытом Подлинного, Достоевский интересен не столько тем, что сформулировано, отстоялось, облеклось, а тем, что над и сверх них. Тем, что открывается через слово в качестве несловесного, того, что первичнее слова, что по сути своей - как это было понято апофатическим восточным богословием - неизреченно. Наше слово всегда - с неизбежностью - дерзкое (дерзновенное?!) посягновение на Священное. Большие художники в своем смирении перед тайной "невыразимого" это понимали.
Христология Достоевского - путь, не итог. Хотя в этом противопоставлении лингвистическая, не пневматологическая суть. В пути -некая высшая напередрешенность, свой онтологический смысл. Даже блуждания не бесцельны, даже тупики, сужая дорогу до тропинки, ведут к искомому. В пути - надежда. Степан Трофимович Верховенский понял это в конце свой жизни.
"Вехи" своего пути ко Христу Достоевский расставил сам: послекаторжныи "символ веры" с противопоставлением Христа истине, его же вариант - в "Бесах", возврат к нему же в Записной тетради 1880-1881 гг. Пафос телеологичиости здесь несомненен, а он-то как раз и противится механическому расчленению "пути" нес его составляющие с последующей имманизацией, еще хуже, догматязацией части в ее отвлечении от целого.
Если Достоевский пришел к Христу (а он, по его свидетельству, которому нет основания не доверять, пришел к Нему. В конце жизни он признался: "...не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедаю, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла" - 27, 86), то изначально он встал на тот "узкий путь", который, по евангельскому благовестию, только и приводит к Нему. А это значит, что временные уклонения от него и с него, колебания и богоборчество, - то "зло", которое, в отличие от благих намерений, мостящих дорогу в ад, выводит к свету. Прав был Н. Бердяев, утверждавший, что зло у Достоевского - не провал без возврата, а путь.
Прав был и СИ. Фудель, обнаруживший родство между "бунтом" Ивана Карамазова и "воплями" к Богу библейского Иова; "А что говорил Иов, кроме слов тоски о себе и о мире, кроме слов сомнения, непонимания и протеста? Вот что для уяснения христианства и идей Достоевского надо было бы нам учесть. Сомнения Достоевского только вводят нас глубже в Библию и показывают первоисточники его идей. Бунт Иова заканчивается не отходом от Бога, а, так же как у Достоевского, сильнейшим к Нему устремлением, но точно через какую-то борьбу с Ним. Как сказал один монах: "Это есть та борьба с Богом ради правды Божией, когда человек борется с молчанием Божиим, как когда-то Израиль боролся на утренней заре с безмолвной для него истиной". Это одна из вершин Библии, и Достоевский из своей темноты устремился к ней"1.
Достоевский сказал о Раскольникове: "...без этого преступления он бы не обрел в себе таких вопросов, желаний, чувств, потребностей, стремлений и развития" (7,140). О себе сказал...
Прочтение "Идиота" без осмысления христологии его автора - не невозможно, но неизбежно поверхностно. В нем много легкомысленного своеволия, желания "забросать" тайну ворохом "попутных" слов. Но Достоевский, как пушкинский Вальсингам, поет у бездны на краю. Только в таком художественном модусе и могла возникнуть головокружительная характеристика Мышкина - "Князь Христос".
В свете новейших полемических дискурсов по поводу смыслового центра "Идиота" есть резон остановиться на трех аспектах христологии Достоевского.
Вопрос сейчас поставлен так: Христос Достоевского - евангельский или ренановско-штраусовский? Изжил ли Достоевский, пройдя через опыт каторги, гуманистический соблазн только человека Христа? Открылась ли ему Его "неслиянная и нераздельная" богочеловеческая природа? Все это имеет отношение к более широкой проблеме "гуманизм и христианство".
Второй аспект связан с вопросом о глубине и длительности этого соблазна. Если Достоевский его изжил, то когда? До или после "Идиота"? А может быть, пронес через всю жизнь?
И наконец, в-третьих, является необходимость конфессиональных дефиниций. Дипломатичное уклонение от них делу не помогает: гони природу в дверь, она проскочит в окно. Как это случилось, например, в одной из последних статей В. Котельникова с ее несколько неожиданными католическими ассоциациями2.
Спор о смысловом центре "Идиота" упирается, на наш взгляд, в неверно поставленный вопрос. В ряде новейших работ этот центр видится в мертвом Христе Г. Гольбейна, визуально-символическом эквиваленте ренановского только человеческого Иисуса (Т. Касаткина, Л. Левина, А. Тоичкина, более осторожно - И. Кириллова, Б. Тихомиров). Вопрос ставится в виде дилеммы: или евангельский, или ренановский Христос?
Рыцарский сюжет в "Идиоте". Пушкинский контекст
"...Великая книга - вещь загадочная и страшная, и мы ... постоянно ищем способ оттянуть встречу с нею лицом к лицу или вовсе от этой встречи уклониться"1. "Идиот" - самая таинственная книга Достоевского. Встретиться с ней "лицом к лицу" - встретиться с непостижимым ее героем - "Князем Христом". Но и сам роман - роман встреч.
Одна встреча - Мышкина с Настасьей Филипповной - вынесена в "затекстовое" пространство. До знакомства в гостиной Иволгиных они уже знали друг друга. "Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела?"; "Право, где-то я видела его лицо!" (8,89,99), - признается Настасья Филипповна. И в том же роде Мышкин: "Я вас тоже будто видел где-то.
-Где, где?
-Я ваши глаза точно где-то видел...да этого быть не может! Это я так...Я здесь никогда не был. Может быть во сне...(8, 90). "Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня... " (8, 142). В другом месте свой "сон" Мышкин называет "видением" (8, 287).
Речь идет о швейцарском горнем видении героя, о котором в романе рассказано трижды: первый раз самим Мышкиным в гостиной Епанчиных при их первой встрече (8, 50-51), в двух других случаях оно передано как воспоминание героя (8,287; 8,351).
Это трижды повторенное в романе видение имеет самое непосредственное отношение к пушкинскому "Рыцарю бедному", и в значительной степени им же расшифровывается. Их композиционная соположность выстроена автором: первый раз о швейцарском видении Мышкин рассказал при первой встрече с Епанчинымы, спустя полгода Аглая продекламировала пушкинскую "балладу" при втором их свидании. В дальнейшем же главные героини "рыцарского" сюжета - Аглая и Настасья Филипповна - будут находиться в самой непосредственней близости к двум воспоминаниям Мыппсина все о том же его видении.
Пушкинский текст - один из ключевых символов "Идиота" - в свою очередь связан с многовековой культурной традицией от античности и средневековья до романтизма.
Д. П. Якубович, исследовавший источники пушкинской "баллады", называл среди них средневековый жанр "легенд", посвященный Марии Деве (12-16 вв.), генетически восходящий к античности. По его наблюдениям, культ Мадонны сплетался в Средние века с мифом о влюбленной Венере. Содержание этого мифа таково. Знатный юноша, играя с друзьями в мяч, надевает обручальное кольцо на палец статуи Венеры, которая в знак согласия сгибает палец. Мистическое обручение с богиней совершилось. Юноша через какое-то время женится, но в брачную ночь богиня ложится между ним и его юной женой, напоминая тем самым о данном им когда-то обете. Раскаиваясь, юноша удаляется в пустыню, где и служит своей божественней избраннице. В Средние века эта легенда подверглась христианской обработке, образ Венеры заместился образом Богородицы, образ богатого юноши - образом рыцаря или монаха, в целом же, сюжет, за исключением некоторых частных деталей, сохранился неизменным.
Д. 11. Якубович приводит пример нередкого тогда синтеза рыцаря и монаха в одной из самых колоритных фигур средневековья - поэте де-Куанси (в монашестве - Готье): "Монах Готье питал к Деве Марии истинную любовь, которая его сжигала, пожирала всю его жизнь. Она была для него тем, чем бывает любовница для наиболее страстного из людей, он объединял в ней все прекрасное... обращал к ней ежедневно стихотворные страсти и любовные песни; он видел ее в снах, а порой даже наяву в самых сладостных формах" .
Проникновенное замечание о другом, более близком к пушкинской "легенде" источнике содержится в записях А. А. Ахматовой : "Мадонна и Рыцарь бедный - Ваккенродера" . Как указывают комментаторы этой записи Э. Г. Герштейн и В. Э. Вацуро, речь идет о "Видении Рафаэля", рассказанном В. Ваккенродером в книге "Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного" (1814).
Книга эта в 1826 году была переведена на русский язык С. Шевыревым, В. Титовым и Н. Мельгуновым и сыграла важную роль в истории русского романтизма. Пушкин, несомненно, ее знал, не исключается прямое знакомство с ней и Достоевского, косвенное же - бесспорно.
Согласно В. Ваккенродеру, в душе Рафаэля "от самой нежной юности всегда пламенело... особенно святое чувство к Матери Божьей", однажды ночью он был привлечен светлым видением Богоматери, "видение навеки врезалось в его душу и чувства", он перенес его на полотно4. Фотографическая копия этого "видения", как мы знаем, висела в кабинете Достоевского.
Благодаря Ваккенродеру и поведанному им "Видению Рафаэля", культ Богоматери возродился в романтической литературе. В начале XIX века возникает и весьма заметное для этого времени явление - "неорыцарская" литература. Окрашенный мистической эротикой сюжет о рыцаре (монахе), влюбленном в Деву Марию, вполне сформировался к началу XIX века. Кроме Пушкина, отдавшего ему дань, можно назвать Жуковского, Языкова, Голицына, В. Скотта, Ф. Шиллера, П. Мериме, Гортензию Богарнэ...
Современникам Пушкина и ему самому была знакома история с превращением образа Венеры в образ Богоматери. Шиллер в "Колеснице Венеры", говоря о "жгуче-темпераментных" нимфоманках и потакающих их вкусам художниках, пишет: Ты богоматерь, нет сомненья, Не та, которая красой Пленила только дух святой, Мила ты всем без исключенья; Не та, которая Христа Родила, не спросясь супруга. Есть бог другой земного круга Ему послушна красота, Он бог Парни, Тибулла, Мура, Им мучусь, им утешен я. Он весь в тебя - ты мать Амура, Ты богородица моя"6. О том же - в отрывке из ранней поэмы "Бова": "Иль святую богородицу / Вместе славить с Афродитою" (1,56). Вопрос, впервые заданный Тертуллианом: "Что общего у Афин с Иерусалимом?" - Пушкин в этих случаях решал в пользу "Афин". Католическая подмена "Пречистой" образом земной женщины очевидна и в сонете 1830 года "Мадонна", чей образ восходит не к иконе, а к западной религиозной живописи
Христианская эзотерика. "Неисследимый" сюжет "Идиота"
О заглавном герое "Идиота" его автор написал непостижимые по своей дерзновенности (дерзости?) слова: "Князь Христос" (9, 246, 249, 253). Единственность Мышкина по отношению ко всем другим героям Достоевского и его вторичностъ по отношению к прообразу заявлены твердо и недвусмысленно.
Сюжет о "Князе Христе" имеет свой внешний и внутренний планы. Его экзотерика выявлена в двух сквозных символах: визуальном - картине Г. Гольбейна "Мертвый Христос" - и вербальном - книге Э. Ренана "Жизнь Иисуса". Его внутренний план таит глубину христианской эзотерики, инициатичеекой символики. Одно неотторжимо от другого: нет "бездны" без "покрова".
К. В. Мочульский, отметивший в свое время замысел романа о "Князе Христе", считал, что Достоевский отказался от его воплощения, ибо святость -не литературная тема: "Чтоб создать образ святого, нужно самому быть святым. Святость - чудо; писатель не может быть чудотворцем, роман о Христе невозможен"1. В этом утверждении, по крайней мере, два вызывающих сомнение момента: 1) святость не только могла, но и была литературной темой от средневековой агиографии до современности. "Серафические" герои Достоевского тому подтверждение; 2) черновые материалы к "Идиоту" свидетельствуют: Достоевский не только не отказывался от своей идеи, но утверждался в ней. В письме А. Н. Майкову от 12 января 1868 года, после того, как первая часть "Идиота" была закончена, он сделал поразительное признание: "Но целое? Но герой? Потому что целое у меня выходит в виде героя. Так поставилось. Я обязан поставить образ. Разовьется ли он под пером?" (28:11, 241). "Синтез романа" (9, 239) сложился тогда, когда в сознании Достоевского утвердились две содержательные, структурообразующие образ Мышкина константы: "невинен" (21 марта 1868) и "Князь Христос" (9 апреля 1868). Сразу же выстроилась иерархическая двуплановость сюжета: внешний, содержание которого составляют бесконечные истории отверженных всех сословий, и другой, "главный сюжет", "неисследимый", не реализуемый в событиях, ради которого роман и создавался. Вот эта запись в ПМг от 8 апреля 1868 года: "NB. Князь только прикоснулся к их жизни. Но то, что бы он мог сделать и предпринять, то всё умерло с ним ... Но где только он ни прикоснулся -везде он оставил неисследимую черту. И потому бесконечность историй в романе (пшегаЬГей всех сословий) рядом с течением главного сюжета. (NB, NB, NB! Главный-то сюжет и надо обделать, создать.)" (9, 242).
Творческая история "Идиота" убеждает: замысел романа о "Князе Христе" постепенно прояснялся в сознании Достоевского, работая над второй частью, он зафиксировал его в черновиках. Речь идет не об изменении замысла или об отказе от него, а о словесном выражении художественной интуиции. Некоторая дистанцированность первой части романа от трех следующих ощущается, но разрыва между ними нет.
Но вот в чем К. В. Мочульский был проницателен, так это в сделанном им абсолютно точном утверждении: роман о Христе в рамках традиционной эстетики невозможен. Заметим в скобках, под традиционной разумеется позитивистская эстетика, отрывающая красоту от ее мистического истока, секуляризирующая ее. И в этом смысле "главный сюжет" "Идиота" выпадает из "эстетики", из привычного для новой литературы культурного "поля".
В 20-е годы Л. В. Пумпянский в своей почти забытой работе "Достоевский и античность" писал о теме Достоевского как всемирно-исторической, связывая ее с судьбами позднего Ренессанса. В "Идиоте" и главном его герое он обнаружил кризис "эстетической культуры": "Моральные основания гибели эстетики сосредоточены Достоевским в образе князя Мышкина ... Замечательно, что в лице князя Мышкина совершается выпадение в реальность, на первый взгляд подобное тому, какого ищут всею жизнью своею Раскольников или Карамазов"2. В образе Мышкина, по его мнению, отразился спор Достоевского с возникшим на почве Ренессанса художеством. Образ главного героя "Идиота", задуманный "в сфере и принципах нравственной реальности", в процессе его художественного осуществления был насильственно перенесен автором из "духовной родины" в "сферу культуры". Введя "нравственную реальность в круг эстетического вымысла", Достоевский, как полагал Л. В. Пумпянский, вошел в противоречие со всей русской литературой, с Пушкиным в том числе. Реальность же эта принадлежит уже не эстетическому творчеству, а "Творцу неба и земли" .
В отличие от К. В. Мочульского, уверенного в том, что Достоевский отказался от введения "нравственной реальности в круг эстетического вымысла", у Л. В. Пумпянского такой уверенности нет. Напротив, он убежден, что встреча "эстетического" и "внеэстетического" в "Идиоте" состоялась, он лишь считал, что Достоевский, ее "устроивший", был неправ. И действительно, если точкой отсчета эстетики Достоевского взять эстетику Ренессанса, то он, в самом деле, был неправ. Если же в эстетике Достоевского видеть неразрывно-иерархическую соподчиненность красоты Духу Святому, то неправ будет Л. В. Пумпянский4.
Восстановление падшего Слова, или о "филологичности" "Идиота"
"Идиот" - самый онтологический роман Достоевского , и - самый "филологический". Это роман о первоосновах бытия и бытийствующем Слове, необходимом условии его осуществления, самореализации. Слово - не знак, не этикетка, не результат "договора" между говорящими, оно не просто и не только называет предмет или явление, вне и без него нет бытия. Слово онтологично, язык и бытие тождественны.
Нетрудно заметить, что все эти рассуждения органично вписываются в ту философско-филологическую традицию, которая сближает язык с фундаментальной онтологией и воплощение которой осуществилось в трудах Кассирера, Хайдеггера, Ясперса, Гадамера, Бахтина, Лосева, о. Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова.
Имя героя и его сущность - один из частных (но принципиальных!) аспектов этой традиции. Может создаться впечатление, что позднейшие философско-лингвистические штудии как западно-европейского, так и отечественного происхождения мы "накладываем" на текст "Идиота", модернизируем и теоретизируем его, пренебрегаем его "целокупностью", извлекаем из него угодные для нашей концепции элементы. Пафос дальнейших рассуждений - в опровержении этого сомнения.
"Идиот" - единственный роман Достоевского (в паре с ним может быть назван только "Сон смешного человека"), в котором герои рассуждают о возможности образного воплощения бесконечного, о природе явления и его имени. Они могли бы согласиться с А. Ф. Лосевым, для которого "без слова и имени нет вообще разумного бытия, разумного проявления бытия, разумной встречи с бытием" . "В имени, - писал он, - средоточие всяких физиологических, психических, феноменологических, логических, диалектических, онтологических сфер" .
Слово и имя для героев "Идиота" - действенны и реальны, факт самой действительности. В обнажении эпифапичности слова - потаенно-латентный и прямо проявленный филологический пафос этого романа. В качестве предваряющего конкретный текстовый анализ - еще одно теоретико-методологическое замечание А. Ф. Лосева. Он исходит из существования абсолютного света и абсолютной тьмы (он мог бы сказать Бога и дьявола, если бы позволили тогдашние цензурные условия). "Определение сущего, по его мнению, начинается с той поры, как только свет смысла и тьма бессмыслия вступают во взаимоотношения, точнее, во взаимоопределения"4. Не артикулированный ученым, но подразумеваемый пафос евангельской онтологии будет уместно здесь обнажить: "В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово" (Ин. 1:1).
Поразительна филолого-онтологическая чуткость героев "Идиота". Существование для них начинается поименованием света и тьмы в их "взаимоопределении".
В кульминационной сцене дня рождения Мышкина - два смыслообразующих момента: исповедь Ипполита и апокалиптические пророчества Лебедева. И в том и в другом случае речь заходит о дьяволе, в первом - о его образе, во втором - о его имени. В "Моем необходимом объяснении" Ипполит композиционно сопрягает образ Христа, "великого и бесценного существа", и образ "темного, глухого и всесильного существа", принявшего вид тарантула. Только в таком "взаимоопределении" и проявляются эти образы, получая свое воплощение. Ипполита мучает неразрешимый вопрос: "Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то страшной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо" (8, 340); невоплощенность и невоплотимость дьявола - его онтологическая сущность. Его воплощение - всегда обман, подмена, его многоликость - симптом лукавства. Ипполит мистически чуткой стороной своей натуры все это осознает. Окончательному решению самоистребления способствовала "не логика, не логическое убеждение, а отвращение ... . Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула" (8, 341). Отвращение - это реальность, пережитая и перечувствованная всерьез, "глухое и всесильное существо" - исток и его причина. Тут не слова важны, а явленность, непосредственность переживания. В этот момент Ипполит соприкоснулся с тем, что не имеет образа и названия, что лишь принимает вид, лукаво и насмешливо маскируя свою сущность. Ипполит может отмахнуться от образа, приняв его за плод своего воображения, но отмахнуться от подлинности его переживания он уже не в силах. В сердце героя совершается черная месса, которую он до поры до времени может воспринимать как театральное действо. Но мир уже "у порога", "времена и сроки" приблизились. Встреча Ипполита с "огромным и отвратительным" тарантулом - для него реальность, в подлинности которой у него нет ни малейшего сомнения.
Мистическая реальность, но иного плана, почти так же входит в сознание Мышкина. В его воспоминании об эпилептическом припадке есть, как он сам считает, некая диалектическая путаница; логически прийти к тому результату, к которому он пришел, нельзя. За несколько мгновений до припадка он доходит до проблесков высшего самоощущения, то есть до "высшего бытия" (8, 188), он чувствует полноту, гармонию, "молитвенное слияние с высшим синтезом жизни". Эта минута стоит всей жизни. Мышкина смущает только одно: это чувство - результат его болезни или необыкновенно усилившегося самосознания, открывающего новую реальность? В верности последнего героя убеждает не логика, а "действительность ощущения", пережитого им. Отмахнуться от реальности этого ощущения он, как и Ипполит, не может.