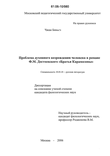Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Человек в художественной историософии Т. Манна
1.1. «Здесь и теперь» исторического человека
1. 2. Томас Будденброк - человек исторического «промежутка»
1. 3. История не-для-себя и крах исторического самосознания: Ганно Будденброк
Глава 2. «История» и «человек» в романистике М. Горького
2. 1. Историософские искания М. Горького
2. 2. Исторический человек и вырождение «истории»: «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина»
2. 3. Исторический человек: вырождение «Я» в «истерической самости»
Заключение
Список использованной литературы
- «Здесь и теперь» исторического человека
- История не-для-себя и крах исторического самосознания: Ганно Будденброк
- Историософские искания М. Горького
- Исторический человек и вырождение «истории»: «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина»
Введение к работе
Изучение наследия М. Горького всегда было одной из главных областей отечественного литературоведения. Горький и проблема человека, Горький и природа, Горький и революция, Горький и религия, Горький и власть -эти темы поочередно становились основными в горьковедческих исследованиях. А сами горьковеды, определяя доминанту миропонимания писателя и раскрывая причины возникновения коллизий в поведении ею литературных героев, говорили и продолжают говорить о горьковской «сложности», «многогранности», о большом количестве слагаемых в его «мировоззренческом комплексе».
В настоящее время повышенное внимание привлекает проблема соотношения горьковского творчества с философскими исканиями эпохи, активно обсуждавшаяся в литературоведческих работах рубежа веков и в последнее десятилетие двадцатого столетия вернувшаяся в сферу фундаментальной науки.1 Вместе с тем, и работы начала века, и современные исследования этого вопроса имеют достаточно фрагментарнійй характер, сводясь, как правило, к выявлению в художественной практике писателя «ницшеанскою лейтмотива» - образа «сильного человека», установлению взаимосвязей про Вопрос о связи творчества М. Горького с различными философскими чениями был довольно широко представлен в критических работах начала века: Неведомский М. Вместо предисловия //Лихтенберже А. Философия Ницше. СПб., 1901; Михайловский Н. О г. Максиме Горьком и его героях // Критические статьи о произведениях М. Горькою. Киев, 1901; Сухих С. Заблуждение и прозрение Максима Горькою. Н. Новюрод, 1922; Зайцев Б. Максим Горький (К юбилею) // Максим Горький: pro et contra. Личность и творчество Максима Горького о оценке русских мыслителей и исследователей 1890 - 1910 п. Антология. Санкт-Петерб) pi, 1997.
Не обошли вниманием ницшеанство Горького и р сские мыслители - Н. Бердяев, Е. Тр)бецкой, Г. Федотов (Бердяев Н. Собр. соч. 1. 2. Париж, 1985; Гр бецкой П. Философия Ницше. М., 1904; Федотов Г. Защита России / Федотов Г. Поли. собр. статей. Г. 4. Париж, 1988).
Среди современных исследований данного вопроса выделяются работы Э. Клюс, П. Басипского, В. Келдыша, С. Семеновой, Л. Колобаевой, В. Барахова (Клюс Э. Ницше в России. СПб.: Академический проспект, 1999; Басинский II К вопросу о «ницшеанстве» Горькою // Известия РАН. Серия литературы и языка. Том 52. № 4. 1993; Келдыш В. О системе ценностей в творчестве М. Горького // Известия РАН. Серия литературы и языка Том 52. № 4. 1993; Семенова С. Метафизика р сской литературы. Том 2. - М.: Издательский дом «ПоРої», 2004.; Колобаева Л. Горький и Ницше // Вопросы литерат ры. - 1990 - Октябрь; Барахов В. Лра-ма Максима Горькою (Истоки, котпизии, метаморфозы). - М ИМЛИ РАН, 2004). изведений Горького с концепцией «вырождения» М. Нордау, соотнесению художественно-философского поиска писателя с проповедью активного отношения человека к жизни II. Федорова. При этом такая важнейшая грань горьковских размышлений о человеке, как взаимодействие последнего с историей, остается в тени,
Исследователи приводят многочисленные примеры того, как мучительные раздумья персонажей Горькою (главным образом мысли о человеке - «Где же человек?») нередко заводят их в тупик, «ставят вместе с автором перед решением труднопостижимой дилеммы» курсив наш. - II. Б. .2 А тот факт, что сам автор зачастую связывает эти раздумья с конфликтом человека и истории, упускается из виду. В «Жизни Клима Самгина» Горький і оворит об «исторических цепях», надетых на современного человека, заставляющих его постоянно оглядываться на прошлое и мешающих ему обрести надлежащее место в настоящем, подробно описывает губительные для человека последствия «исторического образования», отождествляет историю с уничтожающей человека «колесницей Джаггернаута»; в «Фоме Гордееве» и «Деле Артамоновых» речь идет о взаимоотношениях человека и «дела», которое также обнаруживает непосредственную связь с историософскими опытами рубежа ХІХ-ХХ вв. А исследователи этого словно бы и не замечают.
Как не замечают они и того, что в годы, когда создавались наиболее крупные произведения писателя, дискуссия об истории, историческом процессе и роли человека в нем занимала умы значительной части российской интеллигенции. «В центре внимания современного общественного сознания находятся вопросы философии и в особенности - философии истории. Кто только не подходит к этим проблемам! Тут и ищущие «смысл истории» в метафизике общества и зовущие к Мережковскому и его «неохристианству» и «соборной общественности», тут и пишущие «мистику истории», ... тут и антропософы, углубляющие Штейнера и копирующие в реставрационных красках идеал «Государства» Платона, тут и ученые, вещающие о диктатуре Барахов, 13. Драма Максима Горькою. - С. 142. «аристократии мысли», тут и музыканты, зовущие уйти от цивилизации на стезю странничества, тут и церковники, выпускающие многотомные сочинения по апокалиптике истории, - все ищут сокровенного, тайного, внутреннего, первоначального».3 Эта характеристика, данная историко-философским исканиям первой четверти XX века, фактически воспроизводит картину художественно-философского, религиозного, политического, социальною поиска, созданную М. Горьким в его последнем романе. Тем не менее, даже очевидное присутствие в горьковских текстах прямых перекличек с историко-философскими трудами и в первую очередь с размышлениями «О пользе и вреде истории для жизни» Ф. Ницше не сделало их предметом осмысления.
Многочисленные реминисценции именно этого труда Ницше мы обнаруживаем не только у Горького. Т. Манн, для которого имя базельского философа всегда обладало «неодолимо притягательной» силой, в своем первом романе также рассматривает проблему человеческого «Я», его становления и взаимодействия с миром в русле противостояния истории и человека. И именно та роль, которую в художественных построениях М. Горького и Т. Манна сыграло воспринятое ими из «Несвоевременных размышлений» немецкого философа понимание истории, «исторического человека», «исторической болезни», обусловила, по нашему мнению, заметную взаимосвязь, существующую между творчеством двух писателей.
Схождения между «Будденброками» Т. Манна, с одной стороны, и «Делом Артамоновых» и «Жизнью Клима Самгина» М. Горького - с другой, активно обсуждались, начиная с момента появления горьковских романов.5 1949; Овчаренко А. М. Горький и литературные искания XX столетия. М.: Советский писатель, 1978. Но роднящая творчество русского и немецкого авторов оппозиция человек -история так и не стала объектом полноценного исследования. Кроме тою, даже в тех случаях, когда утверждается, что Горький в своих «Артамоновых» сознательно создал параллель «Будденброкам», вопрос о том, что именно является схождениями генетическими, а что - лишь типологическим сходством, до сих пор остается открытым. Так же, как и вопрос о «сродных элементах» «Будденброков» и «Жизни Клима Самгина».6 Между тем, подробное исследование совпадений и различий в подходах писателей к воплощению в своих произведениях антиномии «истории» и «человека» могло бы способствовать выявлению уникальных особенностей создаваемых ими художественных миров.
Таким образом, актуальность нашей работы определяется необходимостью выявления особенностей художественной историософии М. Горького, осмысления специфики отношений истории и человека в горьковских текстах, а также сопоставления характера таких отношений в художественном опыте М. Горькою и Т. Манна.
Парадоксально - произведения, схожим образом решающие комплекс проблем, связанных с положением человека в мире и его взаимодействием с действительностью, никак не соотносятся исследователями с историософскими учениями, поставившими в центре своего внимания вопрос о недолжном характере такого взаимодействия. Поэтому практически невозможно отразить целостную картину литературоведческого поиска, направленного на выявление взаимосвязей между «Будденброками», «Делом Артамоновых», «Жизнью Клима Самгина» и, например, сочинением «О пользе и вреде истории для жизни» Ф. Ницше.
Как правило, последний роман Горького сопоставляется с итоговым творением I. Манна - с «Доктором Фаустусом». Исследователи пишут об огромном числе «внутренних перекличек», существ)ющих между двумя произведениями (Овчаренко Л М. Горький и литературные искания XX столетия. - С. 400). Но поскольку сам Г. Манн называл свои первый роман «старшим братом» «Фаустуса», а Адриана Леверкюна - выросшим Ганно Будденброком, то можно предположить, что и в данном случае таких перекличек окажется не меньше. В результате проведенного анализа мы установили, что среди работ, затрагивающих избранную нами для исследования тему, четко выделяются три основные группы:
1) труды, в которых акцент делается на определение специфики горь-ковского восприятия философских исканий эпохи и прежде всего представлений о месте современного человека в окружающей действительности;
2) исследования собственно горьковского видения истории и исторического;
3) работы, рассматривающие сюжетное сходство романов М. Горького и Т. Манна, а также совпадения в миропонимании двух писателей.
«Здесь и теперь» исторического человека
Первым развернутым историософским опытом Т. Манна стал, по признанию самого писателя, его «юношеский» роман, представляющий собой «семейную хронику» совершенно особого рода.
Что же скрывается в «Будденброках» «под маской истории об упадке одного семейства»? «Нечто совершенно иное, не часто возникающее»1, - ответил на этот вопрос сам писатель, не конкретизируя, правда, в чем же это иное заключается. Суть инаковости «Будденброков» мы сможем понять только в том случае, если будем рассматривать первый роман Т. Манна не изолированно (как это зачастую происходит), а в контексте всего творчества писателя, которое, по его собственным словам, представляет собой «художественный эксперимент» по изображению человека, «ищущего самого себя, вопрошающего, откуда он пришел и куда идет, что он такое и в чем его предназначение»."
На первый взгляд, главные действующие лица «Будденброков» именно этими вопросами и задаются. Но дело в том, что же именно вкладывает Г Манн в понятие своего «ищущего и вопрошающего человека», юворя иначе - какого именно человека он показывает в лице своих героев. Ведь « ... каждый из них представляет собой нечто большее, нежели то, чем он кажется на первый взгляд: все они - гонцы и посланцы, представляющие духовные сферы, принципы и миры», - говорит писатель о сути своего подхода к персонажам.3 Оговоримся, правда, что это высказывание сам Т. Манн относит к героям своих позднейших романов - «Волшебной горы» и «Иосифа и ею братьев». Однако мы полагаем, что все сказанное в той же мере относится и к представителям «почтенного семейства» Будденброков в том смысле, что каждый из них является не только и не столько тем, кем представляется при первом знакомстве.
Он являлся не только самим собой подстрочник наш. -11. Б. .5 - говорит писатель о Томасе Будденброке, поясняя далее, что последний «был носителем славного купеческого имени». Но, как нам кажется, этим замечанием автор вряд ли в очередной раз напоминает о том, что в лице Тома Будденброка сограждане чтили не только его самого, но и его отца, и деда, и прадеда.
Учитывая особый интерес Т. Манна к «изначальным образцам, вневременным схемам, издревле заданным формулам, в которые укладывается сознающая себя жизнь» курсив наш - Н. Б. 6, мы рискнем предположить, что эта фраза скрывает в себе своего рода ключ, позволяющий дешифровать, пожалуй, главную «формулу» писателя: человек у Т. Манна практически никогда не является просто самим собой - автор «Будденброков», «Волшебной горы», «Иосифа и его братьев» всегда пишет не о людях, а о «человечестве». Говоря же о «Я» человека, писатель подразумевает, скорее, некое «совокупное Я». Эта позиция Т. Манна по отношению к «Я» является особенно значимой для анализа текста уже его первого романа, поскольку в центре внимания автора «Будденброков» оказывается, как выясняется, не просто человеческое, а «общечеловеческое Я».
Для Т. Манна особенно важно, что человеческая жизнь - это фактически соединение индивидуальных элементов и тех, что уже существуют в виде «готовой формулы», при этом именно «формулировочно безличное» и «традиционно-схематическое» приковывают к себе внимание писателя. «Заключайся вся реальность человеческой жизни в одном лишь однократно-настоящем, человек вообще не знал бы, как вести себя, пребывал бы в постоянной неуверенности, растерянности, беспомощности», - объясняет Т. Манн причину своего предпочтения. По его мнению, достоинство и уверенность человека в большой степени заключены именно в том, что вместе с ним «всплывает на свет Божий и становится настоящим нечто вневременное».8 То, что мы видим на поверхности, проходит. Но под этим вечным движением живет и осуществляется непреходящее, достойное особого внимания.
Мечтая создать нечто подобное тому «символическому образу» человечества и его истории, каковым является «Фауст» Гете, Т. Манн в своих статьях очерчивает схему становления общечеловеческої о «Я», ведущую от «простейших образцов» к сложности и запутанности.9 В соответствии с этой схемой развитие «Я» начинается тогда, когда значительная часть человеческой индивидуальности все еще находится в плену «образца». То, что называется духовностью и просвещенностью, - это всего лишь сознание того, что жизнь человека есть «претворение» в действительность той формулы, по которой осуществляли свое бытие поколения предков. 11а этом этане «Я» выделяется из окружающей среды примерно так, как «некоторые изваяния Родена, с трудом выбирающиеся, как бы пробуждающиеся из толщи камня».10 Затем утверждение собственного Я приводит человека к тому, что он начинает в себе самом видеть «главное лицо в драматической повести своей жизни». И впоследствии освобождающаяся человеческая индивидуальность становится «индивидуальностью художнического типа - восприимчивой и легкоранимой, но наделенной от рождения такими задатками к развитию и созреванию, каких доселе не знал род людской».
Сам Т. Манн последовательно показывает эти стадии «обособления и эмансипации» человеческой личности в тетралогии «Иосиф и ею братья», где каждый из героев становится олицетворением одного из этапов. Гак, первый этап связывается с образами Авраама и его сына Ицхака, вернее, с образами тысяч Авраамов и Ицхаков, поскольку «имена эти были наследственными» и люди еще не проводили «четкой грани между своей индивидуальностыо и индивидуальностью более ранних Авраамов»." Им было свойственно мировосприятие, видящее задачу индивидуума в том, чтобы «наполнять современностью, заново претворять в плоть готовые формы, мифическую схему, созданную отцами».
Это явление откровенной идентификации Т. Манн позже назовет вслед за 3. Фрейдом gelebte vita - «жизнь как повторение», «ступание в следах» - и противопоставит ему большую «внутреннюю работу», которую человек проделывает в процессе своего становления. Главная цель этой «переворачивающей все миропонимание» работы состоит в том, чтобы абстрагироваться от своей тварной сущности и взглянуть на себя как на «творца своих данностеи».
История не-для-себя и крах исторического самосознания: Ганно Будденброк
Гипертрофированная степень развития «исторического чувства», о которой писал Ф. Ницше и от которой страдали манновские герои, неспособные сознавать себя вне исторически преемственной, причинно-следственной связи, внезапно оборачивается своей полной противоположностью в случае Ганно Будденброка. Проведя финальную черту в заботливо обереіаемой дедом и отцом семейной летописи, он, по существу, завершает «самодержавную» историю - «драгоценный избыток знания и роскошь», «поучающие, но не оживляющие»86- в мире «Будденброков».
В отличие от отца, Ганно уже не раздирают противоречия: он не сознает, а только чувствует. В сущности, он и не способен знать что-либо, кроме музыки и поэзии, то есть кроме искусства, в пользу которої о Ницше требовал отказаться от истории. Наиболее отчетливо мысль о полной антиисторичности последнего Будденброка звучит при этом в одном из высказываний самого Ганно, к сожалению, не попавшем в сферу внимания переводчика романа:
Ich bin gar nichts und kann gar nichts Я - совсем ничто и совсем ничего не (Buddenbrooks. Bd. 2. S. 676). могу подстрочник наш. - Н. Б. Между тем, автор особенно много внимания уделяет описанию неспособности Ганно Будденброка к «регулярным занятиям», «почти высокомерной» неприязни к тому, чем его сверстники занимались с удовольствием, страха перед «зубрежкой исторических дат, грамматикой, учебниками» (Будденбро-ки, с. 720).
Полная невосприимчивость самого младшего из Будденброков ко всему, что было связано с историей самой по себе (с «чистой историей») и требовало «хоть немного способности приспособления» и усердия, позволяет провести еще одну параллель с текстом Ницше: масса притекающего так велика, чуждое и насильственное ... с такой силой устремляется на юношескую душу, что она может сохранить себя только при помощи преднамеренной тупости чувств. Там же, где в основе лежит более утонченное сознание, на сцену является также и другое ощущение - отвращение курсив наш- II. Б. (Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. С. 203).
Ганно начал читать. ... Он читал с измученным, брезгливым выражением лица, нарочито плохо и бессвязно, преднамеренно опуская многие слияния, ставил неправильные ударения, запинался ... .
Бледный, дрожащий, он закрыл глаза и погрузился в какое-то летаргическое состояние. Он был полон отвращения, к тому, что делал подстрочник наш. - Н. Б. (Buddenbrooks. Bd. 2. S. 694).
Как видим, реакцией Ганно на навязываемое ему «чуждое и насильственное» является как раз его полное безразличие к своему будущему и возможным последствиям такого отсутствия заинтересованности в собственной судьбе. І Іалицо здесь и то непреодолимое отвращение, которое «неисторический человек» должен испытывать к попыткам приобщить его к «мировому процес су»
Его глаза выражали отвращение, внутренний протест и страх (Buddenbrooks, S. 695). В нем снова поднималось тошнотворное ощущение (Buddenbrooks, S. 696). «Мне тошно, мне не надо такого везенья... Мне от него тошно» (Buddenbrooks, S. 697). Отвращение вновь овладело душой Ганно (Buddenbrooks, S. 699) подстрочник наш. - Н. Б. .
Интенсивность этого чувства неприятия позволяет сделать вывод, что оно является доминирующим среди прочих, составляющих ощущение жизни Ганно Будденброка. При этом он не принимает действительность не как человек, который хочет и может победить, а как человек, которому мир абсолютно чужд. Это ощущение, пожалуй, можно определить как «неслиянность, неукорененность в земле, болезненное отвращение к обыденности» :
«Он снова ощутил, как больно ранит красота ... , поглощая мужество и пригодность к обыденной жизни. ... над ним тяготело нечто большее, чем личные невзгоды: ноша, лежавшая у него на душе с самого начала» подстрочник наш. - Н. Б. (Buddenbrooks. Bd. 2. S. 668).
Т. Манн еще раз указывает на исключительность Ганно, на то, что он был иным с самого начала оп Anbeginn). У него не было «ни одной точки соприкосновения» с отцом, с товарищами по школе именно потому, что их и не могло быть: одной из важнейших характеристик создаваемой писателем системы является отсутствие связи между различными ее частями. Томас Буд-денброк не чувствовал себя настоящим «наследником» дела, которым занимался его отец; в свою очередь его сын всегда смотрел на отца с «отстраненным выражением». При этом он сознает и полное отсутствие у себя способностей, связанных с ролью в мире, и его причины.
«Непригодным» для жизни его сделала «красота», точнее говоря, красота музыки. Как это часто бывает в «Будденброках», объяснение происходящему с героями Т. Манна мы находим у Ницше:
«К подлинным знатокам музыки обращаю я свой вопрос: могут ли они представить себе человека, который был бы способен воспринять третий акт «Тристана и Изольды» без всякого пособия слова или образа ... и не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души ... ? Разве мог бы он ... вынести этот отзвук бесчисленных криков радости и боли, несущихся к нему из «необъятных пространств мировой ночи», и не устремиться при звуках этого пастушьего напева метафизики к своей изначальной родинеЪ курсив наш. -11. Б. 90
Ганно Будденброк знакомство с музыкой начал именно с «Тристана и Изольды», причем воспринимал он это произведение «в чистом виде» - без «пособия слова или образа» (в инструментальном исполнении).91 Да и саму встречу Ганно с музыкой Р. Вагнера сложно назвать «знакомством»: « ... он понимал, что это только подтверждает то, что всегда было ему открыто» (Буд-денброки, с. 546).
Историософские искания М. Горького
Одновременно с Т. Манном попытку создать более точную, «лучшую» «систему оценки взаимоотношений человека и мира» предпринял М. Горький. По словам самого писателя, такой системы «еще нет», и какова она будет - сам он «не знает».1 На первый взгляд, и в самом деле, миропонимание Горького практически невозможно свести к какой-либо определенной художественно-философской концепции. Физический и философский энергетизм В. Оствальда и Г. Ле Бона, «активизм» Н. Федорова, русский марксизм А. Луначарского, А. Богданова и В. Базарова, русское сектанство, теософские и гностические идеи, наконец, взгляды общепризнанных «философских учителей» писателя А. Шопенгауэра и Ф. Ницше - все это вошло в глубинное ядро горьковского творчества.2
Дело осложняется тем, что у Горького нет абсолютно положительного героя, «рупора идей», и во всем многоголосии его произведений (а особенно в диалогах и полилогах последнего романа) очень сложно отыскать взаимно непротиворечивые суждения. «Для меня лично - герой исследующий, ищущий несравненно ценнее героя, уже утверждающегося в вере своей», - признавал автор «Дела Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина».3 И если упустить из виду тот факт, что очень многое в горьковских текстах может быть объяснено разворачивающимся в них конфликтом между человеком и историей, особенно остро заявившим о себе на рубеже столетий, то поиск, о котором говорит писатель, грозит оказаться совершенно безнадежным делом.
В соответствии с историцистской позицией (сложившейся в основном в эпоху Просвещения, а затем через философию Канта, романтиков и близкой к ним немецкой исторической школы сохранившейся вплоть до 20 столетия) человек был не только тем, чем он сам себя делает, но всегда плодом определенной исторической традиции. Он формировался огромным числом всевозможных исторических влияний - нравственно-этических, теоретических, литературно-художественных, религиозных, которые он, как правило, не сознавал или сознавал в очень малой степени. А задача истории поэтому виделась в том, чтобы сделать явными все эти влияния, показать человечеству, что оно такое на самом деле.4
Начало XX века отмечено пересмотром прежних представлений об историческом процессе как о движении к идеалу но восходящей линии. Доказать несостоятельность прежнего понимания бытия, познания и человека - в этом заключалась одна из основных задач и новой философской, и новой художественной мысли. «Современный мир, - писал в конце 1915 г. русский философ Л. Лопатин, - переживает огромную историческую катастрофу, -настолько ужасную, настолько кровавую, настолько чреватую самыми неожиданными перспективами, что перед ней немеет мысль и кружится голова».5 Этот глубокий исторический перелом, равного которому Европа последних столетий еще не знала (страшным, вызвавшим потрясение в умах современников был уже характер ведения войны 1914 - 1918 гг.), конечно же, не мог не «закружить голову» и Горькому и не внести свои коррективы в горьковское видение человека, его места в исторических событиях и, конечно же, самой истории.
Однако первым, среди тех, кто подверг критике «историческую позицию», нацеленную на «оживление мертвого» и поиск «вечных» исторических ценностей, был Ф. Ницше, восставший против «могущественного тяготения» своего времени к истории.6 В своем рассуждении о «положительной и отрицательной ценности истории» (где, впрочем, речь шла главным образом о вреде, а не о пользе истории для жизни) философ потребовал «отказа от истории» (вернее, от современного способа служения ей и от современной ее оценки, поскольку последние ведут к «захирению и вырождению»). По Ницше, история - это смерть («род окончательного расчета с жизнью») для человека и человечества, так как вскормленный историей человек уже не отваживается действовать естественно, а история всегда «недооценивает нарождающееся новое и парализует волю к действию». «Историческое явление, всесторонне познанное ... , представляется для того, кто познал его мертвым: ибо он узнал в нем заблуждение, несправедливость, слепую страсть и вообще весь темный земной горизонт этого явления и вместе с тем научился видеть именно в этом его историческую силу», - заключает мыслитель.9
И именно потребность в трансформации и самой истории (ее несправедливости по отношению к человеку, слепоты - то есть ее «темного горизонта»), и ее восприятия человеком особенно отчетливо просматривается в текстах Горького, где полифония множащихся исторических изменений особенно явно оборачивается какофонией. Писателю был чужд тот «неисправимый оптимизм» по отношению к истории (не смущавшийся не бесспорным фактом «понятных движений в истории», ни даже гибелью государств, народов, культур), о котором в своей работе «Правда побежденных», создававшейся практически одновременно с «Жизнью Клима Самгина», говорил философ и историк культуры Г. Федотов.10 Для господствовавшей в течение нескольких столетий философии истории, писал Федотов, последняя всегда есть поступательное движение, прогресс: «Консервативный или революционный, но это всегда дифирамб действительности. Все злое, темное принимается в историческом процессе как жертва или цена. И эта цена никогда не кажется слишком дорогой, ибо покупаемое благо мыслится бесценным или бесконечным - в необозримой перспективе будущего».11
«Дифирамбы действительности», равно как и картина необозримого горизонта, раскрывающаяся перед тем, кто убежден в непрерывности исторического восхождения и оправданности жертв, в горьковских текстах отсутствуют. Ответ автора на поставленный в «Жизни Клима Самгина» вопрос -«Попы, лакеи, извозчики, дворники, все - служащие. Кому служат?» - курсив наш. - Н. Б. очевиден. Исследуя проблему цели человеческою существования в ракурсе противостояния личности и истории, Горький, как и Т. Манн, подчиняет «поэтические силы» определенным логическим формулам, наиболее адекватным кодом для истолкования которых представляется ницшевское понимание истории и исторического.
Особенно отчетливо близость взглядов Горького и Ницше на историю просматривается в итоговом романе русского писателя. Сравним:
Будучи солидарен с Ницше в деле обвинения истории в несчастьях человека, Горький представляет ее в качестве «чудовищной пасти», которая от начала времен «поглощает, одного за другим, лучших людей земли» (Жизнь Клима Самгина, ч. 2, с. 270). У Горького история - «пучина, где гибнет все, что живет» (Жизнь Клима Самгина, ч. 3, с. 287).
Уже в «Фоме Гордееве» звучит мысль о том, что в мире «есть еще что-то, кроме людей», и оно мешает им жить, подавляя их.12 В «Жизни Клима Самгина» это «что-то» получает вполне определенное имя и становится, по сути, самостоятельным действующим лицом: горьковская история «требует», «ждет», «посылает», «запрягает» ею; оценивает его действия и мысли как «полезные» или «вредные» для себя. А вполне ницшевская мысль о том, что современный человек обречен быть «жертвой, наконец - лошадью, которая должна тащить куда-то тяжкий воз истории», является одним из лейтмотивов последнего романа писателя (Жизнь Клима Самгина, ч. 2, с. 92).
Исторический человек и вырождение «истории»: «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина»
Важной частью горьковский размышлений об «истории» и «человеке» стала идея вырождения, которое, как полагал писатель, грозит обеим составляющим его историософской системы. Нельзя не обратить внимания на следующий достаточно показательный факт: если в центре внимания Т. Манна, как мы видели, находится алгоритм становления человеческого «Я» (его «возрождения»), то Горького больше занимает формула вырождения человека. По Горькому, сначала главную роль в жизни играют «люди крепкие и прямые, как железные рычаги», то затем их сменяют «несравненно более нервные и шаткие, ... чем ближе к нам, тем менее упорна энергия, ... тем скорее изнашивается нервная система ... и быстрее наступает утомление жизнью».44 И, как особо отмечает писатель, эта схема всегда работает одинаково: « ...вот приходит человек и начинает работать... и на это дело, как видно, тратит свои лучшие соки, и как отцу ему чего-то не хватает. Дальнейшая стадия - его сын работает уже по инерции, без той страсти, с которой работал его отец... В третьем поколении люди начинают вырождаться».
Здесь возникает достаточно прозрачная параллель с трудом М. Нордау, для которого одной из основных причин болезни вырождения и ее прогрес-сирования среди всех современных цивилизованных народов было «истощение жизненной силы» (искажение психического и физического развития) или «понижение жизнедеятельности» человека, вызванное чрезмерным «утомлением» :
В наше время все условия жизни подвержены перевороту, беспримерному в истории. Не было еще столетия, ... столь глубоко и деспотически вторгающегося в жизнь каждого отдельного человека. ... он по меньшей мере пассивно принимает участие в бесконечном ряде событий, совершающихся во всех пунктах земного шара ... . Член цивилизованного общества работает теперь от 5 до 25 раз больше, чем полвека назад. Этой страшной затрате сил не соответствует соразмерное возмещение ее (Нордау М., Вырождение, с. 45).
Жизнь становилась все сложнее и строже, техника, с каждым десятилетием, все ускоряла - и ускоряет, и будет ускорять - ее ход. От личности, которая хочет занимать командующую позицию, каждый новый деловой день и год требуют все большего напряжения сил. Еще в начале прошлого века ... условия производства и торговли не превышали единоличных сил. Но по мере роста техники, конкуренции ... - растет и несоответствие индивидуальных сил с запросами дела (Горький М., Разрушение личности, с. 41).
Как видим, в своих заключениях Горький совпадает с автором «Вырождения». Если Нордау пишет о том, что человечество не успевает приспосабливаться к изменяющимся условиям существования - «заменять прежнюю медленную походку современным стремительным шагом», поскольку предъявляемые ему требования слишком высоки, то и Горький видит причину «истощения», «физическою и психического уродства» и в целом несчастья и несостоятельности, «пассивности» современного человека в «бешеной работе нервов», вызванной чрезмерно интенсивной «исторической тренировкой».47
В сопоставленных нами высказываниях Нордау и Горького представлена, по сути, ницшевская картина той ситуации, в которой оказался современный человек:
При этом, как обнаруживается, сходство здесь не ограничивается общим представлением об особенностях сложившейся ситуации, но распространяется и на последовавшие выводы:
«Словно из неиссякаемого источника изливаются на человека все новые и новые потоки исторического знания, чуждое и лишенное связи надвигается на него ... ; память ... прилагает все усилия, чтобы достойным образом принять, разместить и почтить чужестранных гостей ... . Привычка к такому беспорядочному, бурному и воинственному хозяйничанью становится постепенно второй натурой, хотя уже с самого начала ясно, что эта вторая натура гораздо слабее, гораздо беспокойнее и во всех отношениях менее здоро-ва, чем первая курсив наш. - Н. Б. .
Ослабление человека, перерождение его первой «здоровой» природы во вторую - менее здоровую, обусловленное, по Ницше, «массой с излишком притекающего материала», то есть, по Горькому, усложнением жизни, а по Нордау, историческо-деспотическими особенностями столетия, находится, таким образом, в центре внимания всех трех авторов.
Как известно, М. Нордау отнюдь не был сторонником ницшевской философии. Для Нордау и сам Ницше, и его учение были порождением патологической деятельности «перегруженною», вырождающегося сознания, симптомом «болезни вырождения».50 Так, Нордау пишет: «безумие Ницше содержит в себе некоторые представления, ... близко подходящие к очень распространенным ныне воззрениям. «Индивидуализм» Ницше ... должен был привлечь к себе ... тех людей, которые инстинктивно чувствуют, что современное государство слишком глубоко и насильственно вторгается в права индивида и требует от него, ... , чтобы он жертвовал самостоятельностью суждения, чувством собственного достоинства и своими убеждениями. Но они ... не видят, что ... индивид, за полную свободу которого он вступается, - не сознающее и рассуждающее существо, а такое, которое слепо подчиняется своим инстинктам и во что бы то ни стало добивается удовлетворения своих дурных страстей» (Нордау М. Вырождение. С. 289).
Но и с точки зрения самого Ницше, все рассуждения Нордау были бы не чем иным, как все тем же историзированием, возвращением к «мертвой» традиции, попыткой (хотя и тщетной) окончательно подчинить интеллекту «жизненную силу инстинкта» (как утверждал Нордау, основываясь на «примерах из истории», «прогресс возможен только при интенсивности познавания, а оно вырабатывается сознанием и суждением, а не инстинктом»51), говоря иначе - прямым следствием постигшей человечество «исторической болезни».