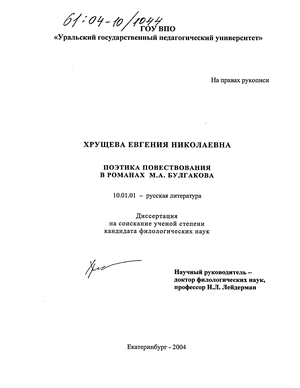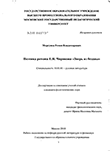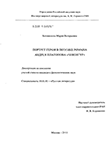Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. «Белая гвардия»: взаимодействие «расшатывающих» и «упорядочивающих» тенденций в романном повествовании 43
1.1. Проблемы изучения «Белой гвардии» в русском литературоведении ...43
1.2. Динамические процессы на повествовательном уровне 54
1.2.1. Субъективно окрашенное авторское повествование и взаимодействие его с речью персонажей. 54
1.2.2. Взаимодействие жанровой памяти хроники и экспрессионистского стиля: разрушенная хроникальность 65
1.3. Упорядочивание структуры романного повествования. 71
1.3.1. Закономерности перемещения пространственно-временной точки зрения повествователя как форма авторской оценки. 71
1.3.2. Склонность повествователя прозревать «мистическую» основу явлений и мирового порядка, и хаоса. 82.
1.3.3. Ценностная определенность хронотопа 90
Глава 2. «Театральный роман»: рождение романного повествования из разрушенной романтической стилистики. 105
2.1. Литературоведы о «Театральном романе» 105
2.2. Романтическая структура мира, воссозданная в «Театральном романе» 113
2.2.1. Максудов как романтический герой 113
2.2.2. Максудов как повествователь романтического романа. 116
2.2.2.1. Художественное пространство и время романа: модификация двоемирия и положения героя в мире. 118
2.2.2.2. «Удвоение реальности» мистическими коннотациями в повествовательной структуре 138
2.2.2.3. Стилистическое тяготение героя-повествователя к «старомодным» речевым формам 145
2.3. Разрушение романтической стилистики 152
2.3.1. Романтический язык, доведенный до штампа, и штампы советской эпохи: эклектика или диалог? 152
2.3.2. Максудов как автор: эволюция романного повествования 159
Глава 3. Три типа повествования в «Мастере и Маргарите»: калейдоскопичность и единство романа 168
3.1. Основные проблемы изучения «Мастера и Маргариты» 168
3.2. Карнавальная модель повествования в московских главах: маски повествователя. 186
3.2.1. Смена и сосуществование речевых масок 187
3.2.2. Механизм создания масок повествователя на основе вставных жанров. 199
3.2.2.1. Вставные внелитературные жанры: ироническая языковая панорама эпохи. 201
3.2.2.2. Вставные литературные жанры: «выворачивание наизнанку» жанровых канонов и стилевых приемов 206
3.2.3. Непрерывная смена повествователем точек зрения 226
3.3. Эволюция повествования в евангельских главах 232
3.4. Литературный «правдивый повествователь» в романтических главах 244
3.5. Способы создания единства повествовательной организации в романе 260
3.5.1. Отношения со- и противопоставления между тремя типами организации дискурса 261
3.5.2. Взаимосвязь и взаимодействие дискурсов. 268
3.5.3. Роль речи героев в создании повествовательного единства 272
3.5.311. Взаимодействие речи повествователя с речью персонажей 272
3.5.3.2. Взаимоуподобление речевых процессов на повествовательском и персонажном уровнях 278
Заключение. 291
Библиография 297
- Проблемы изучения «Белой гвардии» в русском литературоведении
- Динамические процессы на повествовательном уровне
- Литературоведы о «Театральном романе»
- Основные проблемы изучения «Мастера и Маргариты»
Введение к работе
Книги Булгакова, со времени публикации их в 1960-е годы и по наши дни, вызывают огромный интерес у читателей и литературоведов. Популярность Булгакова, любовь к нему читателей любого круга, постоянное цитирование его текстов - в общем, универсальность его творчества - во многом определяется тем, как написаны его произведения. Поэтому цель предстоящей работы - выяснить, как построено повествование, наполняющее романы Булгакова столь универсальным смыслом, понять специфику романного слова и эволюцию его в творчестве Булгакова.
Не только для читателей, главное, для самого Булгакова как автора повествовательный уровень прозы был невероятно важен. Булгаков постоянно создавал образ повествования, «рефлексирующего» о самом себе, своей структуре, демонстрирующего процесс своего создания. Недаром обо многих произведениях писателя (фельетонах и рассказах, «Записках на манжетах», неоконченной повести «Письма тайному другу», «Жизни господина де Мольера», особенно, разумеется, о «Театральном романе» и «Мастере и Маргарите») существует мнение, что в той или иной мере они написаны о процессе собственного написания или - шире - о возможностях бытования художественного слова вообще. «Спектр повествовательных форм в прозе Михаила Булгакова столь широк, что на материале его творчества можно было бы проанализировать значительную часть известных прозе нарративных типов»1. Творчество Булгакова - своего рода «демонстрационное поле» поэтики повествования XX века (или - экспериментальная модель, поскольку уже в первой трети века Булгаков опробовал многие повествовательные возможности, актуальные для более поздней прозы).
И, судя по особенному пристрастию самого автора и его читателей к повествовательной стороне, изучение романного повествования сулит боль-
1 Галимова Е.Ш. Поэтика повествования русской прозы XX века (1917-1985 гт.) Дисс. ... докт. филол. наук. Архангельск, 2000. С. 182.
шой эвристический эффект - для понимания законов неповторимого булга-ковского стиля (и, может быть, секрета читательской любви?), семантики, оформленной таким стилем, и, возможно, для уточнения представлений о развитии романного повествования (и вообще - романного жанра) в его творчестве - и в XX веке.
Постановка проблемы «поэтики повествования в романах» — кого бы то ни было, но особенно - Булгакова, как романиста XX века, использующего мощный пласт культурных и литературных традиций и в то же время экспериментирующего на этой базе, - требует последовательного подхода, теоретического и исторического.
Проблема романного повествования... На самом деле здесь три проблемы: романа, повествования и собственно романного повествования.
Проблемы изучения «Белой гвардии» в русском литературоведении
Интерес филологов к «Белой гвардии» сопоставим только со стремлением исследовать «Мастера и Маргариту». Изучение первого булгаковского романа идет особенно интенсивно в последнее десятилетие, хотя и раньше он не был обойден вниманием критиков и литературоведов. Такой интерес вызван, вероятно, парадоксальностью впечатлений от «Белой гвардии» — как при первом чтении, так и в процессе исследования. Уже первый роман Булгакова во-многих смыслах пограничен: очевидна его «классичность», традиционность, вызывающая, демонстративная — в контексте художественных экспериментов 20-х годов - связь с русской литературой XIX века; но как раз на фоне русской классики заметна и его необычайность - в традиционные жанры исторической и семейной хроники вмешивается какая-то оживленная, чуть ли не развязная авторская речь, входит субъективное, лирическое начало. То есть впечатляет сложность повествования «Белой гвардии» на фоне классического русского романа - и простота на фоне орнаментальной прозы современников. И концептуальная простота, поначалу казавшаяся очевидной (в самом деле: тема гражданской войны, уже ставшая к 1924 году традиционной, идея, выраженная ясно, часто в прямом авторском обращении, вплоть до морализаторства), оборачивается своей противоположностью: обнаруживаются несколько субъектов повествования, а значит, несколько взаимодействующих точек зрения, сталкиваются пространственно-временные ракурсы, эстетические оценки, да и если сравнить трактовки собственно-авторской оценки (той, что выражена будто бы прямо), то они окажутся довольно далекими друг от друга.
Изучение «Белой гвардии» происходит достаточно разнообразно, и чтобы продуктивно воспользоваться накопленным опытом, целесообразно выделить в обширной литературе тематические группы. Не говоря об исследовании творческой истории романа1, идейно-тематического уровня , остановимся на работах, посвященных внутренней форме романа.
1. Если начинать с самых частных проблем, то в поэтике «Белой гвардии» ученых интересует мотивная структура, отдельные детали, частные образы, формирующие мотив. Нередко это мотив конца света3, Апокалипсиса как меры и объяснения исторических событий4, образы-символы из мира природы (свет, звезды5, вьюга6), мира человеческих отношений (мотив предчувствия, маскарадности7), наконец, предметного мира8, который воплощает в романе личностную, лирическую стихию.
2. Также ученых интересует проблема жанра «Белой гвардии». Трактовки этого вопроса на редкость разнообразны: «В «Белой гвардии» ... совмещаются черты романа и эпопеи»9, «Белая гвардия» - это «сплав эпоса, лирики, драмы... «Белая гвардия» стала новейшим по своим жанровым формам романом, вобравшим в себя творческие возможности смежных искусств» ; даются и образные определения жанра: «хроника» , «мистерия-буфф»12, «антихождение»13, «эсхатологическая эпопея», впрочем, соединяющая в себе черты эпопеи и романа («гибкость повествовательной структуры, способной органично сочетать черты собственно-эпопейного и романного, хроникально-исторического и очеркового и других видов повествования») . Как видим, в основном даются «пограничные» определения жанра, базирующиеся на сочетании разнонаправленных жанровых (или родовых) тенденций.
3. Отличаются разноречивостью и определения творческого метода, воплощенного в «Белой гвардии», и - шире - принадлежности этого романа к какому-либо направлению 5, культурному слою.
Скажем, для Л.Яновской очевидно, что автор «Белой гвардии» - реалист16, но существует столько исследований «мифологической подкладки» «Белой гвардии», что приходится существенно оговаривать терминологию, и метод Булгакова, в том числе в «Белой гвардии», получает название «странного реализма», основанного на мифологизации происходящего, на разрушений границ между «внутренним» и «внешним» человеком и утверждении «подвижного, на грани странного» соотношения их17.
К тому же булгаковский роман соотносят со множеством традиций русской литературы, причем зачастую традиций, противоположных друг другу (как противоположны, скажем, «личностная» концепция истории Пушкина и «народная» Толстого). Нередко пишут о гоголевских реминисценциях, создающих мистическую атмосферу18, об ассоциациях с «Капитанской дочкой» (эпиграф и цветовая гамма, да-и тема «бунта» подсказывают эту связь), о намеренной, демонстративной ориентации Булгакова на «Войну и мир»19, о пессимистической философии истории, свойственной Салтыкову-Щедрину20, о «трех источниках «Белой гвардии» - Гоголе, Достоевском, Че-хове» . И вместе с тем постоянно встречается в булгаковедении утверждение, что «Белая гвардия» принадлежит, хотя бы отчасти, к стилевому направлению «орнаментальной прозы»22.
Своего рода концентратом этой линии изучения «Белой гвардии» стало исследование Н.Д. Гуткиной «Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия» и русская литературная традиция», где происходит синтез противоположных мнений о литературных связях романа: ««Белая гвардия» - последний классический роман русской литературы.
Динамические процессы на повествовательном уровне
Действительно, в «Белой гвардии» «основной повествовательный дискурс представляет собой субъективно окрашенное авторское повествование»49, но прежде чем разбираться в устройстве этого «основного дискурса», нужно сделать оговорку. В «Белой гвардии» очень небольшое место, но чрезвычайно большое значение придано «сказителю», голосу вечности («Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом...» (179)50). Появляется он крайне редко (в начале, в начале последней главы, в финале) и настолько отличается от повествователя основного текста (назовем его «современным»; хотя ему и свойственны исторические экскурсы, но - главное - он мыслит в рамках хода времени, а отнюдь не вечности), настолько иная у него и манера речи, и пространственно-временная точка зрения, и аксиология, что следует выделить эти фрагменты текста в особый тип речи. Этот голос задает координаты, в которых мыслится все происходящее: не как частный случай, а как часть мировой истории, оцененная с точки зрения вечности и с позиции вечных (здесь - христианских) ценностей. Но суть сюжета составляет — разрушение ценностей, и потому «сказитель» появляется столь редко: сейчас - не его время. И о нем сейчас речь не пойдет.
Но и «современный повествователь» (в дальнейшем - повествователь), взятый отдельно, также неоднороден. Речь его чрезвычайно динамична, и все исследователи, расходясь в частностях, отмечают, как видим, такие его постоянные характеристики, как разнообразие, субъективность, взаимодействие точек зрения внутри его речи, взаимодействие разных типов речи (возможно, разных жанровых и родовых начал), непрерывное взаимодействие с речью героев - в общем, расшатывание парадигмы монологического повествования.
Пожалуй, самое «наглядное» проявление речевой динамики — это склонность повествователя к взаимодействию с речью персонажей. Оно может происходить, например, в такой простой форме, как комментарий прямой речи: «— Слушайте, дети мои! — вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья всем стоящим под штыками»51 (274).
Повествователь может комментировать действие: «Фельдман вытащил бумажник... и вдруг затрясся, тут только вспомнил... Ах, боже мой, боже мой! Что ж он наделач! (восклицание, принадлежащее одновременно повествователю и Фельдману — Е.Х.) Что вы, Яков Григорьевич, вытащили?... О, горе Фельдмануї» (285-286) «Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны» (199). «Дело было вот в чем: прятать так прятать...» (242, комментарий действий Николки).
Повествователь может отвечать персонажу, замещая собой его собеседника: «- Идеально сделано, клянусь богом! — говорил Лариосик. Как не идеальної Вещь под руками и в то же время вне квартиры» (343). «Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко...» (185) «Елена... Елена... Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...» (195)
Повествователь может как бы заочно, не обращаясь непосредственно, вступать в диалог с персонажем. Например, с Тальбергом: «И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием» (197). Появляется и «заочный» иронический спор (с Николкой, давшим Лисовичу прозвище «Василиса»): «Усы вниз, пушистые - какая, к черту, Василиса! - это мужчина» (203).
Более тесная форма взаимодействия речи повествователя и персонажей - не комментарий, не диалог, а несобственно-прямая речь52.
Особенно много интонаций, слов, заимствованных повествователем из речи младшего Турбина, в первой главке романа и начале второй, то есть там, где центром повествования являются дом, уют, мирная дореволюционная жизнь семьи, теплые человеческие взаимоотношения. Несобственно-прямую речь Николки можно выделить по пронзительно-лирической и вместе с тем наивной интонации, «детской» тематике и лексике, и, кроме того, его зоны часто помечены любимым его междометием «эх... эх...»::
«Отец Александр блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.
За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?» (180)
«Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не всегэти мрачные обстоятельства.. Эх... эх...
На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем, как у Мому-са»(187).
Литературоведы о «Театральном романе»
«Театральный роман» в ряду большой прозы Булгакова выглядит своего рода «маргинальным» текстом: безусловное читательское признание1 сочетается с достаточно несчастливой судьбой в критике и литературоведении. Несколько факторов определило слабую, в сравнении с «Белой гвардией» и «Мастером и Маргаритой», изученность «Театрального романа».
1. При первой публикации в «Новом мире» (1966 год, №8) Константин Симонов, председатель комиссии по литературному наследству Булгакова, по цензурным соображениям изменил соотношение заголовка и подзаголовка: вместо «Записки покойника (Театральный роман)» текст стал называться «Театральный роман (Записки покойника)». Это существенно изменило пафос произведения: сместилось соотношение трагически серьезного и игрового начал. Тем не менее и по сей день текст печатается традиционно под заглавием «Театральный роман» и лишь очень редко (в частности, в академическом пятитомнике) — «Записки покойника», в исследовательских работах также преобладает первое именование (второе название употребляется, впрочем, как равноправное, в зависимости от контекста). Такая ситуация объясняется тем, что и в авторской рукописи варьировалось соотношение двух за-главий (хотя последний вариант был «Записки покойника») . Увеличение удельного веса игрового, «театрального» начала, а также смысла «роман с театром» (то есть с конкретным, Независимым театром, прообразом которого послужил МХАТ) - все это повлекло за собой специфический крен в литературоведении, который выправляется лишь в последнее время.
2. А именно - чуть ли не исключительное внимание уделялось автобиографической основе и проблеме прототипов. Роман воспринимался как некое производное от мхатовских капустников, как пародия (или сатира) на театральные нравы3, как «вымышленное художественное повествование», строящееся, тем не менее, по законам мемуаров, так что, «скажем, К.С. Станиславский - не прототип образа Ивана Васильевича, а просто Иван Васильевич - это художественный образ великого режиссера Станиславского. И это относится к большинству персонажей этого странного произведения»4. В зарубежном литературоведении роман воспринят и вовсе как «шутка, «роман с ключом» о литературном и театральном московском мире 20-30-х годов», насыщенный «свежими образами и комическими деталями», роман, для которого характерна «обычная булгаковская комбинация элегантности и неожиданной приземленности», роман, не поддающийся художественной оценке вообще — по причине своей незаконченности, но явно не ставший бы шедевром в случае завершенности (мнение Э. Проффер); или еще резче — как «комбинация плохо склеенных комических эпизодов, далеких от реальной действительности и не имеющих определенной цели» (Э.К. Райт)5.
3. Вдобавок впечатление шуточности, «несерьезности» текста поддерживалось и тем, как писался роман: легко, сразу на «беловик», который тут же читался жене и гостям6. И, кроме того, время создания романа (1936 — начало 193 7 г.) также влияло на постановку проблем литературоведами: в это время уже было написано многое из «Мастера и Маргариты», работа над текстом которого была остановлена автором ради «Театрального романа», а в 1937 году, напротив, брошены неоконченными «Записки покойника», чтобы завершить «последний закатный роман». И потому зачастую незаконченный текст воспринимают «не всерьез» - как нечто не вполне самостоятельное, «достойного предшественника «Мастера и Маргариты» (Э.К. Райт), своего рода «поле экспериментов» во время работы над последним романом, автопародию, и, бывает, изучают с «прикладной» целью — лучше понять «Мастер и Маргариту»7.
4. Формальная незаконченность «Театрального романа» мешала воспринимать его как художественно полноценное произведение -и как объект литературоведческого исследования. Обрыв на полуслове этого произведения повредил ему в восприятии ученых в большей степени, чем незавершен о ность «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты» .Хотя, несомненно, были попытки противопоставить формальную незаконченность - и семантическую целостность, проявленность художественной концепции мира9, но сама необходимость доказывать «абсолютную эстетическую полноценность «Театрального романа» как эстетического объекта»10 слишком показательна.
По всей видимости, вышеуказанные причины сыграли свою роль в том, что до сих пор существует не так много исследований «Театрального романа» как романа - повествовательного и семантического единства. В серьезных монографиях он зачастую фигурирует «наряду» с другими текстами, обращаясь к нему, ученые (Е.Галимова, В.Химич, ЕЛблоков - в указ. соч.) лишь подтверждают свою, уже сложившуюся, концепцию булгаковского творчества.
Основные проблемы изучения «Мастера и Маргариты»
Наверное, три четверти всех критических и научных работ о Булгакове посвящены «Мастеру и Маргарите». При том, что он написал еще два романа, шесть повестей, массу фельетонов, рассказов и пьес, и все эти вещи также имеют несомненный успех у читателей и критиков!
Впрочем, наверное, около половины этих работ - не литературоведение в чистом виде (или - вообще не литературоведение1). Помимо эссеистически-личностных работ, популярны следующие проблемы: «тайнописи» и демонологии2, жизненных реалий3 и прототипов4 (и вообще расшифровки всего «зашифрованного»), топографии5. Очень много авторов (в том числе западных) пишут в связи с «Мастером» на религиозные темы6, выражая свое мнение по поводу булгаковской трактовки Евангелия.
Круг собственно-литературоведческих проблем чрезвычайно обширен. Кажется, нельзя назвать ни одного понятия филологии, которое не было бы проблематизировано учеными в романе. Основные вопросы - это: что читать? С чем читать? Как читать? И — как это написано? (Вопросы текстологии, классификации, истолкования (концепции) и поэтики.)
1. Текстология.
Проблемой является сам текст: считать ли каноническим текстом тот, что завершен при жизни Булгакова, или дополненный последующей правкой Е.С. Булгаковой по его указаниям7? И, кроме того, проводятся текстологические исследования - сопоставление окончательной редакции с более ранними и выявление творческой эволюции писателя8.
2. «Классификация»
Своеобразие «Мастера и Маргариты» не дает ученым покоя. В связи с этим существует очень большая; группа исследований, где на основе разно образного анализа художественной формы и философской концепции романа ему пытаются найти определенное место в истории и теории литературы.
Исследуют «источники» романа: литературные и внелитературные - или соотносят его с литературным контекстом.
Впрочем, с современным ему литературным процессом «Мастера» сопоставляют не так уж часто, разве что в последнее время9.
Гораздо чаще пишут об источниках булгаковского романа в литературе прошлого (в основном европейской, реже русской10, в основном «серьезной», но, бывает, и «бульварной» ) и в разнообразных культурных мифах и канонах, особенно часто сопоставляя, разумеется, с «Фаустом» Гете, с «Божественной комедией» Данте13, с религиозной философией манихейцев, богомилов и т. п. (то есть теми теориями, где в основе мира лежит дуализм, неразделимая взаимонеобходимость Добра и Зла). Основной общий вывод всех сопоставительных исследований: с источниками Булгаков обращается весьма вольно, и в художественном, и в философском плане, он полемизирует с большинством своих «предшественников», релятивизирует их концепции, осмысляет как объекты эстетической игры14; о «серьезном» же осмыслении «источников» пишут те авторы, которые относятся к Булгакову скорее как к философу, чем как к автору художественных текстов
Своего рода итог этой теме подводит статья М.А. Бологовой , в которой создано представление о «сверхигровом» «жонглировании» образами из любой «уже бывшей» культуры. Она исследует претворение не просто - традиций, но - клише литературы и фольклора (жанров, образов, приемов) и их трансформацию не только «автором», но и самими героями. Взаимодействие в их жизни (и речи) канонов волшебной и литературной сказки, пословиц и поговорок, романтических стереотипов «в итоге создает повествование, «маскирующееся под знакомые образы, но при более пристальном взгляде обнаруживающее... затемненность не только смысла, но и путей создания этого смысла. Внимание читателя постоянно переключается собственно с содержания текста, и даже с его поэтики, на элементы, несущие метапоэтиче-скую функцию...» (С. 168)
В последнее время акцент в проблеме «источников» и «традиций» смещается к исследованию интертекстуалъиости11. Актуальность такого рода исследований представляется несомненной, ибо даже «невооруженным глазом» можно заметить, что, во-первых, все образы основных персонажей (особенно демонических) сплошь построены на пересечении литературных (и - вообще культурных) ассоциаций, а образ повествователя и его стиль нередко отсылает сразу ко многим литературным образцам18.
Увлечение интертекстуальностью приводит к крайним заявлениям о «компилятивной» природе булгаковского образа, о «Мастере и Маргарите» как палимпсесте, бриколаже19, о подмене жизни литературой20.
Но и актуальность этой проблемы в итоге ставится под сомнение: Е.А. Яблоков заявляет, что хотя «как писатель XX века Булгаков создавал произведения, отличающиеся высочайшим уровнем интертекстуальности», но ««объективная» логика фабульных событий во многом противоречит их осмыслению в рамках культурной традиции.