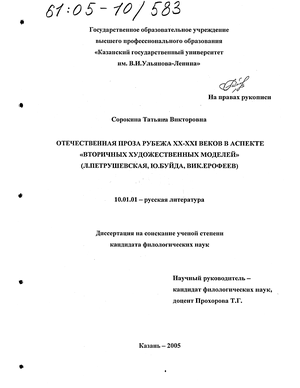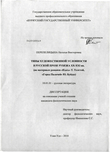Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Концепция героя как смысловое ядро типа художественности (на материале прозы Л.Петрушевской, Ю.Буйды, Вик.Ерофеева) 11
1.1. Значение категории исключительного в создании образов героев 13
1.2. Инфраличное и ультраличное как ценностные пределы личности героев прозы Л.Петрушевской, Ю.Буйды, Вик.Ерофеева 34
ГЛАВА 2. Особенности проявления карнавализации в творчестве Л.Петрушевской, Ю.Буйды, Вик.Ерофеева 53
2.1. Карнавалыюсть и гротесковый мир новеллистики Ю.Буйды 55
2.2. Карнавалыюсть и жанр мешшпеи в прозе Л.Петрушевской 75
2.3. Карнавальная форма и жанрово-стилевые особенности романа Вик.Ерофеева «Русская красавица» .' 89
ГЛАВА 3. Сказочность как способ пересоздания действительности в произведениях Л.Петрушевской, Ю.Буйды, В.Ерофеева 97
3.1. Реконструкция «памяти» жанра сказки в «реальной» прозе Л.Петрушевской 100
3.2. Сказочная «память детства» в творчестве Ю.В.Буйды 121
3.3. Сказочность как аспект литературной игры в романе Вик.Ерофеева «Русская красавица» 136
Заключение 144
Список использованной литературы 150
- Значение категории исключительного в создании образов героев
- Инфраличное и ультраличное как ценностные пределы личности героев прозы Л.Петрушевской, Ю.Буйды, Вик.Ерофеева
- Карнавалыюсть и гротесковый мир новеллистики Ю.Буйды
- Реконструкция «памяти» жанра сказки в «реальной» прозе Л.Петрушевской
Введение к работе
Литературный процесс последних десятилетий 20 века -необыкновенно сложное и неоднородное явление. Своеобразие литературной ситуации конца столетия во многом обусловлено социокультурными факторами. Переломный, кризисный характер рубежа веков, атмосфера глобальной катастрофичности, утрата ценностных ориентиров, распад целостной картины мира - вот наиболее значимые характеристики данного периода. Разумеется, они оказывают свое влияние и на литературу: кардинально перестраивается концепция героя; идет активное разрушение традиционных жанровых канонов; размываются границы художественных стилей; наблюдается тенденция к их сближению, взаимопроникновению. Сам процесс творчества зачастую превращается в экспериментирование, моделирование, охватывающее все структурные уровни произведения, то есть меняется характер литературы.
За последние десятилетия в литературоведении были предприняты неоднократные попытки как-то классифицировать имеющееся многообразие художественных направлений, течений, групп. Достаточно назвать хотя бы имена таких исследователей, как И.С.Скоропанова, Г.Л.Нефагина, Н.Л.Лейдерман, М.Н.Липовецкий, М.Н.Эпштейн и многие другие. Однако, как выясняется, дать четкую систематизацию картины развития современной литературы очень сложно, вряд ли работу в этом направлении можно считать завершенной. Следует учитывать, что в постмодернистской ситуации само понятие границы размывается. В связи с этим неудивительно, что творчество целого ряда современных писателей определяется критикой совершенно по-разному. При этом амплитуда оценок одних и тех же произведений порою колеблется от критического реализма до постмодернизма. Исследователи изобретают новые термины, видимо, чувствуя недостаточность уже существующих, исторически сложившихся (сверхреализм, метареализм, неосентиментализм и т.п.).
Приведем весьма показательную цитату из статьи Т.Т.Давыдовой «Сумерки реализма (о прозе Л.Петрушевской)»: «Драматургия и проза Петрушевской производит впечатление реалистической, но какой-то сумеречной. Еще одно движение, и начнется нечто иное, что именно, пока неясно, будущее покажет» [Давыдова 2002: 32].
Мы полагаем, что нужно искать какие-то новые подходы и принципы литературоведческого анализа, учитывающие специфичность переживаемого литературой момента. На наш взгляд, наиболее оптимальный путь исследования — обращение к максимально широким, фундаментальным категориям, позволяющим не только разграничить разнородные явления, но и увидеть связь между ними, выявить сходство в абсолютно полярных на первый взгляд художественных моделях.
Наличие таких типологически сходных черт в произведениях новейшей литературы очевидно: демонстративная оторванность от реальности, усиление условности, стилевая декоративность, разнообразные формы литературной игры, объединяющей автора, героя и читателя, тотальная интертекстуальность. Реальные предметы и явления в художественном тексте утрачивают свои обычные значения и становятся элементами языка, с помощью которых воссоздается мир значений. То есть, можно с полным основанием говорить о том, что доминантной становится семиотическая тенденция.
На наш взгляд, процессы, происходящие на данном этапе социокультурной эволюции, дают возможность рассмотрения произведений современных авторов в аспекте дихотомии «первичных» и «вторичных» художественных моделей. Напомним, что эта терминология была предложена и научно обоснована в работе Д.С.Лихачева «Развитие русской литературы X - XVII веков. Эпохи и стили» [Лихачев 1973]. Все «великие стили» - романский, готику, ренессанс, барокко, классицизм, романтизм, реализм - ученый подразделяет на «первичные» и «вторичные», выдвигая концепцию асимметричного развития искусства.
Исследователь отмечает, что «ни один из великих стилей не определяет полностью культурное лицо эпохи и страны. Развитие стилей асимметрично (...) каждый стиль постепенно изменяется от простого к сложному, однако от сложного к простому он возвращается в результате скачка» [Лихачев 1973: 79]. Это асимметричное движение сравнивается с амплитудой маятниковых колебаний, но не равномерных, поскольку «взмах в одну сторону быстр, отчетлив" силен, а взмах в другую сторону замедляется, погружается в неопределенность, силовые линии дробятся» [Лихачев 1973: 79]. Рождение «вторичного» стиля происходит в результате усложнения «первичного» новым образованием, противоположным по своему характеру. Как отмечается в работе Д.С.Лихачева, «каждому стилю первого ряда соответствует свой поздний «эллинистический» период, при котором создается стиль второго ряда» [Лихачев 1973: 79].
Идеи Д.С.Лихачева получили свое дальнейшее развитие в трудах Ю.М.Лотмана и тартуской семиотической школы. Так, в работе «Асимметрия и диалог» Ю.М.Лотман указывает на то, что «обычное, «нормальное» сознание представляет собой компромисс между противонаправленными тенденциями составляющих его однолинейных «сознаний». Можно предположить, что и наблюдаемое в различных сферах культуры периодическое «качание» между крайними структурными формами и их компромиссным выравниванием вокруг усредненной формы имеет ту же природу» [Лотман 1983: 278]. Ученый также говорит о ритмичности смены структурных форм в искусстве и идеологии. Согласно концепции маятника, в искусстве происходит «качание стилей» между двумя архетипами: классическим и барочно-романтическим.
Однако наиболее детально данный вопрос изучен в монографии И.П.Смирнова «Мегаистория. К исторической типологии культуры». Исследователь видит суть дихотомии, в том, что «все «вторичные» художественные системы («стили») отождествляют фактическую
реальность с семантическим универсумом, то есть сообщают ей черты текста, членят ее на план выражения и план содержания, на наблюдаемую и умопостигаемую области, тогда как все «первичные» художественные системы, наоборот, понимают мир смыслов как продолжение фактической действительности, сливают воедино изображение с изображаемым, придают знакам референциальный статус» [Смирнов 2000: 22].
В работе также оговаривается возможность сосуществования двух инвариантных типов сознания, «один из которых отождествляет знаки с референтами, а другой - референты со знаками»; выделенные типы поочередно проявляются в «варьирующихся диахронических системах» [Смирнов 2000: 20].
Проблема дихотомии «первичных» и «вторичных» культурных моделей в какой-то степени затрагивалась и в работах А.В.Михайлова «Обратный перевод» [Михайлов 2000], М.Н.Липовецкого «Русский постмодернизм» [Липовецкий 1997]. В них как раз и были сделаны определенные попытки рассмотреть проблему дихотомии на конкретном историко-литературном материале, но в одном случае, у А.В.Михайлова, предметом исследования являлась зарубежная литература, а М.Липовецкий рассматривает лишь одну из разновидностей «вторичной» модели - постмодернизм. В этом плане интересна также статья И.П.Смирнова «Барокко и опыт поэтической культуры начала 20 века» [Барокко в славянских культурах 1982: 271-284], где ученый обращается к эпохе серебряного века.
Итак, как мы убедились, проблема дихотомии «первичных» и «вторичных» художественных систем изучается в основном в теоретическом плане, ее историко-литературный аспект нельзя считать всесторонне разработанным. В первую очередь это относится к современному литературному процессу. Данное обстоятельство побудило нас исследовать творчество современных отечественных писателей в аспекте «вторичных» художественных моделей. Этот подход и определяет,
как нам представляется, актуальность и новизну нашего диссертационного исследования.
Мы исходим из того, что развитие литературы на современном этапе идет не поступательно, а как бы «вглубь», постепенно вскрывая и возвращая к жизни ранее накопленные слои, порождая множественные «вторичные» модели. В результате открытые «первичным» стилем и художественно освоенные явления действительности помещаются в культурный контекст уже известных «вторичных» художественных моделей, которые становятся «знаком», средством интерпретации эстетической информации, сообщенной «первичным» стилем. В подтверждение сказанному приведем суждение Д.С.Лихачева о том, что «... история культуры есть не только история изменений, но и история накопления ценностей, остающихся живыми и действенными элементами культуры в последующем развитии» [Лихачев 1973: 5]. Сходные мысли высказываются и некоторыми современными исследователям: И.П.Смирновым [Смирнов 1979], Л.А.Софроновой [Софронова 1989], Ю.Б.Виппером [Виппер 1990]. Показательно, что в новейшем учебном пособии Н.Л.Лейдермана и М.Н.Липовецкого «Современная русская литература: 1950-1990-е годы» высказывается идея о некоторых аналогиях между сегодняшней социокультурной ситуацией и эпохой барокко [Лейдерман, Липовецкий 2003]. Возможность проведения подобных параллелей обусловлена особым переходным характером рубежа веков, хотя, как отмечают исследователи, кризис, переживаемый сегодня, более острый, глобальный, охватывающий все сферы общественного сознания.
Мы разделяем приведенную точку зрения Н.Л.Лейдермана и
*
М.Н.Липовецкого, полагаем, что барочные элементы в современной культуре очевидны. В первую очередь необходимо отметить вычурный, декоративный, искусственно усложненный характер стиля произведений; тягу авторов к эмблемам и символам; стремление осмыслить явления окружающей действительности как знаки. Тем не менее, хотелось бы
подчеркнуть, что вряд ли стоит искать в современной литературной ситуации черты типологической близости с какой-то одной художественной системой. Логичнее, на наш взгляд, говорить о «вторичных» моделях в целом, подразумевая и культуру барокко, и романтизм, и другие образования, в которых реалистическое жизнеподобие вытесняется вымыслом, фантазией. Это связано с тем, что реализм, который, по словам Д.С.Лихачева, является предельной стадией в поступательном развитии литературы, «венчает собой движение великих стилей», не может породить единой вторичной модели.
Материалом исследования в нашей диссертационной работе являются рассказы Л.Петрушевской, вошедшие в сборники «Гимн семье» [2001], «Найди меня, сон» [2001], «Где я была» [2002]; книга рассказов Ю.Буйды «Прусская невеста» [1999] и роман Вик.Ерофеева «Русская красавица» [1980-1982].
Выбор имен писателей обусловлен несколькими обстоятельствами: во-первых, они принадлежат к числу наиболее известных, ключевых фигур современного литературного процесса. Во-вторых, каждый из них представляет различные его направления,, следовательно анализ произведений этих авторов позволит увидеть многообразие новейшей литературы. В-третьих, в их творчестве представлены яркие примеры различных форм литературной игры, что также важно при изучении вторичных культурных моделей.
Итак, цель данного диссертационного исследования заключается в изучении прозы Л.Петрушевской, Ю.Буйды, Вик.Ерофеева в аспекте дихотомии «первичных» и «вторичных» художественных моделей.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
исследовать своеобразие художественного решения концепции личности в прозе указанных авторов;
выявить особенности карнавального мироощущения в их произведениях;
3. рассмотреть на примере творчества Л.Петрушевской, Ю.Буйды и Вик.Ерофеева сказочность как способ освоения и моделирования действительности во «вторичных» культурных моделях;
Сформулированные задачи определили - и композицию нашего диссертационного исследования. Оно состоит из трех глав, в каждой из которых рассмотрен обозначенный в задачах аспект исследования.
Теоретической и методологической базой нашей диссертационной работы являются труды Д.С.Лихачева, М.М.Бахтина, Ю.М.Лотмана, В.И.Тюпы, Ю.Манна, И.П.Смирнова, В.Я.Проппа, Е.М.Мелетинского, Н.Л.Лейдермана, М.Н.Липовецкого, , М.Н.Эпштейна и других исследователей.
При написании данной работы мы обращались по преимуществу к сравнительно-типологическому методу исследования, а также использовали элементы интертекстуального анализа.
Основные положения и выводы были апробированы автором на ежегодных конференциях аспирантов и молодых ученых ( апрель 2001; февраль 2002; апрель 2003), итоговой научной конференции преподавателей и аспирантов в Казанском государственном университете (февраль 2004), на международной межвузовской научно-практической конференции в КГПУ (май 2003), на научной конференции молодых
ученых в Саратовском государственном университете (октябрь 2001), на
>
межвузовской научно-практической конференции в Саратовском государственном педагогическом университете им. Н.Г.Чернышевского (октябрь 2002), на Всероссийской научно-практической конференции в Пермском государственном педагогическом университете (февраль 2003). Результаты исследования отражены в следующих публикациях: 1. К вопросу о чеховских традициях в прозе Л.Петрушевской // Русская и сопоставительная филология: взгляд молодых: Сборник статей молодых ученых. - Казань: Изд-во «ДАС», 2001. - С.90-98.
2. Гофмановские реминисценции в «кукольном романе» Л.Петрушевской «Маленькая волшебница» / ПрохороваТ.Г., СорокинаТ.В. // Поэтическое перешагивание границ (Юбилейный сборник к 65-летию Почетного доктора Казанского университета Герхарда Гиземанна). — Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2002. - С. 139-147.
Поэтика рассказов Л.Петрушевской // Междисциплинарные связи при изучении литературы. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. - С.370-374.
Своеобразие концепции личности в прозе Ю.Буйды/ТРусская и сопоставительная филология: взгляд молодых: Сборник статей молодых ученых. - Казань: Изд-во Казан, гос. ун.-та 2003. - С. 193-198.
5. Ценностные пределы личного бытия героев прозы
Ю.Буйды//Современная русская литература: Проблемы изучения и
преподавания: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. - Пермь, 2003. - С. 101-107.
6. Миф в творчестве Ю.Буйды//Литература: миф и реальность. —
Казань: Изд-во Казан, гос. ун-та, 2004. - С. 117-120.
7. Карнавальный смех в новеллистике Ю.Буйды/УФормы комического
в русской литературе 20 века: Сборник статей. - Казань: Изд-во Казан, гос.
ун-та, 2004. - С.57-67.
Мы полагаем, что результаты данного диссертационного исследования могут быть использованы в учебных курсах по современной русской литературе, а также в качестве основы для дальнейшего изучения современной прозы как «вторичной» культурной модели.
Значение категории исключительного в создании образов героев
На какой бы материал ни была обращена установка типа художественности, в контексте которого мы рассматриваем выбранные нами произведения, актуализированным в их сюжетах является момент страдания - этой драматичной формы самоактуализации «я» в его дисгармоничной причастности к единству жизни.
Примечательно, что дисгармония заключена уже в преимущественном выборе современными авторами типа героя нестабильного, неустойчивого, отчужденного от единства жизни, но постоянно стремящегося к со-единению с ней. Поэтому данный тип героя можно охарактеризовать как исключительный, нетрадиционный.
Проза Л.Петрушевской наиболее тесно привязана к реальности. Мир, в котором обитают герои писательницы, - обычный, узнаваемый мир, с реальными приметами изображаемого времени. Неслучайно произведения Л.Петрушевской принято рассматривать в контексте прозы «нового реализма». На это, в частности, указывает в своей диссертации Л.Х.Насрутдинова «Новый реализм» в русской прозе 1980-90-х годов (концепция человека и мира)» [Насрутдинова 1999]. Однако, как верно заметил М.Липовецкий, «герои «реалистических» рассказов Петрушевской практически несовместимы с реалистической концепцией «типического характера» как (...) индивидуального психологического продукта (...) социальных обстоятельств» [Лейдерман,Липовецкий 1993: 34]. Это связано с неизменным присутствием в поэтике ее произведений иного, мифологического измерения. Если в раннем творчестве Л.Петрушевской, как правило, в центре ее внимания находился «обычный герой из толпы», то рассказах, опубликованных в последние годы, появляется несколько иной тип героя, что свидетельствует об определенной эволюции художественного сознания автора. Так, к примеру, в рассказах Л.Петрушевской «Надька», «Как ангел», «Дама" с собаками», «По дороге бога Эроса», «Донна Анна, печной горшок» и во многих других вместо привычного, «обыкновенного» человека из толпы предстает герой, структурной основой характера которого является категория исключительности. Причем проявляться она может как в особых духовных качествах героя, так и в отталкивающей внешности.
Так, уже в первых строчках рассказа «Донна Анна, печной горшок» оговаривается особость героини, ее непохожесть на других. «Она была все время как бы тайно занята (секрет без разгадки: никакого знака наружу не поступало)» [Петрушевская 2001: 236]. При этом таинственная необъяснимость становится неизменной эмблемой внутреннего мира героев Петрушевской.
Например, в рассказе «Мужественность и женственность» можно обнаружить размышление о внутренней сущности, «которая только одна и составляет очарование человеческой личности (...), которая никак не выявляется в словах, словно бы тщательно стерегомая тайна, причем стерегомая не специально, а как бы неосознанно» [Петрушевская 2001: 65]. В данном контексте слово «неосознанно» является знаковым, ибо романтическое мировосприятие предполагает именно интуитивность познания.
Категория единичного, исключительного во многом обуславливает и противостояние героев миру. Так, в рассказе «Как ангел» представлена следующая характеристика героини: «Она идет против всего человечества, вольная и свободная, свирепая, нищая духом, про которых ведь сказано, что их будет царствие небесное...» [Петрушевская 2001: 39]. Необходимо отметить, что в условиях постмодернистской ситуации формы выражения становятся причудливыми, а иногда и уродливыми. Само название рассказа «Как ангел», поэтичное и многозначное по своей природе, предполагает совершенно определенный ракурс восприятия героини. Казалось бы, в этом сравнении уже содержится установка на приобщенность к некой сверхреальности, к идеальному «там бытию». Однако уже в первой строчке поэтичность названия разрушается вполне прозаичным объяснением: свое имя Ангелина героиня получила «как в насмешку» [Петрушевская 2001: 32]. Это парадоксальное, во многом даже вызывающее несоответствие между именем и его обладателем подчеркивается редкостной, подчас пугающей, внешней исключительностью Ангелины:
«Каждое утро, прихорашивалась перед зеркалом, требовала завязать ей пышный бант на макушке, распускала свои волосенки, жидкие и спутанные как пух и перья из подушки, (...) затем (...) хорошенько красила рот красным цветом, веки синим, брови черным; (...) украшала себя чем могла, бусы, клипсы, банты, какие-то кольца на пухлых пальцах, браслеты, дешевенькие брошки; (...) носила сильнейшие очки, многослойные, как фары, а передние восемь зубов она потеряла» [Петрушевская 2001: 34-35].
В связи с этим магистральным в рассказе становится мотив нереализуемых ожиданий, заявленный еще в названии: вместо однозначного - «ангел», многозначное - «как ангел».
Инфраличное и ультраличное как ценностные пределы личности героев прозы Л.Петрушевской, Ю.Буйды, Вик.Ерофеева
Объектом исследования в данном параграфе является проблема соотношения внутреннего личного бытия с двумя его крайними ценностными пределами. По мнению В.И.Тюпы, «личное бытие (...) всегда так или иначе заключено меж двух непересекающихся ценностных рядов, составляющих систему фундаментальных отношений личности» [Тюпа 1987: 54]. Эти ценностные ряды, пределы или границы личности имеют различные определения в исследовательской литературе, но суть их от этого не меняется. В нашей работе мы будем пользоваться терминологией В.И.Тюпы, который рассматривает один из пределов как «инфраличное - определенная «ролевая» форма причастности личности к миропорядку: место или функция личности в нем», а второй как «ультраличное - внеролевая форма причастности личности к событию жизни, которая выступает как событийная встреча, как сходство — различие с другой личностью или с другими вообще» [Тюпа 1987: 54].
Результат пересечения актуальной потребности личности в своем единстве, когда внутреннее «я» находится в гармоничном - полном и неизбыточном - отношении с другими ценностными пределами личности и составляет особую эстетическую установку типа художественности. Однако гармоничная целостность возможна лишь теоретически, поскольку одним из основных качеств внутреннего «я» героев анализируемой нами прозы, как мы отмечали в первом параграфе, является избыточность, неадекватность внутреннего содержания внешним его проявлениям. Но тем не менее само стремление к целостности, к гармоничному единству свидетельствует о гуманистической направленности этой литературы. Ю.Буйда в автобиографической новелле «Прусская невеста» заметил: «В XX веке люди вновь осознали как неизбежность устремления к Целому, так и то, что путь этот трагический, путь через разлад, который, как ни парадоксально, является источником нашего стремления к целому. Быть может, единственным источником» [Буйда 1999: 9].
«Ролевое» инобытие героев прозы Ю.Буйды во многом обусловлено спецификой самого топоса, бывшей территории Восточной Пруссии, впоследствии ставшей впоследствии территорией России, и соответственно переименованной. Двойственность названия (Велау-Знаменск) порождает особое мировосприятие героев, ощущающих себя одновременно хозяевами и гостями этого «заколдованного» места. Герои, населяющие это переименованное пространство, помимо собственного имени, которое мало кто помнит, обладают еще и значимыми прозвищами, в которых словно зафиксированы их роли или амплуа. Эти роли многообразны, как и номинации, представляющие эти роли. Одни из них связаны с культурной традицией: старуха Синдбад Мореход, девочка Магилена, Чарли Чаплин, Общая Лиза и Веселая Гертруда, Тарзаниха. Другие же, напротив, порождены низостью и абсурдом социальной среды обитания героев, например: Жопсик, Чекушка и Чекушонок, Урблюд и так далее. Однако все эти прозвища - высокие и низкие, поэтические и грубо-прозаические, литературные и социальные - растворяясь в мифологическом измерении, приобретают новую семантическую окрашенность.
Специфика этой двойственной номинации буйдовских героев проявляется и в особой мозаичной композиции «Прусской невесты». Так, все герои в качестве второстепенных персонажей фигурируют в самых разных рассказах, составляющих книгу «Прусская невеста». Это их своеобразное первичное представление. Но каждый из них появляется в книге еще раз, уже в качестве главного героя в посвященном только ему сюжете, причем, как правило, изменяется не только его статус, но и амплуа.
Так, к примеру, уже само название рассказа «По Имени Лев» заключает двойственную семантику и предопределяет соответствующее восприятие образа главного героя. В этом названии не только слово Лев как имя собственное пишется с заглавной буквы, но и слово Имя. В других рассказах книги герой представлен как обычный, ничем не выдающийся городской парикмахер, однако из рассказа «По Имени Лев» мы узнаем, что, следуя сложившемуся ритуалу, каждое воскресенье он превращался в знаковую фигуру карнавально-мистериального действа — футбольного матча: «... на поле трусцой выбегал По Имени Лев — нет-нет, не тот известный всему городку парикмахер (...), на середину поля выбегал бог-распорядитель, (...) приветствуемый оркестром (...) и восторженным хором...» [Буйда 1999: 31 (далее при ссылке на это издание указываются только страницы)].
Карнавалыюсть и гротесковый мир новеллистики Ю.Буйды
Ю.Буйда представляет читателю особый мир смеховой карнавальной свободы, где постоянное инверсирование высокого в низкое, духовного в телесное является нормой. При этом верх и низ связаны подвижно и диалектично именно благодаря смеху, смеховому отношению к миру, сознанию относительности всего сущего. По верному замечанию Ю.Манна, одной из главных заслуг бахтинской теории является «оправдание той области смешного, которая носит название грубой комики. Речь идет о сфере физиологического, кухонного, бытового комизма» [Манн 2000: 179]. Именно эта сфера так называемого телесного низа, составляющая антитезу высокому, и стала объектом пристального внимания современных авторов. Новеллистика Ю.Буйды в этом смысле чрезвычайно показательна.
Среда, в которую погружены буйдовские герои, отличается абсолютным отсутствием духовности. В ней отменены любые человеческие нормы, запреты, ограничения. Напротив, это сфера тотальной вседозволенности, где цинично обесценено все, что отличает человека от животного. Приоритет грубой физиологии, так называемый «трущобный натурализм» (термин М.М.Бахтина), обусловил создание особой картины мира, в которой все, относящееся к сфере духовных или психологических переживаний, считается либо неизлечимым недугом, либо пороком. Именно поэтому герощ обладающие этими качествами, становятся в своей среде изгоями, отщепенцами, воспринимаются как юродивые, выделяющиеся из абсолютно бездуховной, почти животной массы. Воспользовавшись термином М.М.Бахтина, существование обитателей городка, где разворачивается действие новелл, можно назвать «жизнью наизнанку», «миром наоборот». Так, к примеру, в «Братьях моих жаворонках» героиня размышляет:
«Мне еще никто не говорил: я тебя люблю, Зойка (...) И вот я думаю, например: вдруг бы нашелся такой человек да сказал бы: я тебя, Зойка, люблю, - о!- (...) Как бы я сладостно плюнула ему в рожу! А потом бы еще разочек харкнула. И ногой бы - сюда! (...) А потом повалила мордой в дерьмо и вывозила.» [Буйда 1999 (далее при ссылке на данное издание в квадратных скобках приводится только номер страницы)].
Неслучайно для характеристики этого мира используется очень емкое определение «пахнущая свиным навозом пустота». Безусловно, речь идет в первую очередь о пустоте духовной, и это наглядно подтверждается описанием самого городка - художественного пространства, в котором разворачивается действие буйдовских произведений.
Наиболее обстоятельно все детали городского интерьера представлены в новелле «Отдых на пути в Индию». Автор отмечает наличие бани, двух столовых, которые являются излюбленным местом времяпрепровождения горожан, интерната для умственно-неполноценных детей, «куда многие записывают своих чад задолго до их рождения» [42], нескольких предприятий. Причем принципиально важно, что речь идет лишь о предприятиях легкой и пищевой промышленности, обеспечивающих в первую очередь материальные и физиологические, потребности горожан. Да и в самих нравах, образе жизни жителей городка телесное, запретное выносится на первый план, на всеобщее обозрение. Так, один из героев этой новеллы соорудил туалет выше кровли дома и жители городка «могли издали наблюдать за полетом экскрементов» [42]. Личность в этом вывернутом наизнанку мире воспринимается лишь как средство для воспроизведения себе подобных. Показательно в связи с этим прозвище, которое получила сентиментальная городская дурочка — Общая Лиза - как предмет общего пользования. Автор, говоря о ней, намеренно использует словоформу, сочетающуюся лишь с неодушевленными предметами: «дурочка Общая Лиза, употреблявшаяся как дворник, говновоз, рассыльная, а иногда и как милиционер» [42].
Подобным же образом используется ее дочь Лизетта, которая зимой и летом ходила в «сшитом из заплатанных простыней балахоне, чтобы (...) не создавать трудностей мужчинам» [42].
Таким образом, уже в самом описании городка и его обитателей на первый план выводятся карнавальные мезальянсы, предопределяющие вольное, фамильярное отношение к любым ценностям. В результате складывается особый тип взаимоотношений героев и мира, героев между собой - фамильярный контакт, не ведающий никаких ограничений, позволяющий смеяться над чем угодно. Именно поэтому жители городка были заранее «обречены» стать активными участниками карнавального действа, развернувшегося с приходом теплохода «Генералиссимус».
Карнавальный смех по своей природе глубоко амбивалентен. Подобно древним формам ритуального смеха, с которыми он связан генетически, карнавальный смех предполагает обновление, он направлен на смену властей и правд, смену миропорядков. В связи с этим симптоматично время действия новеллы: автор обозначает точную дату прихода «Генералиссимуса» в городок — август 1953 года, то есть конец сталинского режима и начало новой эпохи в жизни страны. Буйда использует возможности карнавального смеха для развенчания одного из главных советских мифов - о несокрушимом могуществе тоталитарного государства. Символом этого государства является теплоход со значимым названием «Генералиссимус» — «самое большое в мире судно, чьи гребные винты выплескивали из берегов Волгу» [42]. Как известно, в основе комического всегда лежит несоответствие, нарушение правильных пропорций. В данном случае это нарушение рождается благодаря несоответствию натуралистически конкретных описаний теплохода («тоннаж 88 тысяч тонн», груз: провизия, скот, он нагружен «самыми крепкими в мире велосипедами «ЗИФ» и лучшими в мире галошами фабрики «Красный треугольник» [43]) и заданного уже изначально ощущения призрачности происходящего. Теплоход был украшен пышными гирляндами цветов, «которые так похожи на настоящие»; « горели золотом на солнце красиво зарешеченные иллюминаторы» [43]. В общем, «не корабль, а полная чаша». Таким образом, происходит подмена истинного ложным, и на пересечении различных ракурсов происходит смещение реальности. Это совмещение различных точек зрения подчеркивается и в сильной позиции новеллы. Она начинается со слов: «Некоторые утверждают, что теплохода «Генералиссимус» никогда не было... Неправда, корабль был и какой» [42].
Реконструкция «памяти» жанра сказки в «реальной» прозе Л.Петрушевской
Сказка занимает особое место в системе литературных жанров. По словам современной исследовательницы Л.В.Овчинниковой, она является «словесно-драматическим видом образно-поэтической структуры, объединяющим несколько жанров, типовой идейно-структурной моделью, способной воспроизвести практически любую жизненную установку» [Овчинникова 2003: 100]. Уникальность сказочной художественной формы обусловлена способностью, сохраняя свое жанровое ядро, влиять на жанрово-стилевые особенности того литературного произведения, с которым она взаимодействует. Более того, сказка всегда откликалась на проблемы времени, чутко воспринимала изменение литературных вкусов. Эта ее специфическая черта отмечалась практически всеми исследователями этого жанра. Среди них и те, чьи работы признаны филологической классикой (В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский, С.Ю.Неклюдов, В.А.Бахтина) и современные исследователи (М.Н.Липовецкий, Т.В.Зуева, И.П.Лупанова, М.И.Мещерякова, Е.М.Неелов).
В монографии Л.В.Овчинниковой «Русская литературная сказка. История, классификация, поэтика» справедливо замечено: «Нравственная философия и психологическая основа, законы поэтики и стиль сказки как одного из древнейших видов народного творчества таковы, что писатели, поэты и драматурги любого времени обращались к ней в поисках ответов на важнейшие вопросы современности и с целью художественного осмысления «вечных» проблем человеческого бытия» [Овчинникова 2003:5].
Многие исследователи современной литературы отмечают, что в последние десятилетия заметно активизировалась тенденция, направленная на взаимопроникновение фольклорных, а именно сказочных, и литературных форм. Это связано в первую очередь с усложнением отношений между первичной реальностью и литературой, с возрастанием роли форм вторичной условности.
Само понятие сказочности, на наш взгляд, достаточно расплывчато. Несмотря на то, что оно широко используется в литературоведческих и критических работах, его семантическое наполнение нередко оказывается различным. В данной главе сказочность будет рассматриваться не только как определенный набор формальных приемов, но как способ пересоздания действительности, как средство ее гармонизации. При этом мы исходим из того, что сказка изначально выражала идеальные представления народа о торжестве добра над злом, всегда была ориентирована на гуманистические ценности. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть присущий этому жанру игровой характер, иносказательность, обязательную установку на вымысел. Все это объясняет, почему сказка как одна из основных форм вторичной условности столь активно развивается именно на рубеже веков, в переходные эпохи.
Проблемы сказочности, взаимодействия сказочных и литературных жанров, составляют предмет активных литературоведческих дискуссий. Среди специальных исследований, посвященных проблеме сказочности, хотелось бы особо отметить работу В.В.Агеносова «Творчество М.Пришвина и советский философский роман» [Агеносов 1988], в которой ученый рассматривает сказку не только как фольклорный жанр, но и как способ повествования; как одно из проявлений романтического восприятия мира в литературе. Заслуживает внимания также диссертационное исследование Г.П.Климовой «Творчество И.А.Бунина и М.М.Пришвина в контексте христианской культуры» [Климова 1993], где сказка трактуется как символ единой народной православной духовной культуры, где представлен авторский взгляд на мир, как «на целостное Божье творение, в котором человек неотделим от природы в значении всего сущего» [Климова 1993: 4].
Бесспорную значимость имеет монография М.Н.Липовецкого «Поэтика литературной сказки (на материале русской литературы 1920 -1980-х годов) [Липовецкий 1992], в которой исследуются проблемы взаимодействия волшебно-сказочной жанровой памяти с другими моделями мира. Однако, во-первых, большее внимание автор уделяет литературной сказке как своеобразному синтетическому образованию, в котором сфокусированы как элементы народной волшебной сказки, так и собственно литературные черты. Во-вторых, основным объектом анализа стали произведения, написанные в период с 20-х по 80-е годы и по преимуществу ориентированные не только на взрослое, но и на детское восприятие. Мы же в данной главе ставим перед собой иные задачи: исследовать проявление сказочности в несказочных художественных формах. Исключение составляет, пожалуй, лишь «Маленькая волшебница» Л.Петрушевской, которая наиболее приближена к жанру литературной сказки и рассчитана на разновозрастную читательскую аудиторию.
Также хотелось бы отметить еще одну работу М.Липовецкого «Русский постмодернизм», в одной из глав которой сказочность рассматривается как жанрово-стилевая доминанта современной прозы. Исследователь, характеризуя специфику игровых отношений современных произведений с тем или иным культурным контекстом, справедливо отмечает, что «стратегии отталкивания и притяжения здесь осуществляются одновременно, тем самым нейтрализуя друг друга» [Липовецкий 1997: 284]. В связи с этим в поисках стилевых форм, способных выполнить сложную задачу: превратить контекст в материал для игры и одновременно мифологизировать его, писатели, как считает исследователь, обращаются к сказочности и карнавальности. М.Липовецкий полагает, что, как правило, эти явления разграничиваются: в творчестве одних писателей (Т.Толстая, С.Соколов, А.Иванченко,