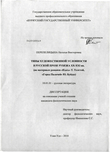Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Рецепция философско-эстетических представлений В. Набокова в современной русской литературе 31
1. Эмигрантский комплекс «потери родины» в современной русской прозе 31
2. Знаки потусторонности» в прозе В. Набокова, романах О. Славниковой и М. Палей . 47
Глава 2. Основные образы творчества В. Набокова и их интерпретация в современной русской литературе 71
1. Образ куклы и зеркала в современной русской прозе 72
2. Образ времени и способы его создания в романах В. Набокова «Приглашение на казнь» и О. Славниковой «Один в зеркале» 93
3. Семантические аспекты образов бабочки и куколки в современной прозе 98
4. Образ шахмат и шахматной игры в современной русской литературе 112
Глава 3. Ритмико-фонетическая организация текста в произведениях В. Набокова и современной прозе 117
Заключение 148
Библиография 154
- Эмигрантский комплекс «потери родины» в современной русской прозе
- Знаки потусторонности» в прозе В. Набокова, романах О. Славниковой и М. Палей
- Образ времени и способы его создания в романах В. Набокова «Приглашение на казнь» и О. Славниковой «Один в зеркале»
- Семантические аспекты образов бабочки и куколки в современной прозе
Введение к работе
Одной из авторитетных традиций для русской прозы рубежа XX— XXI веков остается традиция В.В. Набокова, а сам писатель приобретает статус знаковой фигуры в современной русской литературе.
Изучение набоковского влияния на современную прозу в литературоведении находится на стадии формирования исследовательских стратегий, поиска интертекстуальных, мотивных, сюжетно-композиционных соответствий между произведениями современных авторов и творчеством Набокова.
Настоящее исследование посвящено изучению набоковского стилевого влияния на прозу рубежа XX—XXI веков, это своего рода ключ к более глубокому пониманию текстов современных авторов. Данная диссертация обусловлена необходимостью соотнести творчество современных прозаиков с проблемно-тематическими и стилевыми координатами прозы В. Набокова.
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения современной русской литературы с учётом художественного опыта авторов, которые стояли у истоков формирования литературного сознания современных писателей. Одним из таких литераторов и стал В. Набоков.
В диссертационном исследовании объект рассмотрения ограничен теми художественными произведениями (романы Б. Акунина, В. Месяца, М. Палей, О. Славниковой, Саши Соколова, Т. Толстой, А. Черчесова, М. Шишкина), которые несут в себе отпечаток стиля писателя В. Набокова.
Предметом исследования выступает комплекс набоковских творческих открытий (образы потусторонности и знаков судьбы; фигуры художника и игрока-творца, закодированного в тексте автора; образ остановившегося в финале романа времени; опредмечивание живого и оживление мёртвого; мотивы ложных пропорций и гротескных
отождествлений, шахматной игры, памяти, бабочки-куколки, двойничества, отчаяния, фобий; приемы языковой организации текста и т.д.), воплощенный в прозе современных авторов.
Материалом исследования послужили произведения следующих авторов: Б. Акунина («Турецкий гамбит» (1998), «Статский советник» (1999), «Коронация» (2000), «Ф.М.» (2006); В. Месяца («Правила Марко-Поло» (2006); М. Палей (рассказы «Луиджи» (1994), «С ветерком в тартарары» (2005), повесть «Хутор» (2004), роман «Клеменс» (2005); О. Славниковой («Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1996), «Один в зеркале» (1999), «2017» (2006); Саши Соколова (эссе «Тревожная куколка» (1990); Т. Толстой («Кысь» (2000); А. Черчесова («Вилла Бель-Летра» (2005); М. Шишкина («Венерин волос» (2005).
Вопрос о степени влияния прозы Набокова на современную русскую литературу является дискуссионным как в среде литературоведов, так и современных писателей. Тема «В. Набоков и русская литература» стала предметом обсуждения на «круглом столе» в Швейцарии, в рамках Международного салона книги и прессы [62, с. 6]. Писатели разделились на два лагеря: В. Попов и Ю. Поляков придерживались мнения, что время Набокова прошло, но и в 80-90-е годы избежали его влияния «настоящие» и «самостоятельные» писатели, а их оппоненты (В. Аксенов, А. Геласимов) высказали точку зрения, что Владимир Набоков оказал значительное воздействие на литературу и кино, но о более глубоком влиянии можно говорить только тогда, когда вырастет новое поколение свободно владеющих иностранными языками авторов.
Наследниками набоковского принципа письма, которые осознанно или неосознанно «следуют в русле» его прозы, мы считаем Б. Акунина, В. Месяца, М. Палей, О. Славникова, Сашу Соколова, Т. Толстую, А. Черчесова, М. Шишкина. Безусловно, отпечаток влияния творчества В. Набокова несут на себе и другие авторы рубежа XX-XXI веков, но мы акцентируем свое внимание на произведениях тех писателей, в рассказах,
повестях и романах которых присутствует комплекс характерных примет поэтики В. Набокова. В перечень исследуемых нами авторов входят Т. Толстая и С. Соколов. Проблема генезиса художественных установок и приемов данных писателей в литературоведении освещена достаточно подробно, связь с Набоковым установлена. В данной работе мы не будем останавливаться на романах С. Соколова, а рассмотрим сквозь призму поэтики русско-американского классика эссе «Тревожная куколка». Романа Т. Толстой «Кысь» мы коснемся в главе «Ритмико-фонетическая организация текста в произведениях В. Набокова и современной прозе».
О том, что тема влияния набоковских текстов на современную прозу в литературоведении рассмотрена недостаточно, мы можем судить по отсутствию масштабных монографий (за исключением монографии В. Десятова) и статей, по констатативному характеру имеющихся сопоставлений.
Проблеме «диалога» современных авторов с В. Набоковым посвящена монография доктора филологических наук В.В. Десятова «В. Набоков и русские постмодернисты», в которой рассмотрены 64 произведения 13 авторов. Предметом исследования здесь выступили набоковские подтексты произведений русских постмодернистов (А. Синявский, А. Битов, С. Соколов, Вик. Ерофеев, Т. Толстая, Т. Кибиров, В. Пелевин, Б. Акунин, В. Аксенов, Д. Галковский, А. Жолковский, Л. Петрушевская, В. Сорокин). В данной работе рассматривается активное использование современными русскими писателями набоковских сюжетных ситуаций, тем, образов, говорится о частотности цитат из «культовых» романов Набокова, а также о произведениях автора, ставших объектом пародии в современной литературе. Основная заслуга В. Десятова состоит в том, что он выявил круг тем, позиционируемых как набоковские, скрупулезно вычленил все возможные набоковские подтексты произведений вышеперечисленных литераторов. Согласно нашей точке зрения, Набоков — это не просто источник реминисценций и
аллюзий в современной прозе. Наиболее перспективным в
литературоведении оказывается изучение стилевой преемственности как проявление подлинного «диалога» с классиком: многозначность ключевых элементов текста, многовариантность культурных кодов, высокий уровень композиционной организованности и высокая значимость лирической составляющей произведения, а также исследование развития экзистенциальной проблематики его творчества.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней сквозь призму поэтики писателя В. Набокова рассмотрены произведения современных авторов, чье творчество заметно отличается друг от друга по своим эстетическим и стилевым установкам. В диссертации впервые разработана единая система параметров для комплексной характеристики приемов освоения художественного опыта Набокова в русской литературе рубежа XX-XXI веков. Впервые доказано, что современные прозаики не просто обращаются в своих произведениях к использованным прежде классиком образам или приемам, но подвергают творческой реинкарнации элементы художественного мира писателя или строят тексты на демонстративном отталкивании от традиции В. Набокова. Диссертация построена на выявлении областей соприкосновения и точек расхождения прозы рубежа XX—XXI веков с творческим наследием русско-американского классика.
Статьи, посвященные обсуждению художественного мира М. Палей, О. Славниковой, М. Шишкина и др., порой сводятся к «творческому» пересказу содержания и констатации наиболее очевидных «следов» присутствия Набокова [Беляков, 2007; Юзефович, 2005]. Исключение составляют исследования А. Леденева «Между фактом и фикцией: набоковское стилевое влияние в современной русской прозе» и Е. Ермолина «Ключи Набокова. Пути новой прозы и проза новых путей». Данные авторы уже в заглавии указывают на усвоение художественного опыта классика современной русской литературой. На примере творчества М. Палей и П. Крусанова А. Леденев показывает, что «набоковский
стилевой инструментарий активно используется новым поколением писателей и способствует собиранию «мозаики» распавшегося мира» [126, с. 121]. Е. Ермолин исследует феномен эмигрантского сознания и специфику переживания «потери родины» современными прозаиками М. Палей и М. Шишкиным. Оторвавшись от родных корней, писатели должны пережить травму, сходную с набоковской. Эмиграцию они рассматривают как обретение безграничной творческой свободы и поиск новых творческих решений. Однако в данной статье публицистическое начало подчас преобладает над детальным рассмотрением структуры текста.
Если говорить о теме воздействия художественного мира Набокова на творчество современных писателей, то наиболее разработанными оказываются темы: В. Набоков и С. Соколов, В. Набоков и Т. Толстая.
Вопросы о степени стилевого влияния прозы В. Набокова на произведения О. Славниковой, М. Палей, М. Шишкина, Б. Акунина, А. Черчесова, В. Месяца в литературной критике поставлены и ведется поиск ответов на них.
В литературоведении прямым наследником В. Набокова считается С. Соколов, которому «путь в литературу» открыл приязненно отозвавшийся о его книге «Школа для дураков» русско-американский писатель. Соколов в ряде интервью [375; 369] отмечает, что Набоков благословил его, начинающего автора, назвав «Школу для дураков» «трагической и трогательной книгой»: «Набоков сделал мою американскую карьеру, западную карьеру... Он помог мне опубликоваться, после его фразы о моей прозе передо мной сразу же открылись многие университетские возможности публикации. Без Набокова не было бы ничего» [376, с. 47].
О набоковском подтексте романа «Палисандрия» впервые заговорил Дональд Бартон Джонсон [365, с. 270—294]. В литературоведении эту тему продолжили И.С. Скоропанова [168], А.К. Жолковский [30], Т. Белова [359, с. 157—167]. Данные авторы проводят текстовые параллели между
романом Соколова и произведениями Набокова «Bend Sinister», «Лолита», «Ада», «Защита Лужина», «Другие берега», «Отчаяние», «Дар».
О степени влияния набоковских произведений на творчество С. Соколова в литературоведении упоминается преимущественно в связи с романами «Между собакой и волком» и «Палисандрия», в последнем, по мнению авторов, геронтофилия Палисандра пародирует нимфолепсию Гумберта [Ащеулова 2000; Белова 1998].
Вокруг образа зеркала в романе С. Соколова «Палисандрия» А. Жолковский концентрирует свое исследование: «Фиксация на зеркале предполагает любовь не только к идеальным поверхностям, но и к изысканной игре симметриями» [30, с. 226]. Таким образом, тему зеркала в романах Соколова связывают с любимой Набоковым темой памяти и обращения естественного течения времени вспять, недаром в романах «Отчаяние» и «Палисандрия» появляется слово «олакрез».
Близость творческих методов Соколова и Набокова отмечают П. Вайль и А. Генис, они указывают на то, что «наследник классика возвращает прозу на путь, уже проложенный для российской словесности Набоковым, но которым пренебрегли его современники, да и наследники. Писатель разошелся с русской классической традицией в том месте, где и Соколов. Поворотным пунктом стала подробность» [363, с. 16]. Полемизирует с исследователями О. Дарк: «Распространено мнение, что Саша Соколов продолжает традиции Набокова. Скорее следует говорить о сознательном отталкивании. Это писатели противоположных типов, что видно по разности их отношения к памяти» [364, с. 229]. Если Набоков культивирует прошлое, воспроизведенное детально, то «пафос Саши Соколова - в преодолении всякой конкретности, а через это эфемерности, умирания» [364, с. 229]. Однако получается, что писатели решают разными способами одну задачу - преодолеть смерть и забвение.
В своем эссе «Переводные картинки» Т. Толстая повествует о знакомстве с текстами Набокова, высказываясь о повествовательной
стратегии писателя, который расставляет для читателя ловушки: «Ах, ты думал, что прочитал мою книгу и все понял? Подумай-ка еще раз... где спрятан зайчик? а зайчик, как положено, висит вниз головой в кривоватой листве развесистого дерева... и фокус в том, что читатели, отвлекшиеся на поиски зайчика, радостно догадавшиеся о его местонахождении, не задаются вопросом, а как он, собственно, там оказался? а возможно ли зайчику быть в ветвях-то? — и проваливаются, к удовольствию писателя, в очередную расставленную им ловушку; таков Набоков» [20, с. 320-321]. Т. Толстая и В. Набоков любят вводить в свои произведения череду загадок, адресованных «читателю-интеллектуалу».
О Т. Толстой, преемнице Набокова, пишет В. Новиков в предисловии к сборнику ее рассказов: «Автор этой книги — наследница замечательной традиции русской новеллистики XX века, которую создавали такие мастера, как Бунин, Алексей Толстой (дед писательницы), Замятин, Бабель, Олеша, Набоков, нашедшую затем развитие в рассказах Казакова, Битова, Аксенова» [393, с. 7]. В данном исследовании творчество автора помещают в контекст классической литературы.
Б. Парамонов в статье «Застой как культурная форма (О Татьяне Толстой)», посвященной анализу рассказа «Река Оккервиль», видит творческие истоки в прозе Набокова: «Совершенно набоковский рассказ, само движение фразы набоковское» [395, с. 238]. Однако исследователь лишь констатирует присутствие «интонации» классика без попытки детального исследования.
А. Жолковский устанавливает взаимосвязь рассказа Т. Толстой «Река Оккервиль» с романами «Приглашение на казнь» и «Лолита»: «К числу вероятных интертекстов относятся также «Приглашение на казнь» Набокова, где в финале рушатся бутафорские декорации, в которых шел весь сюжет... и — набоковский же контраст юной Лолиты с некогда похожей на нее, а ныне перезрелой матерью, и на его фоне - образ общей ванны в их доме» [385, с. 26].
Литературный адрес романа Толстой «Кысь» критики (М. Липовецкий [391, с. 77-80], Б. Парамонов [395, с. 234-238] единогласно определили как «Приглашение на казнь» В. Набокова. М. Липовецкий отмечает, что в финале «Кыси» Толстая «разыгрывает заново концовку из «Приглашения на казнь». Герой «Кыси» Бенедикт - что-то вроде набоковского Цинцинната. Совершенно набоковский финал, когда непонятно: то ли все погибли, то ли вознеслись к новой жизни. Или так скажем: в очередной раз вознеслись» [391, с. 78]. В статье «Русская история наконец оправдала себя и в литературе» Парамонов также устанавливает параллели образов: Бенедикт-Цинциннат, Марфушка со съехавшим на сторону мордоворотом и «ладная» Марфинька.
В исследовании «На исходе реальности» А. Александрова указывает на «принципиально разные подходы» В. Набокова и Т. Толстой к материалу. Несмотря на общеизвестный факт, что в прозе писательницы ощутимо влияние классика, она утверждает, что «внешней реальности как таковой у Т. Толстой нет. Есть догадки героев о ней... мечты, иллюзии, есть вожделения об этой реальности» [378, с. 309], в то время как «у Набокова мы имеем внешний мир, изумительно прекрасный» [378, с. 309]. Складывающиеся отношения между героем и писателем у авторов также различны: «У него... холод и равнодушие. А у нее - презрение и отвращение» [378, с. 310]. В данном случае автор статьи, указывая на отличие художественных методов писателей, подтверждает факт наличия преемственности.
Проза Т. Толстой тотально иронична. Объектом пародии в ее произведениях становится уже детально разработанный Набоковым мир кукол и марионеток. Общей для писателей также является тема «знаков судьбы», которые для героев Набокова оказываются «невидимками», но для автора и читателя зримыми, и, как следствие, формирующими судьбу персонажей. В прозе Толстой попытка героев разгадать подобные
послания приводит к неправильной их трактовке, в то время как жизнь, «равнодушная и прекрасная», пролетает мимо.
Связь с В. Набоковым М. Палей, О. Славниковой, М. Шишкина установлена, однако исследований, в которых авторы оперировали текстовым материалом писателей, за исключением статей А. Леденева и Е. Ермолина, нет.
В статье «Бесконечно удаленная точка» Н. Рубанова, проводя параллели между Палей и Набоковым, неоднократно цитирует саму М. Палей, которая подчеркивает свои «литературные корни»: «Набоков, как и я, ни больше ни меньше - борцы за жизнь. Настоящую. Очищенную от фальши героев не только перед самими собой, но и перед читателями» [334, с. 5].
На влияние набоковской манеры письма на творчество русскоязычной писательницы из Нидерландов М. Палей указывает ряд критиков. Достаточно подробно анализирует творческие установки автора Е. Ермолин в статье «В тени Набокова. Беспощадное отчаяние». Он указывает на то, что «на палеевском горизонте временами маячит архетипическая фигура Сирина-Набокова, полвека назад обозначившего вехи судьбы русского литератора за рубежом. В тени лишенного родины классика рождаются ее новые, написанные вдалеке от России вещи. Но Палей производит знаменательную ревизию набоковских тем» [327, с. 169]. Так, например, одна из центральных тем классика «Россия — детский рай» у Палей решительно заменена детским адом. Набоковская вера в потусторонность у писательницы трансформируется в трагическую неспособность проникнуть за пределы этой реальности: «Писательница вольно или невольно запечатлела роковые противоречия человеческого существования, которые неразрушимы в отсутствие Бога... Герои не обнадежены ничем» [327, с. 173].
Критик Н. Рубанова в статье «Каждый получает такую Марину Палей, какую заслуживает» определяет основной критерий, по которому
можно сравнивать их художественные миры: «... у Владимира Набокова и Марины Палей действительно есть, как минимум, один безусловный, превышающий любые прочие, общий родовой признак - это пожизненно-стойкое, целенаправленное и неукоснительное рыцарское противоборство, мощное интеллектуальное и эстетическое противостояние любой модификации свинства и пошлости. В жизни как она есть. В литературе. В сферах мысли и чувства как таковых» [336, с. 3].
В статье «Бесконечно удаленная точка» Н. Рубанова ищет точки соприкосновения между художественным миром М. Палей и В. Набокова. Она причисляет к малоперспективному путь, по которому пошли «недальновидные» критики, обосновывающие сходство между писателями «нелитературными» причинами: нахождением «тела вне метрополии», мизантропией, в то время как подобие обусловлено экзистенциальными причинами. Безусловно, в жизни этих людей больше отличий, нежели сходств. Однако оба писателя сознательно отделяют себя от биомассы, толпы невеж, любят живую жизнь и поклоняются красоте и, наконец, отрицают общепринятый постулат о том, что человек - мера всех вещей. В данной статье автор предпринимает попытку приведения творчества писателей к общему знаменателю, но при этом не оперирует текстовым материалом.
По мнению А. Леденева [126, с. 118], писательница М. Палей наследует от классика «сумрачные» грани набоковской оптики: темы маний, фобий, зыбкого положения человека в мире. Писательница «вживляет» в текст прямые отсылки к Набокову, используя автобиографические «любимые» детали его быта. Даже в голове неискушенного читателя в связи с фамилией Сирин-Набоков рождаются следующие ассоциации: велосипед, шахматы, теннис, лепидоптерология, крестословицы, анаграммы. В «Клеменсе» фигура писателя, восхищающегося «смешными местами» у Гоголя, возникает при описании «таинственно пахнувшего» внесценического персонажа Варсонофия
Изяславовича. В рассказе «Вода и пламень» пожилой немец Манфред похож на Набокова, запечатленного на его поздних фотографиях: «В длинных шортах и синей футболке, всей своей старческой фигурой он напоминал... знаменитого ловца бабочек, экривайна, любителя тенниса [10, с. 72].
Палей также «берет» от писателя его нелюбовь к теории Фрейда, его пристрастие к метафизике, к теме судьбы. Она, подобно Набокову, задумывает «некий гармоничный узор», который читателю надлежит разгадать. Абсолютный диктатор текста, автор, дарует своему персонажу, несущему на себе печать инаковости, другую жизнь, Майка всецело поглощает любовь к «небожителю» Клеменсу, а герой рассказа «Месторождение ветра» обретает собственный ветер, научившись кататься на велосипеде, и свое собственное я, представленное в начале рассказа окутанным авторскими путами, зависимым и пассивным «он»: «И, как только он ощутил это, ребячливый ветер начал трепать его лопухи-уши... Дорога хлещет мне прямо в сердце... ветер проходит навылет сквозь мой зыбкий земной контур» [13, с. 54].
О. Славникова в критике была названа продолжателем набоковских традиций [Плещеев, 2007; Эпштейн 2007]. В беседе В. Орловой с О. Славниковой («Ценз для дебюта») на вопрос интервьюера о литературных предшественниках, оказавших влияние на творчество писателя Славниковой, прозаик дает ответ, что «если говорить о контексте и возводить свою родословную к каким-то писателям, то, с одной стороны, это Фолкнер, с другой - Бунин, но Бунин через Набокова» [353, с. 7].
Теме, описывающей набоковский пласт в романах О. Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «Один в зеркале», «2017», посвящен ряд статей, опубликованных в периодических изданиях.
М. Ремизова концентрирует свое исследование романа «2017» («Мнимые величины») на набоковской теме мнимости/подлинности,
апеллирует к набоковскому «Приглашению на казнь», в котором мнимость достигает своего апогея.
Е. Елагина, отмечая метафорическую перегруженность текста «2017», пишет о том, что «метафора у Славниковой — не самоцель, а вспомогательный инструментарий для выявления сути» [Елагина, Елисеев] предметов. Подобная «густопись» заставляет вспомнить В. Набокова. Говоря о влиянии прозы Набокова на русскую литературу, Елагина цитирует эссе М. Эпштейна «Прощание с предметами, или Набоковское в Набокове»: «Не о Набокове хотелось бы мне говорить - это лучше сделают специалисты по писателю Набокову; но о набокоеском как целом пласте русской культуры и ее художественной метафизики... Набоковское есть у Пушкина, у Тургенева, у Бунина»... Думается, если бы М. Эпштейн написал это эссе не в 1989 году, а, скажем, на полтора десятка лет позже, названный ряд непременно и заслуженно замыкался бы Ольгой Славниковой» [Елагина, Елисеев].
Критик Д. Эпштейн в статье «Рифейские дары» проводит текстовые аналогии между славниковским героем Крыловым («2017») и набоковским Годуновым-Чердынцевым («Дар»), которые наделены неким даром, влюблены, но обречены на бесконечное скитание. В. Лукьяненко («Непрочитанная Славникова») и С. Беляков («Оптические эффекты. Заметки о творчестве Славниковой») выделяют наиболее очевидные реминисценции в романах «Один в зеркале», «Стрекоза»: Антонов -Гумберт, Вика - Лолита, указанные в тексте самой писательницы.
С. Беляков отмечает, что эпиграф к роману «Один в зеркале», взятый из набоковского «Приглашения на казнь» («Итак, подбираемся к концу») с самого начала определяет атмосферу и финал романа. Таким образом, в центре внимания исследователей оказывается аллюзивный слой произведений Славниковой.
М. Амусин в статье «Посмотрим, кто пришел» формулирует стилевые доминанты художественной манеры писательницы: «Славникова
тратит немереное количество творческой энергии на обустройство, детализацию и «визуализацию» своего романного мира... Но возникает парадокс: мобилизованное автором словесное богатство, броскость образов, изощренность метафор призваны внушить читателю представление о скудности, непривлекательности, ущербности изображаемой действительности» [339, с. 208]. Рассматривая романы О. Славниковой, он отмечает построение ее художественной реальности на основе набоковского принципа двоемирия: «При должном освещении на поверхности прозы Славниковой обнаруживаются блики набоковской манеры. Да и общий эстетический принцип, проступающий сквозь пеструю ткань изобразительности, можно сказать, набоковский: автономность художественного текста и даже его приоритет по отношению к «действительности» как залог возможности разных планов реальности» [339, с. 207]. Таким образом, М. Амусин пишет об ориентации Славниковой на философскую систему прозы В. Набокова, в которой основополагающим оказывается принцип двоемирия, определяющий в романе писательницы художественную реальность.
В прозе О. Славниковой находят воплощение излюбленные Набоковым темы одиночества, двойников, зеркал, темы замещения человеческой жизни фантомами, театральной реальностью, грубо смонтированной и быстро намалеванной. В подобном кукольном мире избранному автором персонажу открывается тайна бытия, иной порядок вещей.
Истоки творческого метода русскоязычного писателя из Швейцарии М. Шишкина критики ищут в прозе В. Набокова, который провел свои последние годы в Швейцарии. Таким образом, здесь просто неизбежно сравнение с человеком, оказавшимся вдали от родины и русского языка. В интервью, данном студентам Пекинского университета [Славникова О. Шишкин М.], Михаил Шишкин, говоря о языковой ностальгии, акцентирует внимание слушателей на том, что он ее преодолел. У писателя
есть его язык, который он должен развивать, охраняя от наречий улицы. Проводя аналогию между литературой и деревом, он ощущает себя продолжателем традиций наиболее «перспективной ветки» (А. П. Чехов, И. А. Бунин, Саша Соколов, В. В. Набоков). Последнего он называет очень важным для себя автором.
М. Шишкин позиционирует В. Набокова как знакового автора. Писатель Шишкин известен как автор книги «Русская Швейцария. Литературно-исторический путеводитель», в которой особенность русско-швейцарской истории отражена в названиях глав: «Русская столица Швейцарии», «В сторону Набокова». У читателя, взявшего в руки подобный путеводитель, складывается впечатление, что он написан не столько для неискушенных туристов, сколько для читателей-интеллектуалов, способных насладиться произведением. Исследователь Е. Степанян в статье, посвященной анализу «Путеводителя», предполагает, что главным героем произведения является Владимир Набоков «с его пафосом «человеческого измерения», противопоставленного всему на свете, недаром прозаический текст путеводителя заканчивается цитатой из набоковской прозы, а поэтический, замыкающий раздел всей книги, — цитатой из набоковских же стихов...» [Степанян, 2001].
Набоковское начало критик Д. Ольшанский признает в романе М. Шишкина «Венерин волос». Обсуждая характер героя произведения толмача, он упрекает автора в том, что он лишил персонажа «способности к состраданию» и «острого переживания собственного греха и гнетущего чувства вины - и даже за чужие злодеяния», которые так близки персонажам русской литературы.
К. Рождественская в статье «Изречения выхода в день» проводит аналогии между романом Шишкина и произведениями Набокова. Обоих писателей сближает тот факт, что они стремятся скрупулезно запечатлеть в слове окружающий мир, время и пространство, чтобы сделать соучастниками в «смертном чувстве любви». Таким образом, Шишкин —
автор, который, так же как и его предшественник, стремится реконструировать распадающееся на составляющие пространство бытия.
В критике, посвященной анализу романов В. Месяца, Б. Акунина, А. Черчесова, исследователи приводят только косвенные доказательства набоковского влияния.
Под влиянием Набокова написана книга В. Месяца «Правила Марко-Поло». Автор аннотации к роману назвал его «Антилолита», тем самым определил вектор анализа. А. Уланов посвящает статью «Принять и не принять» исследованию точек соприкосновения романов Набокова и Месяца: Набоков удерживается в рамках, с одной стороны, частного случая, с другой - литературной игры. Выбор - вне этих рамок. Месяц ближе к вопросам, которые встают иногда перед каждым, кто пытается жить своей, не стандартной жизнью. В некотором смысле его книга даже скандальнее — например, для тех, у кого любовь неотделима от чувства собственничества, а таких великое множество» [322, с. 210], а О. Рычкова (статья «Любовь по праздникам и будням») определяет основную тему книги следующим образом: «любовь как наваждение и испытание» [320, с.
4].
Детективная литература в лице Б. Акунина также оказалась подвержена влиянию В. Набокова. Я. Бендерский (статья «Борис Акунин — литературный проект или ловкая мистификация»), исследуя феномен псевдонима, утверждает, что в случае Гоголя, Чехова, Набокова псевдоним — полумаска, «кокон, в котором вызревает до поры до времени настоящее имя, чтобы, в конце концов, выпорхнуть из него легкой бабочкой и получить признание уже в своей подлинной сути» [Бендерский, 2006], а в случае Акунина — «насквозь коммерческий пиар-проект» [Бендерский, 2006].
О наличии набоковского реминисцентного слоя в романах Б. Акунина критики упоминают вскользь. Авторы сетевого журнала в статье «Записки без претензий на логичность (недолговечное безумие
культуры)» указывают на шахматный (набоковский) подтекст романа «Турецкий гамбит», но констатируют, что Акунин еще «не до конца проникся всеми драгоценными сверхидеями Набокова» [Евгений Иг, 2005]. В статье «Акунин нашел черную дыру» (сайт d-pils) рецензент, рассматривая «Детскую книгу» писателя с бабочкой на обложке, пишет о том, что Борис Акунин, используя этот набоковский факсимильный образ, ставит себя в один ряд с классиком, который также «увлекается» «пародированием и стилизацией под современных ему и казавшихся смешными авторов» [283].
Переводчик с японского Г. Чхартишвили, создавший автора детективных романов Бориса Акунина, едва ли мог обойти вниманием творчество писателя В. Набокова, увлеченного созданием литературных мистификаций. Для Акунина продуктивной оказывается «детективная» составляющая прозы писателя: тема игры (шахматы), тема патологически одержимых одной идеей «гениальных» людей, сюжеты с чередой мнимых развязок.
В романе А. Черчесова «Вилла Бель-Летра», вместившем в себя коды массовой и элитарной литературы, обнаружены [Данилкин, 2008] следующие набоковские находки: превращение писателей в персонажей, жизни — в литературу и череда мнимых развязок.
Таким образом, авторы вышерассмотренных нами статей указывают на основные образы и мотивы, которые являются общими для Набокова и современных писателей: зеркало, память, мнимость/подлинность, «детский рай», судьба эмигранта, псевдоним, двоемирие и т. д. Статьи, освещающие набоковский реминисцентный слой в современной прозе, фиксируют, как правило, наиболее очевидные реминисценции, ограничиваясь просто упоминанием текста-источника.
Авторы учебных пособий по литературе XX—XXI веков для студентов вузов подтверждают факт набоковского влияния на современную русскую литературу.
Например, в книге И.С. Скоропановой «Русская постмодернистская литература» о традиции Набокова говорится в назывном порядке, а в учебнике Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого «Современная русская литература. 1950-1990-е годы» авторы выбирают направленческую классификацию материала и указывают на очевидную роль писателя в формировании русского постмодернизма: «необарокко (авторы относят к данному течению А. Битова, С. Соколова, Вик. Ерофеева, Т. Толстую, В. Пелевина, Т. Кибирова, В. Аксенова, Д. Галковского) восходит к эстетике Набокова» [128, с. 425].
В учебном пособии для студентов филологических факультетов высших учебных заведений «Современная русская литература (1990—е гг. — начало XXI в.)» автор главы «Под знаком В. Набокова» В. Полищук посвящает исследование проблеме «влияния Набокова на наследующую ему литературу» [171, с. 256] Она выделяют две модели прочтения наследия писателя: «Первая, наиболее ярко представленная рассказом Довлатова («Жизнь коротка». — О. Н.), эксплуатирует именно биографический миф Набокова. Вторая — обращение к его сюжетам, образам, приемам... Вторая тенденция представлена в современной русскоязычной литературе гораздо шире и разнообразнее — от спорадических отсылок к произведениям Набокова до последовательной травестии его сюжетов, использования характерных для него приемов, образов, «структурных узлов». Цель автора в большинстве случаев — обозначить себя как последователя Набокова» [171, с. 256-257]. В данной книге не оценивается степень продуктивности художественных соответствий между Набоковым и его последователями, а сам факт наличия подобных связей, как правило, объясняется нелитературными причинами: антитетичностью набоковского мировосприятия советской картине мира, которую также не принимают современные прозаики, или биографическим мифом писателя.
Подведем некоторые итоги. В статьях, посвященных исследованию произведений современных авторов, публицистическое нередко доминирует над детальным литературоведческим анализом. В основе большинства рецензий лежит тезис о том, что набоковские произведения выступили основным источником реминисценций и аллюзий в современной русской литературе. Оказываются на периферии или не рассматриваются вовсе вопросы, касающиеся стилевой преемственности и усвоения философских констант прозы писателя.
Наличие в текстах современных авторов стилевых черт и философско-эстетических принципов произведений В. Набокова можно объяснить, опираясь на «внелитературные», индивидуально-авторские предпочтения писателей рубежа веков, для целого ряда которых классик стал творческим ориентиром, и «внутрилитературные» причины. Под «внутрилитературными» причинами мы понимаем степень продуктивности набоковских стилевых открытий, актуализирующихся в прозе современных писателей.
Говоря о стилевом влиянии В. Набокова на русскую прозу рубежа XX — XXI веков, необходимо разграничить понятия стилистика, поэтика, стиль, стилистическое влияние.
Согласно позиции Б.В. Томашевского и других представителей формальной (морфологической) школы, «задачей поэтики (иначе — теории словесности или литературы) является изучение способов построения литературных произведений» [36, с. 22]. Если литература входит в состав «языковой деятельности» человека, то «теория литературы» близко примыкает к науке, изучающей язык, то есть к лингвистике» [36, с. 22]. Таким образом, стилистика - раздел поэтики. По мнению Б.В. Томашевского, «Стилистика занимает промежуточное положение между науками лингвистическими и литературоведческими» [36, с. 4].
М.М. Бахтин в книге «Вопросы литературы и эстетики» указывает на то, что «отсутствие систематично-философской общеэстетической
ориентации... приводит современную поэтику к чрезвычайному упрощению научной задачи» [24, с. 10]. Поэтика «прижимается» вплотную к лингвистике у большинства формалистов и у В.М. Жирмунского, а иногда стремится «стать только делом лингвистики» (у В. В. Виноградова) [24, с. 10]. В исследовании М.М. Бахтин делает вывод о том, что поэтика должна учитывать природу словесного материала, должна быть «эстетикой словесного творчества», но стилистика лишена «подлинного философского и социального подхода к своим проблемам... не умеет почувствовать... судеб художественного слова» [24, с. 73]. «Для поэтики, — пишет он, — кроме общеэстетического принципа, приходится учитывать и природу материала, в данном случае — словесного, лингвистика как подсобная дисциплина необходима» [24, с. 11]. Иными словами, литературовед не может игнорировать выводы стилистики, так как без них невозможно понять значение языковых элементов, но стилистика не может заменить науку об искусстве слова.
Специальный раздел стилистики посвящен изучению стиля художественной литературы. В литературоведении различают «большие стили» — стили эпохи и «индивидуальные» стили писателей.
В. Эйдинова в монографии «Стиль писателя и литературная критика» высказывает мысль о «двойном эффекте», производимым стилем, который обнаруживается на уровне строения произведения (стиль здесь оказывается вовлечен во все структуры художественной формы. — О. Н.) и на уровне его смыслового наполнения.
Стиль в ряде работ (М.М. Бахтин «Вопросы литературы и эстетики», В.В. Виноградов «О языке художественной литературы», А.Н. Соколов «Теория стиля», М.Б. Храпченко «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» и т.д.) понимается как «художественный закон». Общим местом в данных исследованиях является идея о стиле как о механизме, который создает целостность художественного произведения. Целостность стиля проявляется в группе «стилевых доминант», в которых
выражается художественное своеобразие текста. Таким образом, говоря словами В. Эйдиновой, «стиль... предстает таким художественным законом произведения, который претворяется в его поэтике, образуя в ней ряд частных законов произведения... и целостно воплощая ограниченное для художника и отзывающееся в каждом из нас эстетическое содержание» [41, с. 10].
Творчество ряда писателей оказывается притягательным для их коллег, и как следствие, произведения вторых несут в себе отпечаток стилистической манеры первых. Специфику влияния творческой манеры одних на стилистический рисунок прозы других можно объяснить сквозь призму описанного X. Блумом (книга «Страх влияния») синдрома «озабоченности влиянием». Данный синдром выражается в том, что автор, восхищенный каким-либо произведением, испытывает страх попасть под влияние прецедентного текста и поэтому производит из него не прямые заимствования, а по-своему интерпретирует его элементы. Таким образом, под стилевым влиянием Набокова на современную литературу мы понимаем комплекс характерных примет поэтики писателя, который реализуется в стилистическом рисунке прозы авторов рубежа XX—XXI веков.
Цель исследования:
Выявить и охарактеризовать набоковские стилевые черты и философско-эстетические принципы в прозе писателей рубежа XX-XXI веков.
Поставленной целью определяются следующие задачи:
выявить специфику восприятия современными прозаиками философской картины мира В. Набокова;
охарактеризовать особенности проявления комплекса эмигрантского сознания и его влияние на мировосприятие писателей;
определить круг стилистических открытий В. Набокова и охарактеризовать особенности интерпретации современными прозаиками исследуемых компонентов набоковских произведений;
выявить специфику влияния набоковской фоносемантической практики на стилистические особенности прозы современных писателей.
На защиту выносятся следующие положения:
Для В. Набокова и писателей рубежа XX-XXI веков понятие эмиграция приобретает метафизический статус, так как ситуация пересечения границы связана с потерей культурного мира. Эмигрантский комплекс «потери родины» в произведениях современных авторов М. Палей и М. Шишкина получает дополнительные коннотации: поиск и обретение писательской свободы, для получения которой необходимо реализовать свой дар в творчестве.
Набоковская тема потусторонности и ее знаков оказывается востребованной современной литературой в ряде аспектов. Если в произведениях В. Набокова «избранные» персонажи переходят посредством авторской воли границу, отделяющую «реальное» от «ирреального», то герои романов современных прозаиков лишены подобной возможности, несмотря на присутствие знаков иного мира в произведениях. В романе «Клеменс» М. Палей окно в потусторонность для героя оказывается закрытым. О. Славникова либо декодирует тему судьбы и ее знаков, переводя ее из онтологической в разряд бытовых (в романе «Один в зеркале» с помощью темы посланий судьбы разрешается тема житейского тупика, в произведении «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» - проблема взаимоотношений матери и дочери), либо намекает на невозможность познания иного мира, так как он скрыт от глаз непосвящённых (в романе «2017» образ прозрачного минерала синонимичен потусторонности; он только единицам приоткрывает свои грани).
Постижение стилевого опыта В. Набокова выражается в прозе современных авторов не в «калькированном» переносе его образов-«визитных карточек» (бабочки, шахматы, куклы, зеркала, девочки-нимфетки), а в трансформации их семантического ареала. Писатели рубежа XX-XXI веков актуализируют либо только одну из граней «многоаспектных» набоковских образов (например, зеркало для О. Славниковой - предмет, встреча с которым выявляет принадлежность персонажей к разряду кукол, созданных автором; для М. Палей — метафора памяти; для А. Черчесова — предмет, принимающий участие в языковой игре), либо «освобождают» форму от «набоковского содержания» (например, Б. Акунин рационализирует шахматную игру, нивелируя ее мистическую составляющую, а для С. Соколова бабочка - не вестник извне или символ искусства, как у Набокова, а сиюминутное лингвистическое открытие).
В творчестве современных авторов востребованными оказываются не отдельные образы, позиционируемые в литературоведении как специфически набоковские, а целый ряд его писательских открытий (например, для М. Палей актуальны набоковские образы художника и его произведения, памяти, потусторонности и ее посланий, бабочек, кукол, темы отчаяния, тупика, фобий).
Набоковское пристрастие к ритмико-фонетическим средствам создания художественного образа отражено в стилистическом рисунке произведений современных авторов, активно использующих излюбленные писателем приемы: анаграммы, аллитерации, ассонансы, палиндромы, каламбуры, встроенные в прозаический текст рифмы. Данные средства создания языковой выразительности не являются исключительной принадлежностью художественного мира В. Набокова, однако употребление их вкупе с остальными набоковскими образно-тематическими комплексами в текстах делает правомерным утверждение о том, что они были заимствованы современной русской литературой из
прозы классика. Преемники В. Набокова воспринимают его фоносемантическую практику фрагментарно, абсолютизируя тот или иной прием. С помощью фонетических средств может актуализироваться философская линия текста (например, у М. Палей звуковые соответствия служат средством раскрытия тем свободы, тупика и фобий, у М. Шишкина созвучия и палиндромы — средство создания образа «текучего мира»), но главным образом данные приемы популяризуются (например, анаграммы и каламбуры в романах Б. Акунина и А. Черчесова).
Теоретическую базу настоящей работы составили следующие работы:
1. Книги крупнейших отечественных и зарубежных
набоковедов (В. Александров, С. Давыдов, Н. Букс, С.
Ильин, Б. Бойд, Д.Б. Джонсон, О. Сконечная, А.В. Леденев
и др.);
Труды, посвященные исследованию феномена интертекста (Р. Барт, X. Блум, Б. Гаспаров, А. Жолковский, П. Тамми);
Работы, направленные на освещение проблем воздействия художественного мира одного или ряда авторов на стилистический рисунок прозы другого (А. Леденев, И. Золотусский, Э. Найдич, В. Чеботарева, М. Чудакова и др.);
Исследования по фоносемантике (А. Журавлев, Г. Шапиро, Л. Зубова, А. Бубнов).
При анализе особенностей сюжетно-композиционных, мотивных соответствий в прозе современных авторов и В. Набокова, а также рецепции его философско-эстетических воззрений мы опирались на работы Бартона Джонсона [226], Э. Пайфер [253], В. Александрова [46], Г. Барабтарло [56, 60], Ю. Левина [123], М. Медарич [152].
Бартон Джонсон в своем исследовании восстанавливает связь между стилистическим приемом писателя и порождающим его авторским воображением. По мнению автора работы, мир творчества представлен
двумя или более мирами, каждый из них обусловлен высшим, более реальным миром, и включает в себя предыдущий низший мир, первый, мир героя. Он выступает своего рода отражением высшего, более реального мира повествователя, который, как следствие, обусловлен подлинным миром писателя Набокова.
Элен Пайфер утверждает, что путь в подлинный, потусторонний мир открыт в произведениях Набокова только избранным персонажам.
Г. Барабтарло выделяет в текстах В. Набокова «потустороннее вмешательство», второй план, который имеет тенденцию «просачиваться» в реальный. При этом «реальный» становится фикцией, а «потусторонний» - истинным.
Исследуя проблему взаимодействия «реального и нереального» Ю. Левин именует поэтику В. Набокова поэтикой просачиваний и смешений отличных друг от друга художественных планов произведения, называет художественный мир писателя «биспациальным», а соотношение между воображаемым и реальным миром определяет как взаимопроникновение и отталкивание.
М. Медарич выделяет особенности набоковской модели письма и предлагает использовать при анализе произведений писателя метод «синтетического анализа» [152, с. 465], который наиболее объективно отразил бы особенности набоковской поэтики, роднящее «его как с писателями символистами (дуалистическое понимание действительности, орнаментальность), так и с авангардистами (интертекстуальность)» [152, с. 465].
Задача исследования интертекстуального компонента решается нами на базе трудов, посвященных изучению феномена интертекста (Р. Барт. Ю. Кристева) и исследований в области интертекстуального анализа текста (А. Жолковский).
1 ?
Согласно трудам Ю. Кристевой и Р. Барта , текст более не воспринимается как локальное, замкнутое на себе целое. Ю. Кристева называет интертекстуальность универсальным свойством всех текстов. Любой текст — это мозаика цитат, текст - продукт впитывания и трансформации какого-либо другого текста. С точки зрения Р. Барта текст, состоящий из цитат другого текста и являющийся источником для цитирования других авторов, становится бесконечным.
В исследовании А. Жолковского [30] акцент делается не на «теории междутекстовых связей, а на ее применении к конкретным явлениям русской литературы» [30, с. 8]. Интертекстуальный подход, по мнению исследователя, «далеко не сводится к поискам непосредственно заимствований и аллюзий, открывает новый круг интересных возможностей. Среди них: сопоставление типологически сходных явлений (произведений, жанров, направлений) как вариации на общие темы и структуры; выявление глубинной (мифологической, психологической, социально-прагматической) подоплеки анализируемых текстов; изучение сдвигов целых художественных систем, в частности, описание творческой эволюции автора как его диалога с самим собой и культурным контекстом» [30, с. 8]. Метод интертекстуального анализа мы применяем в качестве вспомогательного при выявлении семантических эффектов, возникающих в текстах современных авторов при обращении к В. Набокову.
Задача изучения фоносемантического слоя решается на основе методологической базы, которую составляют исследования А. Журавлева [32], Г. Шапиро [184], Л. Зубовой [34], А. Бубнова [25] и др.
Теоретические положения фоносемантики сформулированы А. Журавлевым в монографии «Фонетическое значение». По мнению исследователя, звуковая форма слова обладает символическим значением,
1 Kristeva J. S'emiotike':Recherches pour une s'emanalyse. — P, 1969.
2 Барт P. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. - М., 1898.
которое в «силу действия мотивировочной тенденции должно подчеркивать понятийное значение слова» [32, с. 15]. В работе автором разбирается один вид символического значения языкового знака -символика звуков речи и, соответственно, один тип мотивации -«соответствие символико-содержательного аспекта звуковой формы слова его понятийному значению» [32, с. 15]. По мнению А. Зубовой, «язык в его письменной форме, чаще чем в устной, становится основой художественного образа» [34, с. 17]. К числу работ, анализирующих набоковскую фоносемантику, мы относим исследование Г. Шапиро, который обратился в статье к «проблеме авторского самообнаружения в произведениях Набокова» [184, с. 65].
К числу работ, посвященных проблемам воздействия художественного мира одного автора на стилистический рисунок прозы другого, мы относим исследования А. Леденева [210], И. Золотусского [33], Э. Найдича [35], В. Чеботаревой [38], М. Чудаковой [40] и др. Из данных работ мы берем модели интерпретации творчества одного писателя сквозь призму другого.
Методика исследования обусловлена материалом и задачами
настоящего исследования. В данной работе был применен метод
интертекстуального анализа, рассматривающий литературное
произведение как мозаичное панно цитат, смысл которого заключается не просто в обнаружении «литературного адреса», сколько в интерпретации отношений, возникающих между текстами; метод мотивного анализа, в основе которого лежит исследование мотивов, повторяющихся и варьирующихся в тексте, и создающих его неповторимый рисунок; «кластерный подход», предложенный А. Жолковским [31] и примененный им при характеристике интертекстуального слоя стихотворения А.С. Пушкина «Я Вас любил...». Подобный подход к произведению, как показывает А. Жолковский, позволяет увидеть, что структура данного текста является сильной интертекстуальной призмой, «пучком»
(«кластером») тематических и формальных характеристик, которые обладают «мощной способностью к самовоспроизводству во множестве более поздних текстов» [31, с. 395]. Согласно нашей точке зрения, творчество В. Набокова выступает в роли «кластера», чьи «комплексы формальных и тематических» параметров воспроизводятся в текстах авторов рубежа XX — XXI веков.
Теоретическая значимость диссертации заключается в рассмотрении произведений Б. Акунина, В. Месяца, М. Палей, О. Славниковой, Саши Соколова, Т. Толстой, А. Черчесова, М. Шишкина в свете традиций В. Набокова и осмыслении перспективности и художественной продуктивности набоковских стилевых открытий; в создании модели анализа, которая может быть использования при исследовании контакта современной литературы с литературной традицией.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования её результатов при разработке лекционного курса и материалов для спецкурса и спецсеминара по истории русской литературы XX - XXI веков.
Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов обеспечивается методикой анализа, объёмом исследованного материала и научно обоснованной теоретической базой диссертационного исследования.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 10 публикациях. Результаты исследований, выполненных по теме диссертации, были представлены на научных конференциях: «Литература в диалоге культур-3» (Ростов-на-Дону, 2006), «Новейшая русская литература рубежа XX—XXI веков: итоги и перспективы» (Санкт-Петербург, 2007), «Человек в информационном пространстве» (Ярославль, 2006), «Человек. Русский язык. Информационное пространство (Ярославль, 2007), «Чтения Ушинского» (Ярославль, 2008).
Соответственно поставленным задачам определена структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав (в состав которых входит 6 параграфов), заключения и библиографического списка, который насчитывает 435 наименований.
Эмигрантский комплекс «потери родины» в современной русской прозе
XX век в России превратил историческую ситуацию изгнания писателя за пределы родины в явление национальной культуры. Тем самым эмиграция явилась знаковым явлением общественной жизни.
Прежде чем перейти к исследованию специфики представления быта эмигранта на страницах литературы рубежа XX-XXI веков, вычленим известные аспекты, характеризующие мировосприятие писателей и поэтов «Русского Зарубежья».
Крайняя неоднозначность феномена эмиграции подчеркнута при толковании этого понятия: «вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну по политическим, экономическим или иным причинам» . Эмиграция — следствие самоопределения человека, в России после 1917 года она представляла собой массовый, вынужденный отъезд интеллигенции по политическим причинам и, как следствие, овеяна ореолом трагизма.
Первая волна русской эмиграции сформировала «новое государство» - «Русское Зарубежье», которое было ориентировано на прежнюю систему ценностей. Безусловно, на вопрос о причине отъезда у каждого литератора был свой ответ, но какие бы аспекты — философские, социально-бытовые, политические - ни доминировали в неприятии новой власти, писателей и поэтов объединяло сознание, что эмиграция — это не «простое бегство туда, где жить приятней и безопасней» , а миссия, которая состояла в том, чтобы «сохранить, развить и приумножить русскую культуру»5.
Пересечение границы, осознание невозможности возвращения назад для людей явилось особенно травматичным и сформировало в их сознании эмигрантский комплекс «потери родины». Фактически, литераторы были выброшены за пределы литературного процесса, попав в иную культурную среду. По словам Г. Струве, «первые годы эмиграция еще чувствовала транзитность своего состояния между покинутым «там» и еще неопределившимся «здесь». Многие считали пребывание на Западе делом временным»6.
Эмигранты были вынуждены выстраивать заново привычный для себя литературный мир, но оставались разрозненными. Критик Г. Адамович видел основные причины разрозненности в «отсутствии единого процесса развития» . Однако, по мнению В. Ходасевича, объединяли художественные произведения мотивы одиночества и выброшенности, возникшие потому, что «молодая литература не обрела себе родины» . Но, согласно Ходасевичу, «национальность создается ее языком и духом, а не территорией» .
Несмотря на всеобщее в среде эмигрантов ощущение маргинальной безместности, деятели культуры чувствуют свою потребность сочинять, ведь за границей, в изгнании, говоря словами В. Набокова, «спасает только талант»10.
Литературный процесс в крупнейших эмигрантских центрах был восстановлен за короткий срок, за пределами России была создана развитая литературная инфраструктура: кружки, газеты, журналы. За годы революции и гражданской войны страну покинуло около трех миллионов человек, среди которых были литераторы разных мировоззрений, школ: А. Аверченко, Г. Адамович, К. Бальмонт, И. Бунин, 3. Гиппиус, В. Иванов, Г. Иванов, А. Куприн, Д. Мережковский, В. Набоков, Н. Тэффи, В. Ходасевич, И. Шмелев и другие.
Писатели второй и третьей волн эмиграции, в отличие от предшественников, перешли уже в организованную литературную среду. Однако если говорить об эмигрантах первой волны, переживших травму изгнания, нужно подчеркнуть его значимость как фактора, повлекшего за собой осмысление свободы и своего места в претерпевшем трансформацию мире.
В. Набоков - один из тех литераторов, который, оказавшись в «изгнании», попал в необжитое литературное пространство, поэтому он смог, с одной стороны, создать вокруг себя герметичный уникальный мир, а с другой - оказаться открытым влиянию той культуры, к которой он приобщался, и непосредственно влиять на нее.
Евгений Ермолин в статье «Ключи Набокова. Пути новой прозы» указывал на то, что Набоков органично совпал «с тем типичным положением, в котором находит себя русский писатель в одной отдельно взятой исторической ситуации. В ситуации пост: после России и даже после СССР» [94, с. 433].
Эмигрантский комплекс потери родины глубоко пережит и осмыслен В. Набоковым. Подобное состояние имеет не только географический смысл, его пропускает через себя каждый мыслящий современник; сменяются эпохи, личностно пережитое уходит в прошлое, человек оказывается в ситуации выбора между существованием на родине, потерявшей свои привычные очертания, и переездом за границу, туда, где никто не ждет. Для Набокова родина — благословенный «детский рай», сакральное прошлое, «волшебное состояние между ребенком и окружающим миром» , которое исчезло в момент изгнания из него. По мнению В. Ерофеева, «изгнание из рая является само по себе мощной психической травмой, «переживание которой и составляет префабульную основу русскоязычных романов Набокова» [96, с. 127]. Писатель В. Набоков за тот короткий срок пребывания на «исторической» родине не смог укорениться в литературном процессе, занять свою писательскую нишу и, вероятно, как следствие этого, в эмиграции оказался «одиноким королем». Владимир Набоков как писатель в изгнании оказался один на один с бытием без опоры и помощи . Однако он смоделировал собственный писательский путь: предельная творческая свобода, заданная свободой выбора без принимаемых априори «истин». Подобный подход к миру позволил автору возводить в абсолют слова. Набоков утверждал, что культура, история, политика не должны оказывать на писателя ни малейшего влияния, поскольку у него есть «язык» и «вдохновение». Язык, из которого он может создать любой художественный образ, и вдохновение, порождающее внезапный живой образ, молниеносно выстроенный из разнородных деталей. И язык, и вдохновение помещают художника в особый мир, «башню из слоновой кости», о которой В. Набоков писал в эссе «Искусство литературы и здравый смысл».
Знаки потусторонности» в прозе В. Набокова, романах О. Славниковой и М. Палей
Набоков унаследовал от художников-символистов мысль о том, что в окружающей его реальности отражается инобытие, которое писатель назвал «потусторонностью», прорывающуюся в этот мир под видом знаков. Здесь стоит отметить, что сам писатель отвергал прямые пути к постижению абсолютного, заставляя пройти читателя через «заботливо» расставленные ловушки.
На значение феномена трансцендентального в произведениях В. Набокова и возможность его неверного истолкования впервые указала В. Набокова в «Предисловии» к посмертному изданию его стихов в 1979 году: «Теперь, посылая этот сборник в печать, хочу обратить внимание читателя на главную тему Набокова. Она, кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все его творчество. Я говорю о «потусторонности», как он сам ее называл» .
О. Славникова и М. Палей, следуя за классиком, указывают в своих произведениях на наличие тайны, трансцендентального бытия. В романе М. Палей «Клеменс» появление в семье переводчика Майка загадочного немца Клеменса наводит героя (Майка) на мысль о существовании недосягаемого мира. В романах О.Славниковой («Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «2017») повествователи неоднократно намекают, что пространство, в котором присутствуют гармония и красота, находится где-то рядом, но герои его по каким-то причинам не замечают. На основании подобных наблюдений мы строим гипотезу о рецепции метафизических поисков Набокова писателями Славниковой и Палей.
Потусторонность — категория, несущая в себе метафизический потенциал. По словам В. Александрова [46], она базируется на вере В. Набокова в существование упорядоченного нематериального пространства, которое вносит порядок в посюсторонний мир.
В романе «Приглашение на казнь» явно ощущается вера в потусторонность, в свете которой бессмысленные страдания Цинцинната Ц, живущего в абсурдном мире, ведут к нравственному очищению и способствуют переходу от мнимого «кукольного» существования в пространство инобытийной свободы.
Несмотря на связь Цинцинната с потусторонностью, примет ее в романе не много. Читателю ясно лишь то, что тот мир — полная противоположность здешнему, кукольному. Огромная ночная бабочка, предназначенная для тюремного паука, но спрятавшаяся от неминуемой смерти под койкой - послание из иного мира, маскирующегося от чужих глаз.
По мнению Набокова, писатель наделен способностью превозмогать время, особенно ярко эта мысль звучит в «Других берегах» и «Даре». Он, подобно художнику, находится в нерасторжимой связи с миром трансцендентальным. Мысли Федора Годунова-Чердынцева относительно природы творчества имеют платоновский характер: каждое написанное им произведение сопровождается предчувствием, что оно уже существовало, а ему остается только совершить обратный перевод из некоей идеальной формы в рукописную.
Автор-творец, по мнению Набокова, также обнаруживает свою потустороннюю природу. Исследователи творчества писателя С. Давыдов [84], В. Александров [46] не раз демонстрировали внутреннюю связь между словом Цинцинната и словом повествователя, а именно их согласие относительно ирреальности материального мира, неразличение переходов от письма героя к речи рассказчика и т.д. В эпизоде, где Цинциннат просит принести ему каталог книг из тюремной библиотеки, повествователь восклицает: «Какая тоска, Цинциннат, какая тоска!» [6, т. 4, с. 27], а когда сам герой, рассуждая об обостренной писательской чувствительности, старается записать свои мысли, то в его сознании всплывает это же слово «тоска», которое он повторяет.
Время, в котором живет Цинциннат, он представляет как промежуток между движением человека и его тени. В самом начале романа «Приглашение на казнь» повествователь сравнивает оставшуюся жизнь героя с книгой, которая в процессе прочтения становится тоньше и тоньше, и карандашом, в финале превратившимся в огрызок. В «Приглашении на казнь» потусторонняя природа Цинцинната побеждает смерть, он перешагивает границу земной жизни, совпавшую с финалом закончившегося романа, и переходит в иное, вечное существование на страницах книги.
На потустороннюю природу литературного произведения указывает текст, предваряющий роман Палей «Клеменс» и написанный самим Клеменсом, который повествует о таинственном появлении рукописи в ящике стола после исчезновения ее автора. По словам жены Майка, ее муж пропал, и его уход она связывает с «загадочными изменениями» в зеркалах их квартиры.
В эпизодах, пророчествующих о скором исчезновении героя, звучат мотивы набоковских романов «Приглашение на казнь» и «Дар», а именно мотив перехода в другой мир. В романе «Дар», в первом диалоге Федора Константиновича с Кончеевым о стихотворении, над которым Годунов-Чердынцев сейчас работает, Федор говорит о лирическом герое, который не выпьет воды из Леты, так как ему важно помнить, память — это мост, по которому можно перейти в потусторонность, «таким образом, подчеркивается благодетельный эффект воображаемого шага» [6, т. 3, с. 136] и то, что смерти нет: Федор, возможно, там (за пределами «объективной реальности») встретится со своим отцом, а Александр Яковлевич Чернышевский с сыном.
Образ времени и способы его создания в романах В. Набокова «Приглашение на казнь» и О. Славниковой «Один в зеркале»
Роман О. Славниковой «Один в зеркале» открывается отсылающей к «Приглашению на казнь» фразой: «Итак - подбираемся к концу», а заканчивается этой же перефразированной цитатой, таким образом, он заключается в плотное кольцо набоковского романа: «От романа, чью толщину усталый читатель наверняка промерил на глазок... осталось каких—то жалких три странички» [6, т. 4, с. 244].
Одним из ключевых образов, объединяющих произведения В. Набокова и О. Славниковой, является образ остановившегося времени. Герой романа «Приглашение на казнь» Цинциннат «характеризует» в одной из записей свой опыт переживания времени: во сне ему является человек, двинувшийся от стены, а тень за ним последовала не сразу: «между его движением и движением отставшей тени,— эта секунда, эта синкопа,- вот редкий сорт времени, в котором живу» [6, т. 4, с. 29]. Он находится в плену у кукольного мира и поэтому, как заключенный, лишен будущего. На карте его реальности оно предопределено. Почти все главы романа «Приглашение на казнь» построены по единой композиционной схеме, каждая повествует об одном дне из жизни Цинцинната. Они начинаются с пробуждения, а завершаются, когда герой засыпает (эта кольцевая композиция подчеркивает безысходность положения узника). Однако в последних главах хронологическая предопределенность смены дня и ночи намеренно размыта. Заданное математическое устройство календаря отменяется, иллюзорный мир, в котором существует Цинциннат, разрушается, и он переходит в иное пространство бытия, «где... стояли существа подобные ему» [6, т. 4, с. 130]. Мир, создаваемый памятью и воображением героя (прошлое), непротиворечив и гармоничен - это мир вдохновения, любви, Тамариных Садов. Тюрьма (настоящее) — сочетание унылого порядка с абсурдными действиями персонажей-кукол, получивших самоуправление, чей механизм внезапно дает сбои в финале романа.
Описанная в романе О. Славниковой «Один в зеркале» семейная жизнь Антонова — зеркальное отражение его лишенных взаимности отношений со временем. Вика, погруженная в бесконечный «настоящий момент», отказывается признать право мужа на прошлое, воспринимая его жизнь до встречи с нею как несуществующую. Любовь к Вике уничтожает все составляющие жизни Антонова: его друзей, математический дар, прошлое, настоящее, превращая в финале романа в человека, потерявшего смысл своего существования.
Антонов остро переживает распад времени, оно теперь разделено на два отрезка: советское и постперестроечное. Повествователь подбирает к этому «событию» визуальный аналог: «понизу улицы, особенно центральные, сплошь оделись... в стекло и зеркала... зато наверху... высились руины прежних зданий... Прошлое отделяла от настоящего инфернальная трещина, которая могла отныне только расширяться» [16, с. 235]. Прошлое героя стабильно: школа, институт, аспирантура, будущее враждебно, так как, по мнению героя, возникает из зеркала. Настоящее, как и для Цинцинната, симулятивно, это фирмы и фирмочки, например, компания ЭСКО, делающая деньги из воздуха, где работает Вика, «декорация, аттракцион, временное украшение для какого-то... праздника» [16, с. 25].
Таким образом, Антонов, герой романа Славниковой, — жертва своего постперестроечного социального устройства, непризнанный гений математики, дар которого в настоящем времени не нужен. Приметой изображаемой эпохи становится разрыв прошлого и настоящего в судьбе персонажа. Роман «Один в зеркале» - роман о расколотом времени, которое «лишилось возможности» складываться в историю. По ходу сюжета герой осознает, что все, что наполняет его существование содержанием и смыслом, исчезает, так как у него «отняли жизнь». Перемены «облика города», с которым связывались события его жизни, воспринимаются как потеря прошлого. Лейтмотивом семейной жизни героя становится исчезновение Вики то на «корпоративные вечеринки», то к вымышленным подругам. Переживание постоянного отсутствия жены оборачиваются для героя исчезновением времени. Без Вики его жизнь остан ав ливается.
Однако если Цинциннат проходит путь интуитивного прозрения, который выводит его из мира остановившегося времени, то Антонов совершает нисхождение, перемещаясь из богатого событиями пошлого в кукольное небытие настоящего, которое лишает его жизнь смысла.
В романе «Приглашение на казнь», равно как и в других произведениях Набокова, исследователи выделяют преобладающий механизм представления времени, спациализацию, такой способ подачи художественного времени и актуализации его в восприятии читателя сравним со «зримым временем». В. Набоков писал, что он «...был бы рад, если бы под конец... книги у читателя возникало ощущение, что мир ее уменьшается, удаляясь, и замирает где-то там, вдали, повисая, словно картина в картине» [46, с. 120]. Многие произведения Набокова «снабжаются» зримыми метафорами времени (часами, маятниками). В «Приглашении на казнь» время «крашеное», «каждые полчаса сторож старую стрелку и малюет новую... а звон производит часовой» [6, т. 4, с. 77], оно - метафорический образ-символ ненастоящего, кукольного мира, окружающего Цинцинната, а время, которое отпущено герою, эмблематически представлено как карандаш, спутник узника, сначала длинный, а в финале превратившийся в огрызок.
О. Славникова активно использует сходный прием в представлении времени: бесконечно разрастающийся Герин исторический роман (явно бездарный) отсылает нас к произведению «Quercus», которое читал Цинциннат, и символизирует симулятивную реальность мира, окружающего Антонова. Рукопись докторской диссертации главного героя, молчащая в начале романа, в финале превратившаяся в кучу перегноя, - полное разрушение его жизни.
Семантические аспекты образов бабочки и куколки в современной прозе
Бабочка стала факсимильным знаком писателя В. Набокова, в искусстве и жизни которого лепидоптерология соединилась со «стилистически ажурной» прозой. В данном параграфе мы рассмотрим вопрос о том, какими коннотациями обрастает именной знак писателя (бабочка) и связанный с ним семантический ореол в художественном мире О. Славниковой, В. Месяца и Саши Соколова.
Набоковский образ куколки в произведениях его последователей порой приобретает «антропоморфные» черты. Учитывая пристрастие писателя к ведению «диалогов» с читателем сразу на трех языках, мы можем утверждать, что в героине Лолите из одноименного романа он видел куколку (англ. dolly), которой суждено было раскрыться на страницах романа, подобно бабочке.
Мотивы скандально известного романа В. Набокова «Лолита» обретают свою «вторую жизнь» на страницах книг современных авторов. Образ тринадцати-четырнадцатилетней девочки-нимфетки - залог успеха будущего произведения. Образ Лолиты тиражируется в массовой культуре, где писатели стремятся воспроизвести только ту грань романа, которая была бы интересна современному потребителю: дихотомия «демоническая женщина» - «ребенок-совратитель». Зачастую авторы массовой литературы просто называют своих героинь по ходу сюжета «Лолитами», тем самым «подключаются» к коду набоковского произведения, вызывая из памяти читателя образ девочки. В романе С. Лукьяненко «Последний дозор» девушка-демон, в одном эпизоде пытающаяся соблазнить главного героя, названа «Лолитой». Анализ подобных интерпретаций представляется нам малопродуктивным, так как в них опущено переосмысление философской линии текста. Рассмотрим два романа (В. Месяц «Правила Марко Поло», О. Славникова «Один в зеркале»), авторы которых обращаются к фабуле «Лолиты».
Роман В. Месяца «Правила Марко Поло» в аннотации назван критиками «Антилолитой». Подобная характеристика, с одной стороны, заставляет искать следы набоковского присутствия, а с другой — вычленять отличия. Вслед за Набоковым Месяц разворачивает действие в США. Пространство романа населяют дизайнер Роберт (Боб) Салливен, его русская жена Наташа, их друзья и деловые партнеры, в том числе семейство Сингатиков с их четырнадцатилетней дочерью Моник. Место действия - Америка, одновременно и рациональная, и сентиментальная. Роман открывается описанием памятника девочке-подростку Джиллиан Ли Коллинз, погибшей под колесами автомобиля, у надгробия которого дети устроили своего рода «игрушечный музей»: «Портрет на прикрепленном к стволу дерева большом металлическом кресте белого цвета напоминает о ее красоте и юности. Длинноволосая, тоненькая, улыбающаяся: она не меняет выражения лица в окружении лубочных розочек, наклеенных на верхние окончания распятий, и большого желтого Винни-Пуха, расположенного под портретом. На левом крыле креста висит контурное изображение тыквы с прорезями для глаз и рта, рядом — другая тыковка, из папье-маше: дети отмечают вместе с Джиллиан свои праздники. До Рождества еще далеко, но они принесли сюда елочные игрушки: бумажные фонарики, шары...» [8, с. 7], памятник в скором времени подлежит сносу: «Возможно, я зря задаюсь столь возвышенными вопросами: судьба Джиллиан Коллинз — не мое дело, и заинтересовался я детским капищем лишь потому, что мы с женой и партнерами купили недавно большой надел земли, включающий в себя и этот захламленный участок... Могилку придется снести. Я не вижу никакого разумного повода для ее сохранения» [8, с. 8]. Заданная с первых страниц тема наивного мира ребенка и рационализма взрослого будет развиваться на протяжении сюжета романа. Образ погибшей девочки отсылает к нескольким произведениям: набоковской «Лолите» и рассказу И. Бунина «Легкое дыхание». Их сюжеты напоминают о погибшей молодости.
И в произведении В. Набокова, и в романе В. Месяца главного героя «добиваются» девочки-«Лолиты». Роберта, персонажа романа «Правила Марко Поло», преследует дочка его приятелей четырнадцатилетняя Моник, которая не брезгует даже шантажом: «Я люблю тебя, Роберт. Я хочу, чтобы ты был первым моим мужчиной. Я готова пойти на что угодно... на любое преступление... я брошусь под поезд» [8, с. 129]. В финале она похитит новорожденных близнецов героя и окажется в тюрьме. Но интертекстуальность сюжета «Правила Марко Поло» - не единственный знак «присутствия» Лолиты. Героиня носит имя Моник, также Гумберт называет юную проститутку (Моника), в монологе о встреченных им нимфетках, она в его воспоминаниях останется навсегда такой, какой была в продолжение тех двух-трех минут» [7, с. 34], то есть нимфеткой, но это определение будет принадлежать только Лолите. Повествователь несколько раз называет Моник «Лолита моя» или, перенимая набоковскую манеру письма, сокращает ее имя до первых двух букв «Мо». Однако Моник лишается ореола поэтичности набоковской героини, которая на первой странице рождается из сочетаний звуков «Ло-ли-та». Роберт в отличие от Гумберта видит изначально не нимфетку — плод его воображения, а вполне реальную девочку-подростка, думающую, что в году 7 месяцев, которая хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и желает привлечь внимание своими выходками.