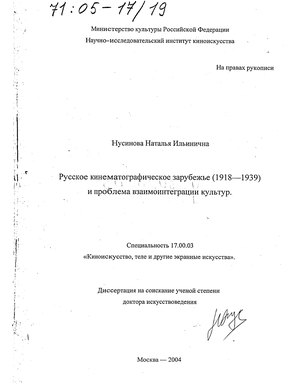Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Перед выбором. Русское кино на перепутье 21
Глава 2. Русские кинематографисты в изгнании
1. Путь на запад. крым и турция — окно в европу 39
2. Русское кино в европе
2.1. Новый Вавилон. Рассеяние русских студий 61
2.2. Борьба за национальный стиль, или Рождение кентавров 95
2.3. Мифология эмигрантского фильма 114
2.4. Прага — культурная окраина 125
3. Русское кино в Америке
3.1. Русский Голливуд: поглощение и порождение 140
3.2. Россия в американском кино: эволюция имиджа 176
Глава 3. Русская культура в изгнании
1. Экран как пристань сцены
1.1. Константин Миклашевский против Шарля Спаака: кто автор «Героической кермессы»? 192
1.2. Евреинов—кинематографист и прорицатель 205
2. Литераторы и кино — ради хлеба насущного
2.1. Александр Куприн — годы изгнания как жизнь в кинематографе 229
2.2. Евгений Замятин — эмиграция как бегство от себя 251
2.3. Судьба одного сюжета: «Пиковая дама» в изгнании 274
Глава 4. Кинематографисты над кинематографом — причащение и канонизация
1. Миф Ивана Мозжухина 293
2. Волшебник из Фонтенэ — Владислав Старевич 319
Заключение 329
Приложения
- Перед выбором. Русское кино на перепутье
- Борьба за национальный стиль, или Рождение кентавров
- Россия в американском кино: эволюция имиджа
- Кинематографисты над кинематографом — причащение и канонизация
Введение к работе
Изучение культурного наследия русской эмиграции первой волны стало возможным в нашей стране лишь после отмены советской цензуры. На протяжении многих лет огромный пласт русской культуры был искусственно изъят из поля зрения ученых, помещен в спецхран, подвергнут остракизму, а зачастую, и поруганию. В последние пятнадцать лет эта лакуна интенсивно заполнялась российскими исследователями. Благодаря их усилиям через много лет после своей кончины на родину вернулись великие писатели, художники, музыканты, покинувшие ее после октябрьской революции. Появившиеся в пост-перестроечные годы, книги и другие публикации о Сергее Рахманинове, Федоре Шаляпине, Иване Бунине, Владиславе Ходасевиче, Владимире Набокове, Василии Кандинском, Наталии Гончаровой, Михаиле Ларионове и др. открывают перед нами новую страницу нашей истории, помогают понять общекультурный контекст жизни российской эмиграции. Важную роль в истории русской зарубежной диаспоры играл кинематограф, также ставший предметом изучения российских исследователей. В первую очередь это касается ключевой для кино-эмиграции фигуры Ивана Мозжухина — его творчеству посвящена книга Н.М.Зоркой/1/, обратившейся к эмигрантскому кино еще в доперестроечные годы, фильм Г.Е.Долматовской «Иван Мозжухин или Дитя карнавала» (Москва: НИИК, 1999 г.), а также ряд публикаций в журнале «Киноведческие записки», с самых первых номеров регулярно печатающих материалы о русском кинематографическом зарубежье. Действительно, творчество Ивана Мозжухина, также как и наследие Александра Волкова, Владислава Старевича, Ольги Баклановой, Ольги Гзовской, Михаила Чехова, Григория Хмары, Федора Оцепа и многих других кинематографистов заслуживают отдельных исследований, которые несомненно появятся в будущем. Однако до сегодняшнего дня ни в нашей стране, ни за рубежом не появилось еще научного труда, посвященного феномену
эмигрантского кино в целом. Предлагаемое диссертационное исследование стагит перед собой целью рассмотреть данный феномен под определенным углом зрения: с точки зрения проблемы взаимопроникновения и взаимоинтергации культур, вопросов культурной ассимилляции, неизбежной для эмигрантов несмотря на их стремление сохранить самобытность в изгнании. Русское кино, развивающееся в разных странах Европы и в Америке, видоизменяется, приобретая новые формы и наполняясь новыми смыслами в зависимости от национальной специфики и культурной традиции страны, приютившей изгнанников. Феномен эмигрантского кино как и эмигрантской культуры в целом воспроизводит ситуацию взрыва и порожденной им культурной дисгармонии, которая впоследствии упорядочивается, приобретая черты новой знаковой системы. Это явление было описано Ю.М.Лотманом, в зрелые годы уделявшего большое внимание изучению бытового и исторического контекста развития русской литературы, влиянию житейской среды и обстоятельств на творчество писателей. Предсказать последствия подобного взрыва невозможно, в каждом конкретном случае мы способны анализировать результат этого культурного феномена только постфактум: «Момент взрыва есть момент непредсказуемости. Непредсказуемость не следует понимать как безграничные и ничем не определенные возможности перехода из одного состояния в другое. Каждый момент взрыва имеет свой набор равновероятных возможностей перехода в следующее состояние, за пределами которого располагаются заведомо невозможные изменения. <...> До определенной точки они выступают как неразличимые синонимы. Но движение от места взрыва все более и более разводит их в смысловом пространстве. Наконец, наступает момент, когда они становятся носителями смысловой разницы. В результате общий набор смысловых различий все время обогащается за счет новых и новых смысловых оттенков. Этот процесс, однако, регулируется имеющим противоположное направление стремлением ограничивать дифференциацию, превращая культурные антонимы в синонимы»/2/.
Проведем аналогию с нашей темой: различая особенности фильмов русских эмигрантов, сделанных во Франции, в Германии, в Италии, в Чехословакии г в других странах (культурные антонимы, появившиеся в результате культурного взрыва), мы рассматриваем их тем не менее как часть единого феномена эмигрантского кино (культурная синонимия). Объединяющей основой для стилистики и семантики этих лент стал багаж русской культуры их создателей, традиции русского дореволюционного кино, в котором они работали до отъезда в эмиграцию, а также общая установка на консервацию традиций русской культуры в изгнании, характерная для «белой эмиграции» в целом. Процесс культурной ассимилляции, взаимоинтеграции в каждой данной стране культурного контекста и привнесенной традиции порождает феномен «культурных кентавров», представляющий с нашей точки зрения интерес для исследователей. Другими интересными аспектами той же проблемы являются феномен прихода в кинематограф деятелей разных областей русской культуры, в эмиграции вынужденных думать о хлебе насущном, найти который для них легче всего было на киностудиях, а также вопрос влияния русской традиции на кинематограф стран, давших кров их носителям.
Первый вопрос, на который необходимо поставить перед собой для подхода к интересующей нас проблеме, это вопрос о семантике кинематографа в эмиграции. Так что же представлял собой феномен эмигрантского кино, как он воспринимался психологически, как вписывался в общий контекст жизни русской эмигрантской диаспоры первой волны, каково было его место в ряду других искусств, каким социальным статусом наделялся кинематографист?
Русское зарубежье первой волны — это не просто несколько миллионов беженцев, покинувших родину после Октябрьской революции/3/ — это, скорее, империя, имеющая свое летоисчисление/4/, язык, историю, мораль и героев, имеющая даже свои государственные устои, но не имеющая своего государства.
«Великой иллюзией» ее народа — русских вне России — была вера в то, что большевики захватили власть ненадолго, что закон и порядок будут восстановлены, и тогда они вернутся на родину, выполнив свою историческую миссию защиты русской культуры от советского вандализма. Как вспоминала в нашей беседе в Париже в марте 1989 г. писательница и журналистка Зинаида Алексеевна Шаховская:
«Все мы были уверены, что вернемся в Россию и принесем обратно русскую культуру. И потому наша задача до того времени — сохранить свою сущность».
Ощущение важности этой задачи было тем сильнее, что в самой России старая культура решительно уничтожалась не только отрицанием или забвением ее, но и замещением ее новой «пролетарской культурой», сознательно создаваемой на основе марксизма. З.А. Шаховская в своих мемуарах о Владимире Набокове, с которым она была близко знакома, описывает страх эмигрантов перед культурной агрессией СССР как основу конфликта между русским зарубежьем и советской Россией, подчеркнуто отрицая существование каких бы то ни было иных — личных, психологических или же меркантильных мотивов.
«Совершенно несомненно, что Набоков ненавидел советский строй и Октябрьскую революцию совсем не из-за того, что он потерял свое состояние, я лично не знаю ни одного человека первой эмиграции, который бы ненавидел по этой причине, или даже за свое изгнанничество, новую власть. Все, и старые и молодые, — были уязвлены другим — <...> с самого начала резко обозначенным решением этой коммунистической власти покончить со всем прошлым России, уничтожить ее культуру, ее духовные и творческие ценности, т.е. ее личность»/5/.
Характерный для эмигрантов консерватизм мироощущения и попытка создания в русском зарубежье политически иммобильного общества был результатом изначальной установки русских беженцев на отношение к родному языку и культуре как к чему-то, что подлежит сохранению, защите от вредного воздействия окружающей среды и своего рода замораживанию до лучших времен.
Подобная установка на жизнь в изгнании как на временное пережидание, по-видимому, придавала эмигрантам силы для того, чтобы перенести выпавшие на их долю испытания судьбы. С самого начала двадцатых годов ситуация ясно осознается самими беженцами и описывается в эмигрантской печати:
«...Теперь уже русских колоний в германских городах в собственном смысле этого слова не существует, а есть только эмиграция. Все это люди, которых вынуждает жить в Германии только отсутствие возможности жить в России и даже ехать туда... их единственная, пока — увы! — невыполнимая надежда состоит в том, что настанет день, когда им удастся покинуть чужбину и вернуться в разоренную и опустошенную, но все же родную Россию. Все их усилия направлены к тому, чтобы выдержать и дотянуть до этого момента»/6/.
Для представителей русского зарубежья традиционные реалии русского быта приобретали в эмиграции особый смысл (так, например, «антоновские яблоки» из написанного еще в России, в 1900 г., рассказа И. Бунина после: революции превратились для изгнанников в ностальгический символ России).
Отождествление себя с плодами русской земли, которые не родятся и не приживаются на иной почве, для многих русских художников становится внутренним оправданием своей неспособности к ассимиляции. Таким, например, было в эмиграции самоощущение Федора Шаляпина:
«В России, точнее, в Ярославской губернии, растет сорт огурцов, размером в мой мизинец, но с особенно тонким ароматом. Если разводить эти огурцы за границей, скажем, в южной Франции, они достигают 18-ти дюймов в длину, но зато теряют свой букет.
То же происходит с артистами. Так было и со мной.
Я родился в России, и мое. искусство выросло в этой обширной стране. Русское солнце и русский воздух обветривали меня.
С тех пор, как мне пришлось покинуть мою родину, я скитаюсь по всему свету. Люди добры ко мне. Они хорошо платят за мое искусство и некоторые,
действительно, ценят меня. Другие любят меня и готовы помочь мне во всем. Но как бы они ко мне ни относились, и куда бы я ни попал, я чувствую себя чужестранцем, гостем, с которым полагается быть вежливым и любезным.
Я нигде не чувствую себя дома и знаю, что никогда не освобожусь от этого ощущения. Правда, гость имеет разные права. Для него делаются исключения и ему позволены разные вольности. Но он не может вести себя так, как если бы он был в кругу своей семьи, и он всегда должен спрашивать сам себя, может ли он сделать то или иное/7/.
Русская эмигрантская печать, уже в начале 20-х годов, призывала соотечественников не падать духом и продолжать в изгнании создавать русскую культуру в ее классических формах.
«...Российская интеллигенция. Все, что накопила она долгими годами, выкинули за окно, как ненужный, надоедливый хлам.
Но не тут-то было... Не прошло и года, как заискрился всеми цветами радуги многогранный, переливчатый, неиссякаемый русский талант. Заиграли в Софиях, Белградах, Прагах и Берлинах — наши художественники, сверкнули красочными вымыслами Дягилев и Бакст, плавным видением пронеслись Анна Павлова и Карсавина, "жемчужной россыпью" блеснули русские поэты и наши выставки и журналы, такие яркие и победные.
Помните, старый Щербацкий говорит в "Анне Карениной".
"— Все они довольны, блестят, как медные гроши, всех победили... Ну, а мне чего же быть довольным: я никого не победил"...
А раз мы с вами не победили, значит, надо работать и не застывать на одном месте. Надо заливать ярким солнцем неведомых красот чужия сцены, заставлять сравнивать выставочныя полотна у побежденных и победителей, надо и надо петь в белградской опере, хотя и жужжали над ухом неумные газеты, что "русские артисты полонили сербскую сцену"... надо не упускать ни одной минуты, если она может напомнить, что кроме русских беженцев есть великое
русское искусство, есть бессмертная своя русская Библия — "Книга Книг", наша "Песнь Песней".
Наше сидение на ненужных пересадочных станциях рядом со столиками, залитыми пивом, кончается — и начинается жизнь, работа; под каким лозунгом можем вести ее мы? Все под тем же давним, карамзинским стягом:
"О любви к отечеству и народной гордости".
"Этого уж не выкинешь!"
Ни Карамазова, что воплощает такой большой и такой русский Качалов, ни новых вымыслов Куприна, Бунина, Тэффи, Гребенщикова, ни декоративных дерзаний Бакста, Судейкина и Гончаровой, ни расправившей все свои ослепительные огненные крылья "Жар Птицы".
...Что-ж, господа, каждый побеждает, чем умеет...»/8/
В это верили на заре эмиграции.
К середине двадцатых годов становится ясно, что оснований для оптимизма больше нет и большевики пришли к власти надолго. Меняется самоощущение «зарубежных русских», также как и отношение к ним коренного населения стран, где они оказались. В истории русской эмиграции начинается новая эпоха..Как отмечено во вступительной статье к антологии «Литература русского зарубежья»:
«Новый этап истории русского зарубежья — со второй половины 20-х гг. до начала Второй мировой войны. Ветшают планы свержения "антихристов-большевиков". Заиграны уже до хрипоты пластинки с белогвардейскими гимнами. Быстро тает вера в мессианскую роль эмиграции — "спасительницы России"»/9/.
У эмигрантов появляется осознание безвыходности, признание своего поражения грубой и хамской, но молодой и сильной властью — уже в 1922 году пражский еженедельник «Воля России» публикует статью Григория Раковского, где говорится: «Изжита иллюзия, что Россия — "здесь". Ясно, что она "там"»/10/.
За русскими эмигрантами в Европе закрепляется имя «изгнанники», сами они, по свидетельству З.А. Шаховской, называют себя «беженцами», в некоторых случаях употребляется даже слово «эвакуация»:
«Эвакуация —для всех ее участников это было ужасное слово, это была смерть белой мечты, крах постоянного благополучия и размеренной жизни»/11/.
Эйфория первых лет прочно сменяется в сознании эмигрантов ощущением своей обреченности, ненужности и болезненной ностальгией, в последующие годы вынудившей многих из них (в большинстве случаев, на свою беду) вернуться в Россию — уже советскую.
Внутри самой эмигрантской диаспоры отношения были непростые. С одной стороны, вроде бы стерлась острота социальных барьеров, существовавших в дореволюционной России. З.А.Шаховская отмечает этот факт в своей книге «Отражения»:
«В сущности, те круги, которые в России, вероятно, остались бы мне неизвестны, открылись передо мной на чужбине. Все сословия были представлены в этом первом потоке — и рабочие, и военные, и интеллигенция, и духовенство»/12/.
Самый яркий пример, стирания сословных граней в русском зарубежье — брак балерины Матильды Кшесинской и Великого князя Андрея Владимировича Романова, состоявшийся в январе 1921 года и благословленный Главой Императорского Дома Великим Князем Кириллом Владимировичем и его супругой Великой Княгиней Викторией Федоровной Романовыми. По-видимому, именно эта гибкость и стойкость в борьбе за выживание, проявившаяся в русской натуре, и дала возможность выходцам из России выжить в изгнании и даже преуспеть в новой жизни по сравнению с эмигрантами из других стран. С. Макиев отмечает в своем исследовании:
«Если сравнить положение русских с тем, как устроились, например, поляки, которых в Париже было значительно больше, то нетрудно будет установить, что
русские устроились значительно лучше. Разного положения русские оказались предприимчивее и находчивее в борьбе за существование, чем другие европейцы <.. .>. Когда знакомишься с объявлениями парижских газет, удивляешься, сколько находится, самых разнообразных и неожиданных профессий только в одном Париже, способствовавших практическому устройству русских <...>. Трудно, если не невозможно, установить какую-либо классификацию, кроме как: шофера такси, промышленные рабочие, служащие торговых предприятий и иных (культурных, медицинских и т.д.) учреждений, и, наконец, представители разного рода индивидуального труда: плотники, столяры, маляры, обойщики, каменщики, штукатуры, декораторы, гримеры, парикмахеры, портнихи, повара, садовники, натурщики, посыльные и т.д.. В отдельных случаях, вернее, на отдельных ступенях такой лестницы существовала довольно многочисленная группа людей свободных профессий: торговые посредники, коммерческие агенты, коммивояжеры, за ними музыканты, певцы, балетные, кинематографические и цирковые артисты, домашние и школьные учителя русских и иных предметов, свыше двухсот. врачей,, так или иначе практикующие инженеры, юристы, художники, : архитекторы, сравнительно небольшая группа живущих литературным трудом писателей и журналистов; служители православной церкви и десятка два .драматических артистов»/13/. Данный список профессий, приобретенных русскими в эмиграции, ни в коей мере не отражает исконную социальную и профессиональную принадлежность русских эмигрантов. Князь Виктор Святополк-Мирский работал администратором на студии «Альбатрос», и, судя по всему, вполне успешно справлялся со своими обязанностями. Белла Бродская — монтажница и ассистент режиссера, сестра продюсера Семена Шифрина, вспоминала в нашей беседе в Париже 22 февраля 1989 г.:
«Все обращались к нему: "Князь", никто не знал его имени».
Хроникой фирмы «Патэ» зафиксированы сюжеты серии «Русские беженцы» (в частности «Русские беженцы на бульваре Журден», где среди беженцев — князь
Львов). В одном из эпизодов — князь Игнатьев, наблюдающий, как княгиня доит коров/14/.
Ирина Одоевцева вспоминает о том положении, в котором оказалось в Париже молодое поколение литераторов:
«Страшно бедствовали. Работали, где удастся. Таксист, судомойка считались привилегированными занятиями. Шли на фабрики, заводы чернорабочими за копейки.
Старшие пытались им как-то помочь. Устраивались благотворительные вечера, концерты, но это было каплей в море нищеты. А прожить литературным трудом просто было невозможно»/15/.
Статус шофера в эмиграции был особым—это было больше чем профессия, это было обозначение человека, не имеющего профессии вообще (то есть — в прошлом не нуждавшегося в ней) или не имеющего профессии, применимой на Западе (что выражало своеобразную верность России), и потому парадоксальным образом это был почти что высокий социальный статус для эмигранта. В национальном архиве Франции, в Париже, сохранились документы «Объединенного союза русских шоферов», из которых следует, что этот союз был важным культурным центром — под его эгидой проводились Тургеневские вечера, где выступали артисты МХАТа (в частности, вечер «Париж Тургенева», состоявшийся 22 января 1933 г. — в связи с пятидесятилетием со дня смерти писателя), музыкальные концерты (оркестр казаков-балалаечников под руководством Скрябина), союз состоял в переписке с Рахманиновым. Здесь чествовали Бунина в связи с присуждением ему Нобелевской премии. Это событие воспринималось как триумф всей русской эмигрантской колонии Парижа, неотъемлемой частью которой ощущали себя русские таксисты и русское дворянство (текст — на бланке Союза шоферов, среди подписавших приветствие — княгиня В.А. Мещерская):
«Господа, и для нас настал праздник. Русская культура в лице Ивана Алексеевича Бунина, нашего славного писателя, увенчана, признана миром, и это
свершилось в тяжкие дни унижения. России и величайших, неслыханных страданий русского народа. Русской культурой одержана победа, победа света над тьмой, которой сейчас покрыта Русь. Да будет эта победа предзнаменованием торжества подлинной России»/16/.
Однако поиск заработка в кинематографе для молодых русских литераторов в двадцатые годы в Европе был редкостью. Социальный статус кинематографиста в эмигрантской среде был резко снижен. В кино работали, когда положение было совсем безвыходным. По свидетельству Беллы Бродской (то же интервью автору, Париж, 22 февраля 1989 г.) — «это была возможность выжить. Не всем же так повезло устроиться шофером такси или найти работу в кафе. <...> А кино — это был кусок хлеба. <.. .> Литературный и кинематографический круги до начала 30-х годов были очень разъединены. Писатели презирали кинематографистов».
: Позволим себе небольшое уточнение: в литературных и театральных кругах считалось, хорошим тоном презирать кинематографистов. На этот счет сохранились и письменные свидетельства, зафиксированные в статьях русских кинообозревателей-эмигрантов:
«Как-то у нас повелось, что в литературных кругах стесняются кинематографа. Даже.те, кто искренне увлекаются им, скрывают это увлечение как слабость, в . которой неловко признаться. Какое-то малодушие мешает большинству литераторов и театральных деятелей признать свою ошибку; при зарождении нового искусства, для которого и музы на Парнасе не нашлось, было единогласно решено, что кинематограф не искусство, или, как выразился однажды хлесткий русский критик, "искусство готтентотов"»/17/.
Однако литераторы в кино ходили. Бунин узнал о присвоении ему Нобелевской премии, будучи в кинотеатре, где он смотрел фильм с участием дочери Куприна, киноактрисы. Кинокритику писали — в том числе и Куприн. Иногда опускались и до сценариев — но сценарии не заказывали начинающим, до сценарного заработка снисходили те, чье имя можно было продать киностудиям
(Бунин, Евреинов, Замятин). В кино снимались статистами, «продавали свою тень», преодолевая нормальный «человеческий стыд», по выражению Вл. Набокова/18/, неоднократно участвовавшего в массовке и пронизавшего всю ткань своей прозы сетью кинематографических ассоциаций. Интерес к кинематографу у литераторов был, но считалось хорошим тоном скрывать его под маской презрения. В эмигрантской прозе возникает метафора: кинематограф-бордель. Так, например, в романе Ивана Шмелева «Няня из Москвы» подписание контракта с киностудией становится для героини, русской беженки, не получившей помощи от богатого парижского дяди, альтернативой ухода на панель. В описании героиней своей победы подразумевается аналогиях судьбой ее подруг, других русских барышень, еще в Константинополе попавших в «такие дома»:
«Приезжает раз, упала на кресла, перчатки стаскивает —стяни, не могу! И улыбается: "Купили-таки меня, дорого купили! <...> первый директор бумагу подписал, сымать будут... три красавицы было, всех победила!" И теперь уже не Катичка, а звезда! Больше тыщи в неделю положил директор»/19/.
Причин высокомерного отношения литераторов к кинематографу было, по-видимому, несколько. Во-первых, с точки зрения писателей-пуристов, не приемлющих новой, «заборной», орфографии и приверженных миссии сохранения русской культуры, и в первую очередь — русского языка, немое кино по сути своей было искусством космополитов. Кроме того, несмотря на отдельные попытки создания русских студий-киногетто, в целом кинематографисты не составляли столь замкнутой диаспоры, как, скажем, писатели — они довольно активно интегрировались в свой профессиональный круг в той стране, куда занесла их судьба. А потому их репутация у представителей других кругов эмиграции была сомнительной. Балерина Нкна Тихонова, тепло отзывающаяся в своих мемуарах об Александре Волкове и Иване Мозжухине и с удовольствием вспоминающая о своем сотрудничестве с
ними на съемках фильма «Тысяча вторая ночь», свое общее мнение о мире кино выражает тем не менее довольно резко:
«А что сказать о кинематографических студиях? Они целиком были захвачены русскими: финансистами, режиссерами, актерами, статистами, гримерами, костюмерами, декораторами, бутафорами и неопределенными личностями, вертевшимися в надежде чем-нибудь поживиться»/20/
Можно предположить, что в целом негативный оттенок, сквозящий в эмигрантском отношении к кинематографу, в какой-то степени объясняется тем, что это слишком молодое, слишком народное и чересчур стремительно пробивающее себе дорогу искусство на уровне подсознания эмигрантов как-то связывалось с большевиками — тем более, что и появилось в России всего за десять лет дОі их прихода. В романе Николая Брешко-Брешковского «Дикая дивизия» есть характерное сравнение революции с кинематографом:
<«.'. .> Это была не жизнь, а кинематограф. Но какой страшный кинематограф. Какая трагическая смена впечатлений. <...> Петербург — такой строгий и стильный — очутился во власти взбесившейся черни. <.. .> Рухнула тысячелетняя Россия, сначала княжеская, потом царская, потом императорская»/21/.
По-видимому, ощущение жизни как некоей ирреальности, как кинофильма, в эмиграции стало еще сильнее. Желание повернуть историю вспять заставляет эмигрантов-некинематографистов независимо от Дзиги Вертова видеть возможности «Киноглаза», управляющего временем и реальностью. Подобный эксперимент с кинофильмом из российской истории предлагается в рассказе Аркадия Аверченко «Фокус великого кино» из книги «Дюжина ножей в спину революции» (Париж, 1921 г.):
«Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!...
Повернул ручку назад — и пошло-поехало ...<...>
Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.
Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург. <.. .>
Крути, Митька, крути, голубчик!
Быстро мелькают поочередно четвертая Дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.
Но, однако, тут не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летящий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.
А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?
Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!
Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...
Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!
Митька! замри! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..»/22/
В сознании эмигрантов кинематограф как изобретение нового века и как механизм трансформации мира оказывается косвенно обвиненным в случившемся в России. И если писатели просят лишь об одном — чтобы повернули ручку наьад и отмотали ту пленку, которую зря накрутили, то кинематографисты зачастую связывают с кино надежды на счастливые перемены в жизни. В фильме «Лев моголов», поставленном в 1924 г. в Париже на студии «Альбатрос» французским режиссером Жаном Эпштейном, но по сценарной заявке И. Мозжухина и при преимущественно русском составе труппы (в главных ролях — И. Мозжухин и Н. Лисенко, декорации А. Лошакова, костюмы Б. Билинского), рассказывается о далекой и загадочной стране моголов (то ли Индия, то ли Тибет, словом — Восток). Власть в этой прекрасной стране незаконно захватил злой хан-узурпатор, и наследный принц вынужден покинуть ее и бежать во Францию. Во время
путешествия на корабле он знакомится с кинематографистами, становится членом их съемочной группы, затем — кинозвездой и благодаря этому находит свою сестру, а затем — возвращается на родину и возвращает себе корону и невесту. Эта живописная сказка в стиле «Тысячи и одной ночи» с помощью незамысловатой метафоры выражает самую заветную мечту всей русской эмиграции первой волны, и мечта эта осуществляется благодаря кинематографу.
Фильмы русской эмиграции оказываются своего рода зеркалом, отразившем в себе мифологию сознания, трудности бытия и надежды своих создателей. Феномен, возникший в результате исторического катаклизма (октябрьской революции 1917г.), оказался сродни культурному взрыву, а затем, согласно концепции Ю.М.Лотмана, породил новые семиотические частицы, полярно заряженные культурные антонимы, в процессе своей эволюции сближающиеся до синонимии. Конкретизации и изучению этого процесса посвящено предлагаемое диссертационное исследование, являющееся по сути дела первым опытом обобщенного изучения феномена русского эмигрантского кино как в отечественном так и в мировом киноведении. Методика исследования отображена в структуре работы: описав состояние русского кинематографа к моменту, когда изгнание ..с .родины.-стало —неизбежным, диссертант прослеживает путь кинематографистов на запад: через перевалочные пункты — Крым и Турцик, а затем рассматривает различные аспекты работы русских кинематографистов в Европе и в Америке, кинематографические судьбы видных деятелей русской литературы и театра, пришедших в кинематограф. В центре внимания исследователя — судьба художника, оказавшегося «у времени в плену», проблема психологии творчества, претерпевшая серьезные изменения в форс-мажорной ситуации работы в. изгнании. Свидетельства очевидцев, в первую очередь потомков и членов семей русских кинематографистов-эмигрантов, архивные материалы, собранные диссертантом на протяжении многих лет работы и во многих странах, системный анализ стилистики и тематики фильмов, хранящихся в
разных фильмотеках мира, определяют научный фундамент предлагаемого исследования. В заключительной главе диссертант останавливается на анализе творчества двух ключевых персонажей русского кинозарубежья — Ивана Мозжухина и Владислава Старевича, кинематографистов, поднявшихся над кинематографом и превратившихся в культурные символы своего времени. Привнеся свой вклад в кинематограф запада, они испытали на себе влияние западной культуры, а затем, в свою очередь, начали влиять на процессы, происходящие в ней. Русская и зарубежная культурные традиции, — антонимы, столкнувшиеся друг с другом в результате культурного взрыва, произведенного октябрьской революцией 1917г., вступили в процесс взаимной интеграции вплоть до создания культурной синонимии — кинематографа русского зарубежья, архипелага, на долгие годы отрезанного от внимания отечественных киноведов.
1. Зоркая КМ. Иван Мозжухин. М.: Знание, 1990.
І.Лотман ЮМ. Культура и взрыв.// Москва: Гнозис, 1992. С. 190-191.
В разных источниках приводятся противоречивые цифры относительно численности первой волны русской эмиграции — «около миллиона» и «между 9 и 10 миллионами человек» {Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920—1970). Париж. 1971. С.11—12); «четыре миллиона» (Макаев С. Русское искусство за рубежом, Прага, 1968; РГАЛИ. Ф. 2645. Оп.1. Ед. хр. 2. Л.1 «Б»).
Условной датой, с которой ведется летоисчисление истории российского зарубежья, принято считать ноябрь 1920 г., момент окончательного поражения белой армии и «освобождения» Крыма большевиками. См.: Абданк-Коссовский Вл. Русская эмиграция. Итоги за тридцать пять лет. // Возрождение (Париж). 1956. № 51.С. 131.
Шаховская Зинаида. В поисках Набокова. Paris: La Presse Libre, 1979. C.99—100.
Л.Ш. Пути эмиграции. // «Голос эмигранта». (Берлин). 1921. №1. С.5.
Шаляпин Федор. На распутьи. // Театр и жизнь (Париж). 1929. № 15. С. 7
Ксюнин Ал. Чем победим? // Театр и жизнь (Берлин). 1922. Цит. по вырезке: Русскоязычный раздел фонда «Альбатрос» Французской Синематеки.
Афанасьев А.Л. Неутоленная любовь. // Литература русского зарубежья. Т. 1, кн. 1.С. 8.
Ваковский Григорий. О русской эмиграции.//Воля России (Прага). 1922. №20.
Шаховская Зинаида.Отражения. Paris: YMCA-Press, 1975. С. 10—11.
Там же. С. 51.
Макаев Сергей. Русское искусство за рубежом. С. 37—39.
К сожалению, эти хроникальные сюжеты известны нам лишь в пересказе бывшей сотрудницы архивов «Патэ», польской эмигрантки Элены Лиманьской.
Одоевцева И. Ожившие голоса (беседу ведет А. Колоницкая). // Вопросы литературы (Москва). 1988. № 12. С. 124.
C.A.R.A.N, № 8AS 163, 1933—1943.
17'. Ашкинази З.Г. Тридцать лет кинематографа. // Кинотворчество (Париж). 1926. №17.
Набоков Владимир. Машенька. // Набоков В. Романы. М.: Худож. лит., 1988. С. 21.
Шмелев Иван. Няня из Москвы. Париж: Возрождение, 1937, стр. 182.
Тихонова Нина. Девушка в синем. М.: Арт, 1992. С. 117.
Брешко-Брешковский Николай. Дикая дивизия. // Литература русского зарубежья. Т. 1, кн. 1. С. 152.
22. Аверченко Аркадий. Фокус великого кино. // Аверченко А. Записки
простодушного. М.: Книга и бизнес, 1992. С. 236—238.
Перед выбором. Русское кино на перепутье
Первая мировая война привела в России к росту отечественного кинопроизводства. На самом деле никакого парадокса в этом факте нет —- Сем.С. Гинзбург и другие историки объясняют его отнюдь не только всплеском патриотических чувств, но, скорее, тем, что импорт фильмов в военные годы, был резко сокращен. И все-таки статистика тех лет выглядит довольно впечатляюще: 1913 г. — 129 фильмов (в основном — короткий метраж), 1914 г. — 232 фильма (начиная с этого года и далее в основном — полный метраж), 1915 г. — ,3.70 фильмов, 1916 г. — 499 фильмов/2/. Доля лент отечественного производства на экранах России повышается в это время с довоенных 20% до 60% в 1916-—1917 гг./3/Больше всего в приведенных цифрах поражает то, что расцвет производства пришелся на эпоху пленочного кризиса, наступившего в России во время войны, — поскольку собственного производства пленки в стране не было, запасы исчерпались быстро, а импорт оказался блокированным. Цены на пленку на черном рынке подскочили в несколько раз. В выигрыше оказались крупные фирмы с налаженными зарубежными контактами, получавшие пленку от личных поставщиков по собственным каналам. Только к 1916 г. в России было налажено регулярное получение «Кодака» из США. Распространение кинематографа и рост его популярности привлекают к нему внимание властей. Впервые в истории России появляется организация, рассматривающая кинопроизводство как средство массовой пропаганді . Такой организацией становится военно-кинематографический отдел, созданный в 1914 г. в рамках Скобелевского Комитета. Особенно крупной кинофабрикой Скобелевский Комитет не стал, зато методы его деятельности напоминали методы сегодняшнего военкомата — вместо того чтобы переманить к себе из другой фирмы полюбившегося режиссера, соблазнив его, например, большим жалованьем или более широкими возможностями, как это делали с середины десятых годов многие крупные кинопредприниматели, Скобелевский комитет призывал нужного кинематографиста в армию и брал к себе для прохождения военной службы. Так, например, был призван в 1915 г. Владислав Старевич — к огромному огорчению Александра Ханжонкова, по разным причинам начавшего терять к тому моменту лучшие силы своей студии.
Кинематографом заинтересовался крупный капитал, правда, пока осторожно, с оглядкой. Банкиры, промышленники, крупные издатели начали потихоньку.скупать акции кинофирм —- ханжонковской, «Биофильма» и т.д. С другой стороны, в близких к правительству, в основном, шовинистических кругах с 1915 г. уже началась борьба за национализацию кинематографа. Появившийся четыре года спустя ленинский декрет, таким образом, не был изобретением большевиков.
Однако пока идея национализации была еще чистой абстракцией. Кинопроизводство находилось в частных руках, а потому пребывало в постоянной динамике, соотношение сил между фирмами менялось, некоторые исчезали (так например, на протяжении 1914—1916 гг. сдавал позиции, а затем сошел с рынка Павел Тиман), другие трансформировались, появлялись новые. Наметилась тенденция к укрупнению кинопредприятий. Одним из первых это почувствовал Ханжонков, еще во время войны преобразовавший свою фирму в акционерное общество «А.А. Ханжонков и Ко». Особенно явно эта тенденция заявила о себе после Февральской революции, с открытием акционерного общества «Нептун» (руководитель — П.С. Антик), поглотившего пять небольших самостоятельных предприятий.
В 1915 г. в русское кинопредпринимательство вошел новый сильный конкурент —бывший харьковский прокатчик Харитонов. Обладая немалыми средствами и хорошо зная тот мир, в котором он пробовал себя в новом качестве, Харитонов стал создавать свою студию, перекупая для этого лучшие силы с других кинофабрик. Первым делом он переманил к себе режиссера Чардынина, который до этого работал у Ханжонкова. Ханжонков вспоминал: «Дело свое , Харитонов с Чардыниным повели очень умно — без всякого риска. Ателье ьа Лесной улице, около Тверской заставы, было построено по плану «ханжонковского» на Житной. Артистов решили новых не привлекать, а- использовать старых, уже завоевавших себе репутацию на кинорынке.
Таким образом, оказался у Харитонова премьер Тимана, знаменитый . Максимов, а затем — не менее знаменитые Холодная с Полонским. Последнее было для меня тяжелым ударом. Холодная и Полонский на второй год своей работы в акционерном обществе уже получали такие оклады, о которых до прихода в кинематографию и мечтать не смели. Месячный гонорар каждого из них был равен годовому окладу среднего театрального актера. Харитонов, как я узнал об этом впоследствии, сделал им предложение, которого они никак не ожидали: он предложил каждому из них ровно вдвое против того, что они в данное время получают. ... Мне сначала казалось, что уход «звезд» пройдет для дела безболезненно.
Борьба за национальный стиль, или Рождение кентавров
Несмотря на общую для всех эмигрантов установку на консервацию русского стиля, кино, в силу своей специфики, довольно быстро превратилось в сферу культурного космополитизма. В первую очередь это было связано с причинами практического характера — необходимостью интегрироваться в европейское производство и систему проката и соответствовать вкусам западного зрителя. Но было ли: в этом существенное отступление от взглядов на кинематограф, бытовавших в дореволюционной России? Как ни странно -— нет. Еще в 1907 г., за год до начала кинопроизводства в России, Андрей Белый писал о «соборной» природе кинематографа, где «собираются, чтобы встретить знакомых — все, все: аристократы, и демократы, солдаты, студенты, рабочие, курсистки, поэты и проститутки. Он — точка единения людей, разочарованных в возможности литературного, любовного единения. Приходят усталые, одинокие — и вдруг соединяются в созерцании жизни, видят, как она многообразна, прекрасна, и уходят, обменявшись друг с другом взглядом случайной, а потому более всего ценной солидарности»/1/. А шестью годами позже Леонид Андреев дал новому искусству свой футурологический прогноз: - «Ему — кинемо — суждено стать в новом обществе, которое придет на смену нашему, разрушающемуся миру, — языком мирового общения, орудием сближения людей и народов, новым фундаментом для истории и науки, огромным зеркалом — памятью, которое запечатлевает для человека все проходимые им пути»/2/. Рецензент главного среди дореволюционных изданий теоретического журнала «Пегас» еще в 1915 г. предсказывал, что «в руках человека экран станет волшебным зеркалом. ... На едином языке искусства он обратится к разноязычным и рассеянным народам, и будет услышан»/3/. Отзвуки тех же мыслей встречаем мы и в текстах русских эмигрантов.
В некоторых случаях кинематографисты начинают даже акцентировать межнациональную сущность киноискусства, делая ее основой своего сценарного замысла. Характерны .в этом смысле ремарки в либретто сценариев неосуществленных фильмов «Альбатроса». Так, например, синопсис сценария «Добро вечно» начинается с пометки: «Фильма без надписей, для всех стран». И далее: «Действие открывается в деревне ни французской, ни русской, ни английской или американской, но в деревне вообще, так сказать, прототипе деревни. Ввиду того, что надписей не будет, деревня и действующие лица будут безымянны»/4/. «Экспозе М.Ю.Иорданского» «Барышня из Австралии» открывается примечанием: «Действующие лица могут быть- любой национальности и принадлежать к любому:-\классу общества — аристократы, старые буржуа, нувориши и так далее. Место действия также может быть перенесено ... в любую страну»/5/. : Та же идея выказывается и в эмигрантской кинотеории. В статье 1929 г. А. Морской пишет: .. «Пока о говорящем фильме говорить еще рано, и раньше всего потому, что произведение искусства интернационально, а языка такого нет»/6/. . І w Журнал «Кинотворчество» (главным редактором которого был тот же Александр Морской) приводит в редакционной статье фрагмент текста А. Ганса «Кино — это Евангелие»: «Нужно всегда помнить о том, что в одном и том же кинотеатре одновременно могут находиться представители самых различных народов, и нужно, пользуясь тем, что экран заставил их братски переживать одни и те же эмоции, дать им возможность почувствовать себя братьями по духу. Кинематограф — это Евангелие!»/7/ И. Мозжухин, будто предчувствуя свою личную трагедию, связанную с приходом звука, развивает в эмиграции теорию, согласно которой слово противно природе кино, поскольку кинематограф общается со зрителем посредством международного языка, языка души. «Стоит актеру загореться во время съемки, творя... и публика поймет его, без единого слова, без единой надписи. У кинем атографа нет живого языка, но есть лицо — настоящее зеркало души.
Главный технический принцип кинематографа — это абсолютное молчание и строгая внешняя ритмичность, а творческий — построен на внутренней экспрессии, на паузе, на волнующих намеках и психологических недомолвках. Говорить на экране — это все равно, что разрисовать красками мраморное изваяние, это также безвкусно, грубо, безграмотно. ... В сценариях надписи будут сведены до минимума или даже исчезнут совсем, и через тело, через лицо и глаза актера будут развертываться самые сокровенные и тонкие переживания человека»/8/. Однако,; если сравнить эти слова с тем, что говорил Мозжухин о кино до . отъезда из России станет ясно, что его концепция киноискусства родилась не в Европе: . «...неоспоримое достоинство и сущность кинематографа — это его лицо, его :. глаза, говорящие не меньше языка. Стало ясно, что достаточно актеру искренно, ... -.... Бдохновенно.подумать о.том,-Что.он мог бы сказать, только подумать, играя перед . аппаратом, и.публика на сеансе поймет его; стоит актеру загореться во время , съемки, забыть все, творя, так же, как и на сцене, и он, каждым своим мускулом, вопросом, или: жалобой одних глаз, каждой морщинкой, заметной из самого далекого угла электротеатра, откроет с полотна публике всю свою душу, и она, повторяю, поймет его без единого слова, без единой надписи. .. . У кинематографа нет языка, но есть лицо, настоящее дорогое зеркало души! ... Главный технический принцип кинематографа — это абсолютное молчание на экране, а творческий — построен на гипнозе партнера, на волнующих намеках и психологических недомолвках. ... Близко то время, когда, согласно этому принципу, будут писаться сценарии, исчезнут совершенно надписи и через тело, через лицо и глаза актера будет развертываться психологическая драма человека»/9/. Практически весь текст кинематографического кредо Мозжухина, высказанного им в эмиграции, дословно воспроизводит текст статьи, опубликованной им еще до отъезда из России в посвященном ему специальном номере «Кино-газеты». Но самое интересное, это то, что, по всей вероятности, мысли о кино были навеяны Мозжухину фильмом Бауэра «Умирающий лебедь» (1917) по сценарию Зои Баранцевич, снятом на фабрике Ханжонкова в то время, когда Мозжухин там уже не работал. По сюжету отец (А. Херувимов) утешает свою дочь (В. Каралли), немую балерину, которая плачет оттого, что ей не дано дара речи. «Разве ты плачешь о том, что не говоришь? Но у тебя есть твое лицо, оно говорит больше, чем слова. У тебя есть твоя душа, и она красивее слов, Гизелла». Шедевр Бауэра, по всей видимости, произвел сильное впечатление на Мозжухина несмотря на его личную обиду на этого режиссера. Руки балерины, в их мистически завораживающем движении, руки умерших, влекущих живых в могилу, этот мотив «Умирающего лебедя» будет воспроизведен Мозжухиньш в - -фильме-«Костер ;пылающий»т,( 1922), который он поставил как режиссер -уже в Париже, на студии «Альбатрос».
Россия в американском кино: эволюция имиджа
Близкий друг Мозжухина, знаменитый шансонье А. Вертинский, рассматривал .неудачное, американское турне русского актера как результат сознательно проводимой Голливудом имперской политики: «Из Парижа Мозжухин попал в Америку. В Голливуде, где скупали знаменитостей Европы как товар, им занимались мало. Американцам важно было снять с фильмового рынка звезду, чтобы пустить свои картины. Так они забрали всех: лучших актеров Европы и сознательно портили их, проваливая у публики. Попав в Голливуд, актеры незаметно сходили на нет. Рынок заполняли только американские звезды»/1/. Вероятно, Вертинский несколько сгущал краски, воспринимая американскую политику в кино чуть ли не как антиевропейский заговор. Вряд ли Голливуд «сознательно портил» русских кинематографистов. Скорее, он просто требовал от них безоговорочного подчинения нормам американского кино и вкусам американских зрителей. Европейские звезды привлекали американских продюсеров своей индивидуальностью, поэтому с ними подписывался контракт, — и именно от этой индивидуальности с самого начала работы в Голливуде им надо было отказаться. Чтобы преуспеть в Америке требовалось стать американцем. Штаты открывали свои двери русским беженцам — страна, лишенная ксенофобии, родина эмигрантов, но эмигрантов, желающих стать американцами.
Во время своего визита в СССР в 1933 г. американский режиссер, эмигрант из России, Льюис Майлстоун (Лев Милынтейн, в США с 1913 г.), на вопрос советских кинематографистов о том, как себя чувствуют в Америке иностранцы, ответил: «Голливуд — это иностранный город, там на это не обращают внимания»/2/. Но при этом добавил: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде...»/3/. Майлстоун сделал попытку экранизации книги И. Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1923) — совместно с автором, но для Голливуда. Фильм должен был быть рассчитан на американского зрителя, но при точном воспроизведении реалий россий-ской жизни. Майлстоун надеялся на компромисс: « ... у вас жизнь идет быстро, вы передаете картины народу, который вас понимает, а когда картину смотрит широкая американская публика, то ... она, я думаю, ничего не поймет, потому что они не знают этой истории. Американская публика понимает то, что можно подать от начала до конца. В этой книге рассказывается вся история Курбова, и если это заканчивается 23 годом, то можно прибавить еще один эпизод, чтобы продолжить ее до сегодняшнего дня»/4/. Это был своего рода уникальный эксперимент, в успехе которого соавторы сценария уверены не были. Попытка не удалась. И. Эренбург вспоминал впоследствии: . «У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майлстоуна и кинорутины, мелодраму,, приправленную иронией двух взрослых людей .. . . Пессимизм Майлстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: "Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер..."»/5/. Создание русско-американского кентавра в Голливуде на базе советского романа и при посредничестве эмигранта из России оказалось невозможным.
Неслучайно многие экранизации русской классики в Голливуде, примеры которых мы приводили выше («Воскресение» Л. Толстого, «Анна Каренина» и т.д.), кажутся нам издевательством над литературой, а образ России, созданный в них — примитивной фальшивкой, рассчитанной на иностранных туристов. Но, видимо, именно такая Россия и нужна была американскому зрителю, поскольку она соответствовала его представлениям об этой стране. Русский человек органически не мог представить Россию такой, какой ее видят американцы, и какой она нужна Голливуду — по той простой причине, что он знал, какова она на самом деле. Поэтому русский миф в Голливуде при всем изобилии русских, попавших сюда после революции, в основном создавали американцы. Начиная с конца десятых годов, почти сразу после Октябрьской революции, к русскому мифу прибавляется «советский миф», основанный на фантастических слухах об общественном строе в духе Оруэлла и Кампанеллы, учреждаемом большевиками в той стране, где еще так недавно, уютно устроившись у самовара, мирно пили водку или чай с икрой великие князья и белые медведи. Американская печать поражает воображение читателей и кинематографистов. Как отмечает английский историк кино К. Браунлоу: «Вскоре после того как большевики захватили власть в России, американские газеты заговорили об уничтожении в этой стране института брака. Советское руководство Саратовской области издало, якобы, указ, согласно которому муж не имеет права единолично пользоваться своей женой, поскольку женщина является предметом общественной собственности. Эта мера была направлена на воспроизводство вырождающейся нации»/6/. Сенсационное сообщение вдохновило известного журналиста Х.Х. ван Лоэна на создание сценариев, по . которым уже в 1919 г. были поставлены первые фильмы о большевистском беспределе, в.сексуальной.сфере г— «Новолуние» с Нормой Толмэдж и. Стюартом- Холмсом (в роли большевика и шпиона иностранной разведки по имени Орел Козлофф) и «Общественная собственность», фильм, действие которого происходило в самом городе Саратове — эпицентре сексуальной революции.
Верили ли американцы в подлинность подобных слухов? Вероятнее всего, для Голливуда это просто не имело значения. Браунлоу приводит в своей книге выдержку из рецензии, опубликованной в газете «Пикчер Плей», где говорится: «Возможно, такого декрета вовсе и нет, но этот факт является отправной точкой для драматической завязки»/7/. Однако настоящая волна голливудских фильмов о Российской империи и русской революции появляется в конце двадцатых годов. Это «Последний приказ» (1928), «Красный танец» (1928), «Казаки» (1928), «Патриот» (1928), «Буря» (1928), «Алая леди» (1928). Американский исследователь Я.-К. Хорак объясняет это явление успехом фильмов Эйзенштейна и Пудовкина/8/, пробудивших у американских зрителей интерес к России. Хорак точно определяет сюжетный архетип голливудской «историко-революционной мелодрамы»: крестьянка и аристократ, либо аристократка и крестьянин; революция, становящаяся препятствием их браку и в финале — вопреки всему, их соединение/9/. Остановимся на фильме Сесиля де Милля «Волжский бурлак» (1926), по всей вероятности, заложившем основу этого архетипа. Здесь полностью соблюдается схема, описанная Хораком: бурлак Федор (Уильям Бойд), он же — командир полка, возглавляющий восстание бедноты, влюбляется в княжну Веру (Элинор Фэа), невесту офицера царской армии Дмитрия Орлова (Виктор Варкони), спасает ее от смерти, рискуя собственной жизнью и даже отступая от интересов своего Дела. Далее следует сцена, описанная в советской рецензии 1927 г.: «Тут приходят снова красные. Федора прощают. А белых заставляют стать бурлаками. И тащить барку. Федор не может перенести, чтоб Вера тянула одна и -тянет С;ней-вместе.-Замечательнейшая сцена: — Федор, князь Орлов и -княжна Вера в бальном платье — "совместными усилиями" тянут барку. Но все же их всех трех судит "ревтрибунал". Федор, конечно, "американец" — он просит всех простить во имя его любви к княжне. В ревтрибунале тоже оказываются все — "американцами". Князь становится "добрым бурлаком". А Федор с княжной в сладком поцелуе заканчивают фильму»/10/.
Кинематографисты над кинематографом — причащение и канонизация
На шестом году эмиграции И. Мозжухин наконец почувствовал себя человеком, обретшим вторую родину: «Не могу вернуться в Россию: России больше нет... Та, которую я знал и любил, не упивалась кровью, безжалостно и бесконечно... Вся моя любсвь перенесена на Францию... Не могу выразить, как я благодарен этой стране за то великодушие, с которым она приняла нас»/1/. : Судя по этим словам, сказанным интервьюеру 16 февраля 1925 г.„, можно подумать, что русский актер сделал свой окончательный выбор, но не прошло и года, как 7 декабря 1926 г. на борту морского судна «Беренгария» Мозжухин отчалил от берегов Европы, а 12 декабря — сошел с корабля в Нью-Йорке, и, пробыв там неделю, отправился в Голливуд для работы по контракту, подписанному на пять лет с фирмой «Юниверсал». Нельзя сказать, что Франция вдруг изменилась к нему — Мозжухин покинул ее на волне мировой славы, принесенной ему множеством ролей, сыгранных на парижских студиях, в первую очередь, в фильмах «Кин», «Костер пылающий» и, в особенности, «Михаил Строгов». Только что закончились съемки у А. Волкова в «Казанове», фильме, ставшем легендой уже в процессе своего создания. К середине двадцатых годов Мозжухин оказывается в зените своей европейской и мировой славы. Что же заставило великого русского актера и кумира парижской кинематографической диаспоры той поры оставить свою новую родину и решиться на реэмиграцию? В романе «Другие берега» Вл. На-боков описывает свои детские впечатления российского кинозрителя: «Под вечер [1915 г. — Н.Н.] мы часто скрывались в последний ряд одного из кинематографов на Невском, "Пикадилли" или "Паризиана". .. . Одним из любимцев экрана был актер Мозжухин. Какое-то русское фильмовое общество приобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами (несколько похожий на дядин, что трогало меня), и эта усадьба появлялась во всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу к ней подъезжал на лихаче актер Мозжухин, в пальто с каракулевым воротником шалью, в каракулевом колпаке, и устремлял светло-стальной взгляд из темно-свинцовой глазницы на горящее окно, между тем как знаменитый желвачок играл у него под кожей скулы»/2/. Кинематографический образ Мозжухина впоследствии замещается у Набокова реальным впечатлением от случайной встречи с ним, будто бы состоявшейся в Ялте (ориентировочно — 1918 г.): «Отец вошел министром юстиции в крымское краевое правительство, а мы переселились в Ливадию. Ялта ожила.
Как почему-то водилось в те годы, немедленно возникли всякие театральные предприятия, начиная с удручающе вульгарных кабаре и кончая киносъемками Хаджи-Мурата. Однажды, поднимаясь на Ай-Петри в поисках местного подвида испанской сатириды, я встретился на горной тропе со странным всадником в черкеске. Его лицо было удивительным образом расписано желтой краской, и он, не переставая, неуклюже и гневно, дергал поводья лошади, которая, не обращая никакого внимания на всадника, спускалась по крутой тропе, с сосредоточенным выражением гостя, решившего по личным соображениям покинуть шумную вечеринку. В несчастном Хаджи я узнал столь знакомого нам с Тамарой актера Мозжухина, которого лошадь уносила со съемки. "Держите проклятое животное", — сказал он, увидев меня, но в ту же минуту, с хрустом и грохотом осыпи, поддельного Хаджи нагнало двое настоящих татар, а я со своей рампеткой продолжал подниматься сквозь бор и буковый лес к зубчатым скалам»/3/. Описанная сцена похожа на апокриф или на обычный для Набокова розыгрыш читателя. Может быть, имеется в виду фильм «Хаз-Булат» режиссера В.Гончарова, с участием И.Мозжухина, поставленный еще в 1913 г. и снимавшийся не в Крыму, а на Кавказе. На давние воспоминания об этом фильме наложились, вероятно, более свежие впечатления от фильма А. Волкова «Белый дьявол» (1929), экранизации «Хаджи-Мурата», одной из лучших ролей Мозжухина и наверняка одного из лучших фильмов, сделанных русскими в эмиграции. Но главное в свидетельстве Набокова — это общее впечатление от образа Мозжухина:, в первой цитате он описан как романтический русский (магнетический взгляд, лихач, меховой воротник, снег, падающий на особняк, где снимались фильмы ханжонковской фабрики), во второй — тот же, даже еще усиленный,, казалось бы, романтический образ (всадник, черкеска) резко снижается до комедийного уровня. В двух зарисовках Набоков точно отмечает парадоксальную двойственность мозжухинского имиджа. Амплуа Мозжухина, чрезвычайно разнообразное в первые годы его работы в кино, постепенно начинает формироваться в нескольких основных направлениях. Уже к 1913—1914 г. среди его персонажей появляется образ героя, над которым тяготеет рок («Горе Сарры», реж. А. Аркатов, «В руках беспощадного рока», реж. П. Чардынин). В 1914 г., во время работы с режиссером Евг. Бауэром над фильмом по сценарию символиста Валерия Брюсова «Жизнь в смерти», Мозжухин находит свой знаменитый актерский прием: обращенные на зрителя глаза, наполненные настоящими слезами. Впоследствии он вспоминал об обстоятельствах этого озарения: «В течение полутора лет я играл разные маленькие роли, пока режиссеру Бауэру не пришла в голову счастливая мысль доверить мне весьма драматическую роль в фильме, название которого я не помню. По ходу действия моя любимая умирала, и я должен был сыграть долгую сцену отчаяния над ее телом. До этих пор, когда актер должен был сыграть подобную сцену, он изображал горе с помощью заламывания рук, поз, выражающих удрученность, тщательно прорепетированных перед зеркалом гримас, глицериновых слез. Поломав эти традиционные, уже глубоко и крепко укоренившиеся в работу студий приемы, я ограничился полной неподвижностью, и настроил себя так, что вскоре слезы — не глицериновые, а настоящие — брызнули у меня из глаз и потекли по щекам... Успех был огромный, но что мне доставило еще.большее удовольствие, чем успех, это то, что у меня появилось ощущение, будто я разгадал секрет кино»/4/. Находка Мозжухина на долгие годы определяет суть его актерского имиджа. Как справедливо отмечают его биографы/5/, Мозжухин приобретает известность как исполнитель ролей драматического и мелодраматического плана («Хризантемы», «Ты помнишь ли» — оба реж. П. Чардынин 1914; «Кумиры», 1915, реж. Евг. Бауэр), а после перехода на фабрику Ермольева — как создатель мистических образов («Николай Ставрогин», «Я и моя совесть», «Пляска смерти», «Сатана ликующий», «Малютка Элли»). Демоническое начало присутствует даже в самых сложных и психологически насыщенных образах, созданных им в эти. годы («Пиковая дама», «Отец Сергий»). Успех найденного Мозжухиным приема не дает покоя завистникам и конкурентам. Так, журнал «Вестник кинематографии», постоянный оппонент Мозжухина с момента его перехода с фабрики Ханжонкова на фабрику Ермольева, пытается скомпрометировать в глазах зрителей его новый метод игры: «Кинематографические режиссеры вообще впадают в большую ошибку, думая, что актера все время необходимо оборачивать лицом к публике.