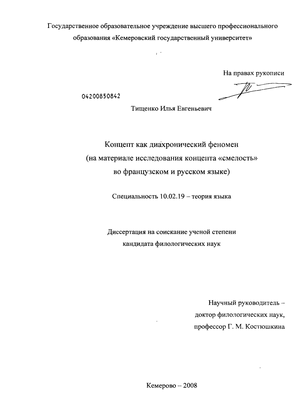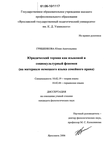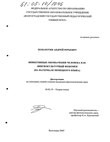Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Когнитивный подход к изучению эволюции концепта 10
1.1. Предпосылки формирования когнитивного подхода к пониманию значения слова 10
1.2. Оформление когнитивной парадигмы в лингвистике XX в 17
1.3. Концепт и его структура 22
1.4. Концептуализация и категоризация знаний 29
1.5. Методы и приемы исследования 32
1.6. Основания модификации концепта 41
Выводы по главе i 45
Глава II. Эволюция концепта «смелость» во французском языке , 47
2.1. Концепт «смелость» в языке старофранцузского периода 47
2.1.1. Социальные признаки концепта «смелость»
в языке старофранцузского периода 51
2.1.2. Зооморфные признаки концепта «смелость»
в языке старофранцузского периода 63
2.1.3. Признак «военные действия» концепта «смелость»
в языке старофранцузского периода 66
2.1.4. Антропоморфные признаки концепта «смелость»
в языке старофранцузского периода 69
2.1.5. Признак «смелость как внутреннее качество»
в языке старофранцузского периода 74
2.1.6. Схематичное представление структуры концепта «смелость»
в языке старофранцузского периода 79
2.2. Концепт «смелость» в языке среднефранцузского периода 81
2.2.1. Не сохранившиеся в языке признаки и выражения концепта 82
2.2.2. Изменения в области концептуализации репрезентантов концепта 83
2.2.3. Социальные признаки концепта «смелость» в языке среднефранцузского периода 85
2.2.4. Зооморфные признаки концепта «смелость» в языке среднефранцузского периода 89
2.2.5. Признак «военные действия» концепта «смелость» в языке среднефранцузского периода 92
2.2.6. Антропоморфные признаки концепта «смелость» в языке среднефранцузского периода 93
2.2.7. Признак «смелость как внутреннее качество» концепта «смелость» в языке среднефранцузского периода -. 96
2.2.8. Схематичное представление структуры концепта «смелость» в языке среднефранцузского периода 99
2.3. Концепт «смелость» в современном французском языке 101
2.3.1. Изменения в структуре признаков и репрезентантов концепта «смелость» 101
2.3.2. Социальные признаки концепта «смелость» в современном французском языке 103
2.3.3. Зооморфные признаки концепта «смелость» в современном французском языке . 108
2.3.4. Признак «военные действия» концепта «смелость» в современном французском языке 111
2.3.5. Антропоморфные признаки концепта «смелость» в современном французском языке 113
2.3.6. Признак «смелость как внутреннее качество» в современном французском языке 116
2.3.7. Схематичное представление структуры концепта «смелость» в современном французском языке 123
2.4. Схематичное представление изменений репрезентантов концепта «смелость» во французском языке 124
Выводы по главе ii 126
Глава III. Эволюция концепта «смелость» в русском языке 129
3.1. Концепт «смелость» в русском языке 129
3.1.1. Антропоморфные признаки концепта «смелость» в русском языке XI-XVII вв 130
3.1.2. Зооморфные признаки концепта «смелость» в русском языке XI-XVII вв 135
3.1.3. Признак «смелость как внутреннее качество» в русском языке XI-XVII вв 138
3.1.4. Схематичное представление структуры концепта «смелость» в русском языке XI-XVII вв 141
3.2. Антропоморфные признаки концепта «смелость» в русском языке XVII-XX вв 143
3.2.1. Признак «военные действия» концепта «смелость» в русском языке XVII-XX вв 146
3.2.2. Признак «смелость как внутреннее качество» в русском языке XVII-XX вв 150
3.2.3. Схематичное представление структуры концепта «смелость» в русском языке XVII-XX вв 157
3.3. Схематичное представление изменений репрезентантов концепта «смелость» в русском языке 158
3.4. Прототип концепта «смелость» во французском и русском языках 159
Выводы по главе iii 161
Заключение 164
Список использованной литературы 168
Список источников примеров и их условных обозначений 184
Список использованных словарей и их условных
Обозначений 193
- Предпосылки формирования когнитивного подхода к пониманию значения слова
- Оформление когнитивной парадигмы в лингвистике XX в
- Концепт «смелость» в языке старофранцузского периода
- Концепт «смелость» в русском языке
Введение к работе
Предлагаемое диссертационное исследование посвящено описанию эволюции концепта «смелость» на материале французского и русского языков. Рассмотрение эволюции концепта как теоретическая задача находится в спектре таких актуальных для языкознания вопросов, как соотношение восприятия и его языкового представления, формы и содержания языковой единицы, направления изменений в языке. Исследование концепта в диахроническом аспекте стоит на пересечении данных теоретических проблем языкознания и вносит свой вклад в их понимание. Языковые изменения рассматриваются в работе с позиций когнитивного подхода, который получил освещение в различных аспектах: в связи с разработкой терминологии парадигмы (А. П. Бабушкин, С. В. Биякова, Н. Н. Болдырев, Е. С. Кубрякова), в аспекте характеристики парадигмы в целом (Е. С. Кубрякова; И. А. Стернин, А. В. Кравченко и др.), в рамках рассмотрения процессов концептуализации и категоризации и их отражения в языке (А. Вежбицкая, Г. М. Костюшкина, М. Rakova), при изучении метафоризации в когнитивном аспекте (Дж. Лакофф, М. Rakova), а также в других аспектах, затрагивающих методологические проблемы когнитивной парадигмы (Н. Ф. Алефиренко, Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов и др.).
При этом диахронический аспект существования концепта остается недостаточно разработанной областью, чем объясняется актуальность данного исследования. Предлагаемая работа посвящена пока еще' малоизученной проблеме - формирования и развития концепта, в частности, концепта «смелость» во французском и русском языках. В качестве объекта исследования выступают лексические единицы, репрезентирующие концепт «смелость» во французском и русском языках. Предметом исследования является диахронический аспект существования концепта. Выбор объекта исследования обуславливается необходимостью подтвердить наличие изменений концепта материалом разноструктурных языков, относящихся к одной культуре, что позволит выявить общие и частные особенности эволюции концепта.
Цель исследования состоит в выявлении и описании процесса формирования и развития концепта. Анализ языковых данных проводится с позиций когнитивной лингвистики на примере концепта «смелость» во французском и русском языках, особое внимание уделяется исследованию причин модификации концепта, а также изменениям в номенклатуре его признаков и репрезентантов. Поставленная цель определила следующие задачи исследования:
обосновать, в рамках когнитивной парадигмы, возможность изучения концепта в диахроническом аспекте;
определить хронологию исследования структуры признаков и репрезентантов концепта «смелость» во французском и русском языках;
выявить структуру признаков концепта «смелость» во французском и русском языках, его прототип, номенклатуру лексических единиц, отражающих эту структуру на каждом временном этапе существования концепта;
установить факторы, влияющие на формирование концепта и его модификацию во времени.
Теоретической и методологической базой исследования послужили положения о непрерывном развитии языка и его антропологическом характере, высказанные В. фон Гумбольдтом [Гумбольдт 1985], признание динамического характера соотношения восприятия и его языкового представления в процессе категоризации знаний, разрабатываемые в трудах отечественных и зарубежных исследователей [Бабина 2003; Костюшкина 2006; Geeraerts 1997], прототипический подход к выделению категорий, описываемый в работах [Berlin 1969; Rosch 1975], основные положения методологии концептуального анализа разрабатываемые в исследованиях [Алефиренко 2005; Костюшкина и др. 2006; Кубрякова 1997; Степанов 1998, 2001], элементы методологии компонентного анализа в работе [Кузнецов 1986].
В процессе исследования применялись следующие методы и приемы: описательный метод при анализе фактического материала, сопоставительный метод при анализе структуры концепта в различные периоды существования
7 языка, диахронный метод при структуризации материала, методика концептуального анализа, понимаемая как совокупность приемов, включающих в себя дефиниционную методику, элементы методики компонентного анализа при выделении концептуальных признаков, генетический метод при определении этимологии слов-репрезентантов, методика количественного анализа при получении статистических данных.
Материалом исследования послужили полученные в результате
сплошной выборки из текстов, в основном, художественной литературы
лексические единицы с фрагментами контекста их употребления, являющиеся
репрезентантами признаков концепта «смелость». Общий объем
проанализированных примеров во французском языке составляет
3310 высказываний, в русском языке — 2183. В языке старофранцузского
периода было выделено 58 концептуальных признаков и і 22 слова-
репрезентанта, в языке среднефранцузского периода 27 признаков и 13 слов-
репрезентантов, в современном французском языке было выделено 33 признака
и 18 слов-репрезентантов. В русском языке XI-XVII вв. было зафиксировано
13 признаков и 12 слов-репрезентантов, в языке периода XVII-XX вв. -
23 признака и 13 репрезентантов. "-/
Научная новизна предлагаемого исследования заключается в диахроническом подходе к исследованию структуры концепта. В работе предлагается исследование единиц языка как репрезентантов концепта, описываются причины модификации в структуре признаков концепта, отражение этой модификации в языке.
Основные положения, выносимые на защиту.
Концепт способен изменяться во времени. Структурная организация концепта в виде поля со стабильным ядром и гибкой периферией обеспечивает ему вероятность эволюции, которая состоит в модификации состава признаков и их репрезентантов.
Эволюция концепта имеет неравномерный характер, который проявляется в различной динамике изменений в сфере концептуальных признаков и их репрезентантов на разных отрезках временной оси.
На формирование и изменение структуры концепта влияют близкие экстра- и интралингвистические факторы в разных языках.
Концепт «смелость» во французском и русском языках обладает одним прототипом и аналогичным набором признаков, распределенным по разным категориям.
Теоретическая значимость работы определяется вкладом в теорию и методику концептологического анализа. В исследовании находит подтверждение положение о концепте как полевом образовании, разработана методика диахронного исследования структуры концепта в разные периоды его существования в языке. Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать выводы об аналогичных факторах концептуальных изменений в разных языках при различной категоризации знаний их носителями.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования в курсах истории лингвистических учений, истории языка, общего и частного языкознания, лексикологии, они могут также служить дополнительным материалом при толковании словарных дефиниций.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были отражены в форме докладов на заседании кафедры французской филологии КемГУ (Кемеровский Государственный Университет, 2005 г.), на аспирантском семинаре кафедры французской филологии (Кемеровский Государственный Университет 2006 г.), на IX Региональном научном семинаре по проблемам систематики языка и речевой деятельности (Иркутский Государственный лингвистический университет, 2006 г.), на IX Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы современной филологии и методики обучения иностранным языкам в ВУЗе и школе» (Пензенский Государственный педагогический университет, 2007 г.), на I Всероссийской конференции по проблемам концептуальной систематики языка, речи и речевой деятельности (Иркутский Государственный лингвистический университет, 2007 г.). Основные результаты исследования представлены в 6 публикациях.
Структура работы. Основной текст диссертационного исследования состоит из введения, трех глав, заключения.
Во введении обосновывается актуальность исследования, указываются объект, предмет исследования, определяются цель, задачи и методы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, дается характеристика материала исследования, обосновывается теоретическая и практическая значимость работы, представляются данные об апробации и описывается структура работы.
В первой главе «Когнитивный подход к изучению эволюции концепта» излагаются базовые теоретические и методологические позиции исследования -описывается история становления когнитивного подхода к языку, определяется основная единица исследования, рассматривается типология концептов, возможности их модификации во времени, разрабатывается методика исследования.
Вторая глава «Эволюция концепта «смелость» во французском языке» посвящена описанию модификации концепта «смелость» в периоды старо-, средне- и современного французского языка; в ней представлены изменения, отразившиеся как на структуре признаков исследуемого концепта, так и в сфере лексики, которая репрезентирует концепт; анализируются факторы и следствия этих изменений.
В третьей главе «Эволюция концепта «смелость» в русском языке» исследуются эволюция данного концепта на двух временных «срезах» — языке XI-XVII и XVII-XX вв., рассматриваются изменения в структуре признаков концепта и состава их репрезентантов, произошедшие на этих этапах развития языка, их предпосылки и следствия.
После каждой главы следуют выводы, где резюмируется содержание глав. В заключении представлены результаты и обобщения по исследованию.
В конце работы приводится список использованной литературы (179 названий), список источников примеров и их условных обозначений (98 названий), список использованных словарей (29 названий).
Предпосылки формирования когнитивного подхода к пониманию значения слова
XX век ознаменовался в лингвистике очередной сменой научных парадигм, которая заключалась в появлении новой менталистской теории когнитивного взгляда на язык, как и на другие области человеческого познания. Можно утверждать, что это было вызвано, в том числе, и интенсивным развитием многих наук и их отраслей, а, следовательно, интеграцией, обусловленной усложнением задач, стоящих перед наукой. Не затрагивая детально на данном этапе вопрос об объекте исследования когнитивных наук, отметим, что интересы когнитивной лингвистики по преимуществу сосредоточены на описании и, что немаловажно, объяснении процессов категоризации действительности человеком и процессов представления знаний о мире в языке. Несмотря на сравнительно недавнее формирование когнитивного взгляда на язык, за этим направлением признается «наличие давней научной традиции» [Кубрякова 1994: 37]. ,„
Некоторые проблемы, стоящие сегодня перед когнитивной лингвистикой, затрагивались еще в эпоху античности. В философии языка того времени они были тесным образом связаны с вопросом о соотношении мышления, языка и окружающей человека действительности, в понимании которого наметилось две тенденции: мышление, познание мира не зависят от языка, таким образом, язык приобретает исключительно инструментальную функцию. Согласно другой точке зрения, сущность языка состоит не единственно в передаче мысли от одного человека к другому, т. е. основная его функция заключается не только в «инструментовке» мышления, но и в способности быть носителем знания. Эти два обобщенных взгляда на язык укоренились в лингвистике и продолжают оказывать влияние на языковедческие теории. Современная когнитивная парадигма в языкознании уходит корнями в идеи приверженцев второй точки зрения на природу и функции языка. Наиболее заметно эта
полемика отразилась в работах Платона и Аристотеля, которые обращали внимание на соотношение «вещи» и её наименования. Платон [Платон 1998] посвятил этой проблеме один из своих известных диалогов — «Кратил», где обсуждается следующая проблема: имеют ли имена «природное» или «условное» происхождение. При этом наблюдается столкновение двух противоположных точек зрения: одна выражается в том, что наименования определяются природными свойствами предметов и «отражают природу вещей подобно отражению в зеркале», другая - в том, что имена даются вещам по воле людей: «имена - это результат договора, и для договорившихся они выражают заранее известные им вещи, и в этом-то и состоит правильность имен» [Платон 1998: 13]. Как отмечает Н. Н. Болдырев, «по существу, в своих известных сочинениях - «Диалогах» - Платон попытался обосновать принципы научного познания и, в частности, способность человека к восприятию мира с помощью гештальтов» [Болдырев 2000: 74]. Аристотель развивает идеи Платона, разграничивая существенные и несущественные признаки предмета, ставит существенные признаки в основание категории. Это учение получило название классического, или традиционного подхода к формированию категорий, которое доминировало в науке на протяжении всего-XX в. Несмотря на то, что многие из работ дошли до нас лишь фрагментарно, можно заключить, что греческая традиция (особенно в эллинистический период) во многом определила круг интересов учёных, занимающихся языком. Идея слова-логоса как вместилища и источника знаний, несомненно, оказалась плодотворной для последующего развития науки.
Проблема выражения или отражения языком реальности стала объектом широкой дискуссии и в средневековой философии. В данной связи философы этой эпохи отмечали два вида существования. Это, с одной стороны, экзистенция — существование в реальном времени и пространстве и, с другой стороны, субзистенция - существование вне времени, в ментальном, воображаемом мире. Отсюда вытекает вопрос о существовании реальности, который был поднят схоластами. В понимании этого вопроса существовало три направления: реализм, номинализм и концептуализм. Если реализм как течение признает лежащую вне сознания реальность, номинализм, в крайних своих проявлениях, отрицает онтологическое значение универсалий, то умеренный номинализм признает существование объективной реальности, акцентируя её представленность в сознании. Таким образом, это средневековое течение в философии послужило методологическим базисом для многих научных парадигм, в том числе, когнитивной. Номиналистические тенденции прослеживаются и в современной семантике - существуют теории, в которых, не приписывая понятиям онтологической реальности, вместе с тем утверждается, что они воспроизводят объединяемые в человеческом уме сходные признаки единичных вещей. Сюда можно отнести, например, теорию эксперенциализма Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в которой образование концептов, мышление и понимание характеризуются в терминах человеческого тела. Неслучайно позже авторы стали именовать её «Embodied realism» (эксперенциализм, «телесный» реализм) [Rakova2003: 18].
Необходимо отметить, что преемственность современной науки и средневековой схоластики достаточно условна, так как средневековая философия «не могла найти обобщающий алгоритм, который дал бы возможность закрепить достигнутое и идти дальше» [Стяжкин 1970: 173]. Имя является доминантой схоластических изысканий, и в рамках философии имени ставятся и ищутся пути решения проблем, актуальных и для современной семантики, в их числе такие, как, например, отношение имени и вещи, имени и понятия о вещи, объективной реальности и представления о ней.
Оформление когнитивной парадигмы в лингвистике XX в
По сравнению с другими направлениями, появление когнитивной парадигмы в языкознании произошло относительно недавно. Вероятно, именно поэтому наблюдается некоторая терминологическая неустойчивость в обозначении этого течения в языкознании - в работах разных авторов встречаются такие понятия, как когнитивная лингвистика, когнитивно-ориентированная лингвистика, лингвистика как когнитивная наука, когнитивные исследования в лингвистике, когнитивные процессы в области лингвистики, лингвокогнитология, когнитология и др. Кроме того, неустойчивость наблюдается и в употреблении терминов «ментальный» -«мыслительный» - «когнитивный», «мышление» — «сознание» — «мозг». Необходимо отметить, что такое терминологическое разнообразие, учитывая относительную новизну этой парадигмы, способствует расширению тематики исследований.
Не наблюдается также единства и в вопросе происхождения этой парадигмы. Так, Т. Г. Скребцова [Скребцова 2000] связывает появление когнитивистики с изданием работы Дж. Миллера и Ф. Джонсон-Лэрда «Язык и восприятие», Н. Н. Болдырев [Болдырев 2000] относит возникновение когнитивизма к 40 гг. XX в. и обуславливает его развитием в США прикладных исследований, В. М. Алпатов [Алпатов 1999] указывает, что появление когнитивизма пришло на смену генеративной парадигме. Именно кризис навел на мысль о том, что человек думает не алгоритмически, в этом смысле когнитивная лингвистика - альтернатива генеративной теории. Когнитивный «поворот» связан со стремлением преодолеть бихевиоризм как методологию научного исследования и вернуть мысль в науки о человеке. Можно рассматривать «когнитивную революцию» как одно из проявлений интерпретативного подхода в различных дисциплинах (бихевиористское направление использовало в качестве предмета исследования исключительно доступные человеческому наблюдению поведенческие реакции, вопросы, связанные с мышлением, не рассматривались). В более широком смысле когнитивизм как менталистская теория представляется как альтернатива господствовавшему объективизму.
Фактически же появление когнитивной парадигмы обуславливается терминологизацией понятия «когнитивизм», формированием терминологического ядра парадигмы, заключающейся в создании профильных словарей; научным обсуждением этой проблематики.
В то же время, как мы попытались показать выше, идеи, положенные в основу когнитивной лингвистики, продолжительное время существовали в науке о языке, однако их суммирование в отдельную научную парадигму, в силу разных причин, произошло только в XX в. Оценивая путь, пройденный лингвистикой в XX веке, можно, по словам О. Г. Ревзиной, выделить следующие черты: «языкознание всегда охотно вступало в контакт с другими науками - как гуманитарными, так и естественными. Не говоря о биологии, социологии, психологии, можно напомнить бум математической лингвистики в 1960-ые годы. Подобные контакты неизбежно сопровождались наводнением лингвистических исследований терминами науки-донора. Столь же неизменным оставался и результат: в языкознании оставалось то, что адекватно ее предмету, остальное либо устранялось, либо насыщалось собственно лингвистическим содержанием» [Ревзина 2004: 8].
Появление когнитивной парадигмы в лингвистике вызывает самые разные оценки — от признания ее революционного характера, например [Rakova 2002: 19], до полного отрицания её самостоятельности; П.Б.Паршин, например, критикует «когнитивную революцию» в лингвистике и считает спецификой когнитивной лингвистики «не столько введение в обиход какого-либо нового инструментария и процедур, сколько снятие запрета на введение в рассмотрение неких новых, «далеких от поверхности», теоретических, модельных инструментов» [Паршин 1996: 30].
Развитие лингвистического когнитивизма идет, в основном, по двум направлениям: психологическом (в расширенном значении этого понятия) и логико-математическом. Программа когнитивной лингвистики первого направления рассматривается как инверсия традиционной психолингвистики: при традиционном психолингвистическом подходе психологически обосновываются лингвистические гипотезы, в когнитивной же лингвистике выявляется лингвистическая реальность психологических гипотез. Не вызывает сомнений тот факт, что функционирование языка опирается на определенные психологические механизмы, однако его доказательство наталкивается на серьезные трудности, вызванные различием методологий лингвистики, которая тяготеет к «семиотическому циклу», и психологии, входящей в «физический цикл» наук и где, в отличие от лингвистики, эксперимент как метод проверки гипотез имеет большое значение. Кроме того, когнитивная лингвистика и когнитивная психология не вполне совпадают в своей предметной направленности: как отмечает Р. М. Фрумкина, «в обоих случаях ценным считается понимание того, что на самом деле происходит в нашей психике (...). Когнитивная лингвистика при этом ориентирована на проблему коммуникации и понимания, когнитивная психология — преимущественно на познавательные процессы; и оба направления пересекаются на проблеме операций со знаками, поскольку вне знаковых систем невозможны ни коммуникация, ни познание» [Фрумкина 1999: 55]. Это течение когнитивной лингвистики рассматривает значение как психически реальное явление. Рассматриваемая нами парадигма не ограничивается лишь связями с психологией. Другое течение в когнитивной лингвистике характеризуется связями с «семиотическим» циклом дисциплин, такими как математика, логика, искусственный интеллект. Предметом изучения здесь является собственно познавательный процесс. Так, по словам Д. Герертса, «когнитивная лингвистика является наукой о познавательной функции языка, причем часть «когнитивная» ... означает то же, что и в когнитивной психологии; она отражает тот факт, что язык рассматривается как промежуточная информационная структура, необходимая для взаимодействия человека с окружающим его миром - восприятия новой информации и хранения старой» [Geeraerts 1995: 112-113], а результаты нередко записываются на различных формальных языках. Как отмечает Ж.-Ф. ле Ни, «основная идея, исходящая из этого анализа, заключается в -том, что объект когнитивной науки един — это познавательная способность» [Le Ny 1989: 32].
Концепт «смелость» в языке старофранцузского периода
Предпосылкой формирования национального французского языка являются тексты, распространенные на территории всей страны, преодолевавшие барьеры всех диалектов и тем самым объединяющие и фиксирующие язык. Во французском языковом регионе такими текстами стали эпические поэмы, веками бытовавшие в форме устной традиции; язык постоянно изменялся, отшлифовывался, становясь понятным носителям разных диалектов. И хотя типологически язык таких сказаний являлся своеобразной бесписьменной формой литературного языка и был противопоставлен разговорной форме, можно предположить, как отмечает Н.В. Феоктистова, закономерное влияние на него разговорного языка, отражающего сознание народа: «высшая форма абстракции — имена существительные отвлечённые, имеют, как свидетельствуют данные многих языков, длительную историю развития, безусловно, отражающую развитие языка и мышления» [Феоктистова 1984: 5].
После распада империи франков её население оказалось перед лицом феодальной раздробленности, и эпос имел большое значение для формирования национального самосознания французов. Вторичность материального в эпических произведениях характерна для христианского мироощущения, в то же время оно взаимодействует с традиционным устройством общества. Эти факты не противоречат друг другу, но парадоксальным образом взаимодействуют, выстраиваясь в своеобразную иерархию ценностей человека того времени. Как справедливо отмечает Б. С. Каганович в предисловии к книге П. М. Бицилли «Категории средневековой культуры», «Основными формами восприятия и переживания мира, специфическими для средневекового человека (а он исходит из того, что человек - «животное историческое»), Бицилли ... считает символизм и иерархизм мышления» [Бицилли 1995: XIII]. Истоки иерархизма сознания кроются не только в особенностях самой феодальной системы, но и в отсутствии единого государства. Истоки же символизма средневекового сознания находят своё начало отчасти в том, что средневековому человеку было присуще, как считает П. М. Бицилли [Бицилли 1995], и что находит своё отражение в фактах языка, моноцентрическое мировидение; если современный человек понимает мир как процесс, то в средневековую эпоху мир был уже результатом, отсюда вытекает стремление человека к единству, универсальности, стремлению охватить мир в целом. Воспринимая мир как результат, человек стремился приписать всякой абстрактной идее вещественное существование, такая «вещность» средневекового мышления находит своё отражение, в том числе, в восприятии концепта «смелость».
Эпические тексты, характерные для языка данного периода, безусловно, представляют ценный материал для нашего исследования; это же мнение мы находим и в работе «Элементы общей лингвистики» А. Мартине: «возможно, литературные произведения очерченного периода закономерно представят неполную картину языка. Но, если любые другие сведения об этом языке недоступны, можно смело считать эти источники полностью презентативными» [Martinet 1970: 30-31]. Время записи устной традиции можно датировать периодом с IX-XII по XIV вв. (для «позднего» средневековья), реальные же исторические события, послужившие основой сюжета в данных произведениях, происходили намного раньше. Из этого следует, что устная традиция могла бытовать, как минимум, примерно в течение четырёх веков до первой её письменной фиксации.
Чтобы исследование не носило субъективный характер, при выявлении значений вербальных реализаций концепта «смелость», использовались лексикографические данные, а также словники, комментирующие значения для каждого отдельного случая употребления (например, такие словники имеются в «Li coronement Loois», «Aucassin et Nicolette» и др.). В некоторых случаях, когда это необходимо, дополнительным средством объективации значения репрезентанта служат переводы на французский язык. Все примеры на иностранном языке снабжены русскоязычным переводом, который имеет информационную функцию. Там, где не представлялось возможным найти издание текста на русском языке, приводятся переводы, выполненные автором настоящего исследования.
Прежде чем приступить к анализу концепта «смелость», необходимо упомянуть некоторые важные для данного исследования особенности французского языка очерченного периода.
Концепт «смелость» в русском языке
Исследование концепта «смелость» в русском языке основывается на тех же принципах и тех же методах, что и исследование концепта во французском языке, однако специфика исследуемого материала накладывает отпечаток своеобразия на этот опыт, прежде всего, это касается хронологической структуризации материала. Принятая пятиэтапная периодизация истории русского литературного языка (1. Литературный язык древнерусской (древневосточнославянской) народности (X - начало XIV в.); 2. Литературный язык русской (великорусской) народности (XIV - середина XVII в.); 3. Литературный язык начальной эпохи формирования русской нации (середина XVII - середина XVIII в.); 4. Литературный язык эпохи образования русской нации и общенациональных норм литературного языка (середина XVIII — начало XIX в.); 5. Литературный язык русской нации (середина XIX в. - по наши дни) представляется не отвечающей цели нашего исследования в силу её дробности. Мы примем в нашей работе подход к хронологии истории языка Н. А. Мещерского и будем придерживаться его классификации. В ней различаются два периода развития русского литературного языка, границей между которыми становится XVII в.; классификация построена по принципу противопоставления донационального и национального литературного языка: «закономерности развития славянских литературных языков, благодаря которым отличаются в них донациональные и национальные периоды, прослежены и обоснованы в [Виноградов 1961]. Различия эти достаточно заметны и характерны. К числу наиболее существенных следует отнести «появление в национальный период развития литературного языка его устно-разговорной формы, которая как средство устного всенародного общения между членами языкового коллектива, по-видимому, отсутствовала в древнюю эпоху, когда письменно-литературная форма языка непосредственно соотносилась с диалектной разговорной речью и противопоставлялась этой последней» [Мещерский 1981]. Основываясь на данной периодизации, изучение концепта «смелость» происходит в рамках двух временных отрезков: XI-XVII вв. и XVII-XX вв.
Исследование концепта «смелость» в русском языке проводится на материале, почерпнутом из различных литературных произведений, применительно к донациональному этапу развития языка немалую часть составляют произведения эпического жанра, представляющего, в силу своей специфики, ценность для исследования концепта. Прежде чем приступить к анализу признаков, составляющих структуру данного концепта в русском языке, необходимо отметить наличие большого количества морфологических и фонетических вариантов одного слова. Учитывая то, что целью работы является исследование концепта, эти варианты понимаются как его репрезентанты и не рассматриваются в качестве вербализаций отдельного концепта. В отдельных случаях, когда это необходимо, приводятся переводы примеров на современный русский язык.
Собранный материал позволил выделить следующие слова-репрезентанты концепта «смелость»: крепкий, дерзкий, доблестный, мужественный, а также их морфологические и фонетические варианты.
Также как и во французском языке, собранный материал позволяет выделить признак «локализация качества в мышцах», выражаемый репрезентантами дерзкий, крепкий. Большинство словарей сходятся в понимании этимологии слова «дерзкий». Так, этимологический словарь А. Г. Преображенского [Преображенский 1958] связывает происхождение слова с санскр. drhyati - крепкий, то же понимание прослеживается в [Фасмер 2004], словарь [Шанский 1975] указывает на наличие общеславянского суффикса к дързь («крепкий», впоследствии «смелый»), словарь [Черных 1999] указывает, что слово зафиксировано в XI в. в форме дерзый, образованного от дерзати — твердеть, становиться крепким. Такая этимология и эволюция значения слова, а, следовательно, и способ концептуализации этого понятия, на наш взгляд, во многом близка французскому hardi. Признак «локализация качества в мышцах» находит свое отражение в следующих примерах: (107) Аще и вещя душя въ друзе теле, нъ чясто беды страдаше [СПИ, 299]. Хоть и была вещая душа в храбром теле, но часто страдал он от бед. Последующие комментаторы приняли поправку «въ дръзе теле» — в храбром теле, дерзком, смелом [СПИ, 174]: (108) .. .был он дерз и храбор, от главы и до ногу его не бе в немь порока [Повесть о битве на Калке, 131].
Необходимо отметить, что, судя по этому и многим другим примерам, парное употребление синонимов было характерно не только для французского эпоса. Характеристика «смелый», связанная с данным концептуальным признаком, применялась в большинстве случаев к людям высокого социального положения. Так, великий князь Дмитрий Иванович, в повести «Задонщина» описывает своё войско: (109) А воеводы у нас уставлены 70 бояринов, и крепцы бысть князи белозерстии Федор Семеновичь, да Семен Михайловичь... [Задонщина, 3]; (110) А воеводы у нас крепкия, а дружина сведома, а под собою имеем боръзыя комони, а на собе злаченый доспехи, а шеломы черкаские... [Задонщина, 4]. В данных примерах (109, ПО) реализуется признак «локализация качества в мышцах»: быть крепким - быть сильным - и, следуя логике эпического текста, - быть смелым. Признак «локализация качества в сердце» имел гораздо меньшую распространенность, чем предыдущий, и относился как сфере военных действий, так и к религии, области, безусловно, важной в мире человека того времени: (111) Сии же умроста мужественемъ сердцемь, оставлеша по себе славу последнему веку [Ипатьевская летопись]; (112) ...иже истягну умъ крепостію своею и поостри и сьрдця своего муэюъствомъ [СПИ, 18]. Который выковал ум твердостью своей и наострил его мужеством своего сердца.