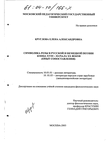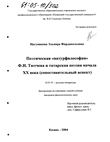Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Римская литература и латинская образованность в России XVIII — XIX веков 21
Глава II. Рецепция римской литературы в России XVIII века. Путь к вершине 86
1. От Петра до Елизаветы: утилитарное начало 86
2. Эпоха Екатерины: точка классического равновесия 120
3. Переходная эпоха: на пороге нового века 166
4. «Россиада» М. М. Хераскова и римская эпическая традиция 170
Глава III. Рецепция римской литературы в первой половине XIX века. Романтический экзамен 204
1. Старшее поколение: жизнь в эпоху перемен 208
2. Поколение П. А. Вяземского и К. Н. Батюшкова: точка перелома — 1 236
3. Поколение Пушкина и декабристов: точка перелома — 2 274
4. Поколение славянофилов и западников: германская мудрость против римской трезвости 305
5. Максим Иванович Невзоров: «Друг юношества» и враг Рима 325
Глава IV. Рецепция римской литературы во второй половине XIX и в начале XX века. Восстановление утраченных позиций 337
1. От шестидесятников до начала XX в. Гимназисты против семинаристов 339
2. От В. С. Соловьева до акмеистов. Новая волна римского Ренессанса 370
3. Марк Алданов — эрудит ренессансной эпохи 388
Заключение 397
Список использованной литературы 406
Список сокращений 438
- Римская литература и латинская образованность в России XVIII — XIX веков
- «Россиада» М. М. Хераскова и римская эпическая традиция
- Поколение Пушкина и декабристов: точка перелома
- От В. С. Соловьева до акмеистов. Новая волна римского Ренессанса
Введение к работе
Данное исследование, осуществленное на стыке различных филологических дисциплин классической и русской филологии, с привлечением (там, где это касалось связи проблематики рецепции и образования) также истории педагогики, является первой в отечественной науке попыткой дать набросок целостной картины рецепции римской литературы во всем ее объеме в России широко понимаемой Императорской эпохи (т. е. от начала царствования Петра I с беглым обзором предпосылок, сложившихся в культуре Московской Руси XVI первой половины XVII веков и до революции 1917 г.). Выбор эпохи (точнее, ее условных границ) осуществлен исходя из характера образовательной практики, которая только в данный период включала в себя (по крайней мере начиная со среднего звена) гуманистический элемент: Московская Русь до XVII в. знала лишь элементарную школу, и XVII столетие представляет собой еще недостаточно исследованный переходный этап от элементарной школы к высшей (Славяно-Греко-Латинская Академия); здесь и далее под гуманистической культурой понимается культура, включающая в свои образовательные практики греко-латинский элемент в качестве одного из ведущих. Что же касается революции и пореволюционной эпохи, она была резко враждебна гуманистической культуре и (за исключением неудачного опыта сталинского периода) согласилась терпеть ее в конечном счете лишь в качестве одного из редуцированных элементов высшего образования.
Актуальность исследования. Несмотря на наличие большого количества исследований по рецепции римской литературы, интерес к которой усилился в течение последних десятилетий, мы можем отметить, с одной стороны, концентрацию исследовательского внимания к ведущим фигурам (А. С. Пушкин в трудах Т. Г. Мальчуковой, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. Н. Майков в недавнем исследовании А. В. Успенской); недавний труд Р. Л. Шмаракова, всеобъемлющий по охвату русского материала, посвящен одному античному автору. Появление исследования, которое давало бы общую картину рецепции римской литературы в России, является назревшим вопросом — частные исследования достигли такого уровня, когда, с одной стороны, стало возможным и настоятельным обобщение достигнутых результатов, а с другой — качественный прогресс невозможен без знания общего фона. Соображения актуальности и новизны заставили автора дать в сильно сокращенном виде материалы, касающиеся фигур первого ряда; весьма актуально в сложившейся ситуации и массированное привлечение фигур второго ряда.
Цель исследования — создать общую картину рецепции римской литературы в России и — насколько это окажется возможным — ее места среди прочих влияний, испытанноых соответствующими эпохами. Достижение указанной цели предполагало решение целого ряда теоретических и практических задач: 1) создать обоснованную периодизацию рецепции, 2) выявить список наиболее значимых имен — как первого, так и второго ряда, 3) выявить и проанализировать культурно-образовательные факторы, влияющие на рецепцию, 4) создать дифференцированную по жанрам, авторам и эпохам динамическую модель представлений русского общества в избранный период о римской литературе во всем ее объеме, и 5) дать хотя бы беглый и предварительный историко-культурный анализ описываемых процессов. Полнота охвата в данной области, конечно, недостижима. Как представляется, она может быть плодом совокупных трудов не одного поколения ученых и будет достигнута лишь в том случае, если исследовательские усилия не будут сосредоточены на ограниченном количестве выдающихся имен. Но широта, достаточная для того, чтобы дать общее представление о процессе во всей его совокупности, могла быть и как нам представляется была достигнута. Если наше исследование даст определенный набор реперных точек для поисков в указанном направлении, она целиком выполнит свою миссию.
Здесь же отметим поскольку это чрезвычайно важно прежде всего относительно практической значимости работы эдиционный аспект нашего исследования, затрагивающий поиск и идентификацию скрытых и открытых цитат. Нашей целью было внести хотя бы скромный вклад в повышение качества изданий на русском языке прежде всего примером более совершенной системы ссылок и цитирования, нежели принято в отечественных изданиях.
Объект исследования настоящей диссертации рецепция римской литературы прежде всего в русской литературе и в общественном мнении, насколько оно в ней выражается. Рецепция понимается как Fortwirken в «Истории римской литературы» Михаэля фон Альбрехта. Обоснование понятия в его труде не дается, но соответствующий раздел непременно присутствует в рассмотрении любого автора; вслед за ним мы видим в рецепции «посмертное бытие» заданной совокупности текстов в конкретных пространственно-хронологических рамках (время — с конца XVII в. по начало XX, пространство — территория России, не включая территории, где западная культура доминировала до их вхождения в состав Российского государства: остзейские провинции, Царство Польское, Великое княжество Финляндское). Это посмертное бытие может существовать в разных формах: 1) как общее культурное достояние, для которого важна лишь принадлежность к престижному классическому миру (декоративные элементы — эпиграфы, «крылатые слова», надписи на арках, медалях и т. п.), 2) как совокупность переводов римской литературы на русский язык (в силу его бурного развития и быстрых изменений в первую половину указанного периода переводы устаревали довольно быстро, и вся работа XVIII столетия в XIX уже утратила актуальность), 3) как «общественное мнение» — совокупность суждений о римской классике как влиятельных, так и рядовых фигур, и, наконец, 4) как влияние классических литературных образцов на взгляды, жизнь и творчество их русских читателей. В качестве высшей формы рецепции мы рассматриваем универсализм — под которым мы будем понимать способность воспринять римское наследие в целом и оплодотворить им свое собственное творчество, а иногда — и жизнь. Безусловно, здесь не имеется в виду непременное знакомство со всеми памятниками римской литературы; для универсального подхода достаточно освоения и творческой переработки римской литературы во всем многообразии ее жанров с непременным условием пристального внимания к ключевым фигурам (Цицерон, Вергилий, Гораций, Овидий, Тацит). При этом знание латинского языка — фактор не решающий: Пушкин, не обладавший значительными филологическими познаниями, — представитель универсального подхода в его лучшем воплощении, поскольку сумел претворить в творчестве всю совокупность римских литературных влияний, а превосходный латинист Брюсов таковым не является: его интерес преимущественно сосредоточен на экзотическом и малоизвестном. Привлеченный материал (произведения изящной словесности всех жанров, письма, мемуары, журнальные публикации) прежде всего был ориентирован на широту исследования; задача углубленного рассмотрения отдельных вопросов, как правило, не ставилась. Из рассмотрения были сознательно исключены несколько направлений, лучше всего описанных отечественной филологической наукой: поскольку известный указатель Е. В. Свиясова (Античная поэзия в русских переводах. XVIII–XX вв. ИРЛИ, 1998) с достаточной полнотой отражает переводы античной поэзии в интересующих нас хронологических рамках, у нас не было необходимости подробно рассматривать этот аспект (хотя данные Е. В. Свиясова были также учтены в выводах работы и в определенной мере дополнены нашими изысканиями).
Предмет исследования — рецепция и совокупность культурно-образовательных факторов, оказывающих на нее влияние.
Материалом исследования стали литературные произведения, официальные документы, речи, публицистика, переписка, воспоминания, иные документы (как опубликованные, так и неопубликованные), содержащие следы влияния римской литературы и оценки ее — как в целом, так и отдельных авторов. Стремлением автора было охватить все возможные каналы трансляции общественного мнения — прежде всего образованных кругов, релевантные для данного предмета. Список исследованных источников, где эти следы были выявлены, приведен в перечне использованной литературы.
Метод работы — основанный прежде всего на традиционном филологическом анализе избранного корпуса текстов — был существенно дополнен. С методологической точки зрения важно — кроме филологического анализа текстов — прежде всего рассмотрение на фоне истории образования, которая помогает дополнительно аргументировать возможность (или невозможность) обращения той или иной фигуры, попавшей в сферу нашего внимания, к античным текстам в оригиналах или же в переводах. Чрезвычайно важен тот факт, что русская образовательная система, формирующаяся в XVIII и сформировавшаяся в XIX столетии, обладала значительно большей вариативностью, нежели большинство современных систем, и жизненные уклады, заложенные ею, также весьма разнообразны, в том числе и в интересующем нас аспекте. Естественно, педагогика рассматривалась не как самодовлеющая область, а в связи с постоянным фокусом рецепцией. Потому нас интересовало не само по себе преподавание языка: латынь была для нас важна как ключ к литературе, читаемой в оригинале. Прежде всего мы опираемся на разработанную нами концепцию пяти образовательных укладов, сложившихся в России XVIII в.
Важным методологическим новшеством исследования античной рецепции мы считаем библиотековедческие штудии. В работе использованы данные исследования лишь одной библиотеки из Отдела редких книг и рукописей НБ МГУ книжной коллекции знаменитого героя наполеоновских войн, кавказского наместника генерала А. П. Ермолова; обращались мы и к фрагменту личной библиотеки фаворита Императрицы Елизаветы Петровны и одного из основателей Императорского Московского университета И. И. Шувалова. В сотрудничестве с Мариной Владиславовной Ленчиненко идет исследование греко-римской части библиотеки воспитателя Александра и Константина, товарища министра народного просвещения и первого попечителя Московского учебного округа М. Н. Муравьева. Но это более чем перспективное направление нуждается в значительных исследовательских силах; было бы любопытно отслеживать судьбу не только личных коллекций в целом, но и изданий какого-либо конкретного автора либо группы авторов.
Главной методологической трудностью работы была необходимость постоянно учитывать возможность рецепции через вторые и третьи руки. Мы отдаем себе отчет в том, что, возможно, не все решения в этой области правильны и что может иметь место влияние новоевропейского промежуточного источника там, где мы видим античный. Уделить достаточного внимания источникам суждений было бы возможно лишь в рамках исследования индивидуального творчества той или иной из интересующих нас фигур; но трудов, на которые мы могли бы опереться в данной области, совсем немного.
Положения, выносимые на защиту:
1. Рецепция римской литературы была — наряду с рецепцией современных западных литератур и несколько уступая важнейшим из них — одним из важнейших факторов, обусловивших ход литературного процесса в России, особенно в период ее расцвета — во второй половине XVIII и в первой половине XIX в., а также в кратковременный предреволюционный период.
2. Своеобразие рецепции римской литературы в России сравнительно с Западной и Центральной Европой во многом определяется тем обстоятельством, что интенсивное освоение римского наследия совпало с эпохой интенсивного восприятия современной западной литературы; в результате мы имеем причудливую картину, образующуюся в результате наложения друг на друга нескольких «волн».
3. Чрезвычайно важным для начального этапа рецепции был нормативный характер римского литературного влияния; его следы не исчезли и после торжества романтической эстетики: так, напр., идеи эстетического совершенства неотделимы от интереса к творчеству Горация.
4. Римская литература в отдельные эпохи, оказывая влияние на русское общество, выходит за рамки литературы и непосредственно смыкается с жизненной практикой (Цезарь для участников наполеоновских войн, Саллюстий и Тацит для поколения декабристов).
5. Доминирование утилитарных тенденций в том или ином направлении общественной мысли и литературной критики имеет необходимым следствием попытку дискредитировать римскую литературу в глазах общества; аналогичные удары наносятся и по гуманистическому компоненту образования.
6. Напротив, пробуждение интереса к эстетическим ценностям в обществе неотделимо от роста внимания к латинской словесности; последнее является необходимым признаком всех эпох культурного расцвета в Росийской Империи. Насколько это доступно научному исследованию, влияние римской литературы как одной из областей античной — вслед за Ф. Ф. Зелинским и А. И. Зайцевым — признается положительным фактором культурного развития.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые создается модель представлений русского общества императорского периода о римской литературе в развитии, дифференцированно по эпохам восприятия, по жанрам и авторам (она подробно описана в Заключении). Для многих авторов исследование рецепции римской литературы осуществляется впервые, как и вообще впервые предпринимается попытка «массового» изучения рецепции. Комплексный характер диссертации с привлечением дополнительных источников не в меньшей степени, нежели сама рассматриваемая модель, послужит ориентиром необходимых в нашей филологии исследований рецепции как античной, так и западноевропейских литератур.
Теоретическая значимость исследования прежде всего заключается в том, что привлечением образовательного фона создана надежная — насколько это возможно — база для исследования хода и характера рецепции; изучение образовательного бэкграунда каждой из рассматриваемых фигур является необходимым для проверки и корректировки выводов, сделанных на основании филологического анализа текста. Важным для теоретического аспекта работы является введение понятия универсализма — такого подхода к римской литературе, при котором для автора оказываются значимыми и важными все жанры и направления римской литературы в лице хотя бы важнейших их представителей. Универсализм не обязательно связан напрямую с образовательным уровнем. Более всего он характерен для второй половины XVIII — начала XIX в. Важным теоретическом аспектом является обоснование важности для изучения рецепции библиотековедческих штудий, некоторые из которых были исполнены самим автором.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее положения и выводы могут быть использованы в курсах истории античной и русской литературы на филологических факальтетах российских университетов, а также для повышения уровня издания литературных текстов и качества комментирования. Знакомство с данной диссертацией может послужить ориентиром для исследователей рецепции, указывая новые и перспективные направления, с одной стороны, а с другой — давая представление о роли и месте каждого конкретного явления в рамках культурного развития Российской Империи за весь период ее существования.
Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации обсуждались на расширенном заседании Научно-методического совета Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова 22 мая 2009 года; отдельные положения и разделы — на конференции «Античность в современном измерении», посвященной 35-летию научного кружка КГУ «Античный понедельник» и проведенной в Казани 14–16 ноября 2001 г. (техника рецепции в эпических произведениях), на международном конгрессе в Ассизи, посвященном Проперцию (Properzio nel genere elegiaco. Modelli, motivi, riflessi storici. Atti Convegno Internazionale. Assisi, 27–29 maggio 2004), на конференциях памяти И. М. Тронского в Институте лингвистических исследований (Санкт-Петербург) — 20–22 июня 2005 г. (IX), 19–21 июня 2006 г. (X), и 22–24 июня 2009 г. (XIII); 21–23 июня 2010 г. (XIV); 20–22 июня 2011 г. (XV); прогресс, который исследование рецепции могло бы обеспечить в издательской практике, обсуждался 1 ноября 2007 года на конференции ИРЛИ (Пушкинского Дома) в Санкт-Петербурге — «Ревнители российского Просвещения: М. Н. Муравьев (1757 – 1807), И. П. Тургенев (1752 – 1807) и М. М. Херасков (1733 – 1807)» и на Круглом столе, посвященном памяти выдающихся деятелей русскаго Просвещения И. П. Тургенева, М. Н. Муравьева, М. М. Хераскова (1807–2007 гг.) и организованном 20 декабря 2007 года в Научной библиотеке МГУ, в докладах, посвященных проблематике комментирования русского исторического эпоса XVIII в.
Структура исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, библиографии и списка сокращений. Введение посвящено истории вопроса; первая глава «Римская литература и латинская образованность» рассматривает образовательный фон рецепции и анализирует возможности выпускников различных учебных заведений Российской Империи знакомиться с римской литературой в оригиналах и переводах; вторая глава — «Рецепция римской литературы в России XVIII века. Путь к вершине» — посвящена рецепции в XVIII столетии, подразделяясь на эпохи от Петра до Елизаветы, екатерининскую и павловскую; в последнем разделе — в качестве примера подробного анализа — изучается влияние латинской эпики на Россиаду Хераскова; третья («Рецепция римской литературы в первой половине XIX века. Романтический экзамен») и четвертая («Рецепция римской литературы во второй половине XIX и в начале XX века. Восстановление утраченных позиций») главы охватывают XIX в. и начало XX; они посвящены: третья — старшему поколению, поколение П. А. Вяземского и К. Н. Батюшкова, поколению Пушкина и декабристов и поколение славянофилов и западников; четвертая — эпохе от шестидесятников до начала XX в. и от В. С. Соловьева до акмеистов. Заключение подводит итоги работы. Список использованной литературы содержит всего 426 наименований. К работе приложен Список сокращений.
Введение
Во введении рассматривается история вопроса и дается оценка немногочисленным исследованиям, затрагивающим тот или иной аспект проблемы в целом. В той области, которая является предметом нашего исследования, обобщающих трудов нет. Уже отмеченный указатель Е. В. Свиясова (представляющий выдающееся достижение отечественной филологии) затрагивает только стихотворные переводы и близкие к оригиналу переложения; книга Э. Д. Фролова рассматривает (правда, широко понимаемое) отечественное антиковедение; монография Г. С. Кнабе «Русская античность» скорее культурологическое, нежели филологическое исследование, не решающее вопроса об источниках, не добавляющее существенных сведений и не могущее претендовать на полноту. Кроме того, дается характеристика современного этапа в исследовании античной рецепции (труды Т. Г. Мальчуковой, М. Я. Паит, А. В. Успенской, Р. Л. Шмаракова и др.), излагаются методологические предпосылки и принципы работы (отраженные в первой части нашего автореферата).
Римская литература и латинская образованность в России XVIII — XIX веков
Чтобы знать критически самое темное время русской истории, надобно знать по-немецки! В нашей учености и в нашей литературе есть что-то чудное, не такое, как у всех; а все нет оригинальности! Блажен потомок, который уразумеет объяснить это! А я объясняю это тем, что у нас нет терпения, мало любви к литературе; что просвещение не разлилось ровно, а скопилось в одном углу, в который большая часть людей грамотных и не заглядывают! М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти Регулярная школа появилась в России сравнительно поздно. Для XV-XVI столетий сведения о знакомстве с латинской литературой носят единичный характер. Дипломат Федор Иванович Карпов из рода князей Фоминских в Послании митрополиту Даниилу цитирует Овидия {met. I, 144-145 «Ныне живут от по-хищениа; несть гостиник от гостя без боязни. Несть тесть от зятя; и братская убо любовь редка есть» и др. — СК, вып. 2, ч. 1, 1988). Был перед его глазами латинский оригинал или перевод на один из новых языков? Пока мы не располагаем данными, чтобы точно ответить на этот вопрос. П. Н. Берков считает, что, когда исследование о роли античной литературы в развитии литературы русской будет написано, самая большая глава будет посвящена именно Овидию: речь идет не только о том, что принято обозначать как «литературное влияние», но и о введении в античность в целом . Данные нашего исследования подтверждают его предположение: конкурентом ему может выступить только Гораций.
Первый, по-видимому, русский почитатель римской литературы, о котором мы достоверно знаем, что он владел латынью и читал авторов в оригинале, изучил ее уже покинув отечество: знаменитый изгнанник князь Андрей Михайлович Курбский (ок. 1528-1583) писал Ивану Грозному, проецируя судьбу Цицерона на собственную и рассматривая его в первую очередь как человека и политика, а не как прозаика: «А всяко посылаю ти две главы, выписав от книги премудраго Цицерона, римскаго наилепшаго синглита, яже еще тогда владели римляне всею вселенною. А писал той ответ к недругом своим, яже укаряше его изогнанцом и изменником...»33.
Переводческая деятельность в сфере римской классики языческого периода не может развернуться широко, поскольку от книг ищут либо практического научения, либо духовного наставления; вторая задача решается греческими Отцами Церкви, а первая — по большей части более новой литературой. Тем не менее есть и свидетельства знакомства с латинскими писателями античной эпохи. Краткую грамматику Доната переводит в молодости Дм. Герасимов и отправляет архиеп. Геннадию из Рима ок. 1491 г.34 (Отметим в скобках, что Дм. Герасимов работал как переводчик с Максимом Греком, а Федор Карпов пользовался советами последнего.) М. Д. Каган пишет: «Традиционным центром латинской образованности в Московском государстве был Посольский приказ . Перевод Дмитрия Герасимова представлял собой пособие по латинскому языку для русских и был отчасти вызван необходимостью прибегать к латыни в дипломатической практике и в делопроизводстве. С другой стороны, интерес к грамматическим жанрам был связан с ростом светского образования и распространением явлений грамматической культуры» (СК, вып. 2, ч. 1, с. 37). Кружок новгородского архиерея интересуется латынью скорее вынужденно — для полемики с еретиками нужно хотя бы сравняться с ними образованностью. Однако это именно та среда, где может зародиться и зарождается бескорыстный интерес к классическому образованию. Расстояние отсюда до «читал охотно...» еще достаточно велико, еще больше — до «читал охотно» в оригинале, но оно будет постепенно сокращаться. Одна из первых переводных книг светской тематики — География Помпония Мелы, известная в рукописи XVI века . Исследователь пишет: «В наших летописях, в пастырских посланиях и даже в притворах церковных встречаются не только имена, но и мысли классических писателей. В XVI и XVII веке Русские читали уже на языке род ном переводы некоторых сочинений Цицерона, Светония, Квинта Курция» . В XVII столетии — в связи с проникновением западных, прежде всего польских мод — появляются и знатоки латыни, находящие себе поприще при дворе и благодарных учеников (Алексей Саввич Романчуков , позднее — Симеон По лоцкий, Сильвестр Медведев) . Здесь еще много загадок: мы не станем, например, с ходу отвечать на вопрос, повлиял ли поздний Овидий на творчество Петра Самсонова, поэта т.н. «приказной школы»40, который, ходатайствуя о заступничестве для возвращения из ссылки, пишет в Послании Василию Иосифовичу: «...спасению моему ныне буди началник, / А благочестивому самодержцу о мне печалник» . Есть соблазн сопоставить эти стихи с посланием к Грецину (Pont. 4, 9, 51-52: Atque utinam, cum iam fueris potior a precatus, / ut mihi placetur principis ira roges! — О если б, когда тебе придется просить чего-нибудь более важного, ты упросишь, чтоб гнев государя на меня смягчился). Но пока ограничимся вопросительным знаком. Вообще же Овидий и Вергилий входят в круг интересов русского общества, хотя и на периферии: в «Скифской истории» мы сталкиваемся с переводом фрагмента Энеиды (I, 490 слл.) силлабическими виршами: «О них же Амазонках — А. Л. Омир во Илиадах, и Виргилий во Энеидах своих, сицевыми словесы поминают:
Ведет Амазонка полки неизочтенны,
Месячными же щиты цветно облеченны:
Смела Пентесилиа, ставя от охоты,
Против мужей дерзновенно девичьи роты»42.
Что же касается Овидия, первыми с ним серьезно знакомятся художники. Весьма рано — едва ли не раньше, чем собственно литературные достоинства, — было оценено его значение для изобразительных искусств: среди рукописей Ростовского музея церковных древностей имелись «Предивного римского стихотворца Публия Овидия Назона Метаморфозеон, или пятнадесять книг превращения, а чрез славнаго Вилгелма Бауера на меди вырезана, ныне же ради лутчего разумения сия книга с латинского на немецкой переведена к пользе всех малеров, рещиков, золотых мастеров и статуй делателей...»43. Но не только они: сохранилась рукопись перевода «Метаморфоз» Овидия с польского языка, принадлежавшая митрополиту Димитрию Ростовскому44. Знаменитая риторика вологодского архиепископа Макария ссылалась на «Овидиуша» как на представителя «рода мерного» — наряду с писмами, грамотами и глаголами Кикероновыми45.
К сороковым годам большую просветительскую роль играет кружок боярина Федора Михайловича Ртищева (1625-1673). По-видимому, этим сообществом «западников» был инициирован перевод Помпея Трога {Краткое пяти монархий древних описание), посвященный неизвестным переводчиком боярину Илье Ивановичу Морозову. Сохранились принадлежавшие последнему книги на немецком и латинском языках (СК, вып. 3, ч. 2, 1993, с. 362 ел.). К середине XVII в. в Москву из Киева прибывает целая группа блестящих ученых — Арсений Сатановский, Дамаскин Птицкий, Епифаний Славинецкий. Последний — самая крупная фигура среди всех названных и, по-видимому, один из крупнейших гуманистов России этого столетия — имеет особые заслуги перед латинской лексикографией46.
Именно ко времени Алексея Михайловича относится появление первых частных библиотек с произведениями латинских классиков. Так, «Опись библиотеки гр. Андрея Артамоновича Матвеева (учителем древних языков у него был известный эрудит и литератор Николай Спафарий47 — А. Л.) и графини Матвеевой» включает — наряду с «Изрядствами португальскими и гишпан-скими», «Алкораном Магметовым учением жидовским исполненным», «Врачеванием, полагаемым против ядовитых угрызениев», «Дескриптион ноувелле де ла вилле де Пари томулус» и «книжкой немецкой, ветхой» — среди книг латинских такие титулы (да не посетует читающий эту подробную выписку): « в лист 24. Тита Ливия Грютера история Римская . 34. Плиния история натуральная всего света. 40.
«Россиада» М. М. Хераскова и римская эпическая традиция
Отдельного рассмотрения заслуживает влияние римского эпоса на Россиаду. Во введении к монографии о ней, до сих пор, на наш взгляд, остающейся лучшим из исследований об этом крупнейшем памятнике русской поэзии XVIII столетия, Петер Тирген писал: «С учетом литературной плодовитости и ведущего положения в истории русской литературы и русского образования второй половины XVIII века, которое Херасков сохранял в течение десятилетий, издательская практика и научное исследование пренебрегли им до такой степени, что это само по себе вызывает удивление. До сих пор не существует критического издания, которое хотя бы в грубом приближении отвечало бы современным требованиям — как по охвату, так и по качеству, а в научной литературе — что непосредственно связано с предыдущим — нет исследования, посвя-щенного собственно Хераскову» . Эти жалобы можно было бы повторить и сегодня — с не меньшим правом они распространяются практически на всю русскую поэзию XVIII столетия, пока не дождавшуюся заслуживающих внимания переизданий. В последнее время, однако же, ситуация постепенно начинает меняться к лучшему: творчество Хераскова, насколько мы можем судить, входит в моду , появляются интересные работы по античным реминисценциям у Державина, чьи результаты уже не могут не учитываться в издательской практике, и — особенно отметим это отрадное явление — появилась коллективная монография по А. П. Сумарокову , и потому пессимистический тон вступления к первой нашей статье можно слегка подкорректировать: объем выполненной работы пока еще не сопоставим с тем, что предстоит сделать, однако и ре зультаты исследования уже достаточны для того, чтобы задать нужную инерцию научной работы. Подготовку удовлетворяющего современным требованиям издания Россиады автор этих строк рассматривает в качестве своей главной цели — и реминисценции античного эпоса, безусловно, являются одной из важнейших частей имеющего войти в такое издание комментария. Вторая задача данной статьи — рассмотреть метод обращения Хераскова со своими оригиналами. Отметим, что соображения места лишают нас возможности претендовать на исчерпывающую полноту; прежде всего мы не останавливаемся на тех топосах, происхождение которых неясно, но там, где количество реминисценций велико (прежде всего это касается Вергилия и Овидия), некоторые менее яркие примеры мы исключили из рассмотрения.
Сразу же необходимо отметить, что Херасков не намерен упрощать своим поклонникам исследовательскую работу. Его литературно-теоретические рассуждения не только — и даже не столько — раскрывают, сколько маскируют его творческую лабораторию, а его метод работы с реминисценциями настолько сложен, что порой приводит филолога в отчаяние. В предисловии к Россиаде он дает следующие характеристики античных эпопей — своих оригиналов: «В Илияде Гомер воспевает гнев Ахиллесов, за похищение его невольницы Бри-зеиды Царем Агамемноном, гнев толико бедственный Грекам и Пергаму; кро-вавыя битвы, пагубу осаждающих и пагубу осажденных Троян. — Патрокл, друг Ахиллесов, убит Гектором — он мстит за своего друга — убивает храброго Гектора, и тем Поэма оканчивается.
В Одиссее воспето десятилетнее странствование Итакского Царя Улисса; возвращение его в дом свой и страшное избиение любовников Пенелопиных, которое Мнистерофонией наречено.
Виргилий в несравненной Энеиде воспел побег Энеев из разоренной Греками Трои, прибытие его в Карфагену, любовь его с Дидоною, неверность его к сей нещастной Царице — Другой побег его в Италию, где убив Турна, сопрягается он с Лавиниею, невестою сего почтенного Князя...
173 Фарзалию многие нарицают Газетами, пышным слогом воспетыми; но сии Газеты преисполнены высокими мыслями, одушевленными картинами, поразительными описаниями и сильными выражениями; в ней воспета война Юлия с Помпеем; при всем том Поэма не докончана Певцом своим, и не была исправлена» . В этом перечне отсутствует Овидий, влияние которого (как мы покажем ниже) несомненно; но это не единственный пункт дезориентации читателя.
а. Язык чтения
Проблема реконструкции библиотеки Хераскова не ставилась, да и вряд ли может быть поставлена в науке в обозримой перспективе. С этой стороны никакой поддержки ожидать не должно. Относительно лингвистических познаний Хераскова есть обтекаемые указания у Новикова («Человек острый, ученый и просвещенный, и искусный как в Иностранных, так и в Российском языке»)374 и Леклерка («М. Keraskof (Michel Matfeitz) qui possede les langues etrangeres, apres avoir essaye ses forces, & debute avec gloire dans plusieurs genres de Poesie, ne res-semble point a ceux qui, ayant voltige sur toutes les Sciences, ne peuvent se faire un nom dans aucune») , согласно которым Херасков владел иностранными языка ми. О его эрудиции свидетельствовал и князь Иван Михайлович Долгоруков: «исполненный благих свойств ума, обогащенный познаниями»376. Относительно латинского языка есть недвусмысленное показание Якова Яковлевича Штелина (1709-1785): Херасков «не понимал ни слова по-латыни»377. Относительно греческого языка это совершенно очевидно. По свидетельству И. И. Дмитриева, Херасков любил читать на французском языке378; свидетельство относится к более поздним годам; тем не менее версия о позднем обретении этой привычки внутренне недостоверна. Сохранившиеся в НБ МГУ книги с его владельческими автографами, известные автору этих строк, также французские379. Поэтому мы примем как основополагающую версию знакомство Хераскова с античными эпопеями прежде всего по французским (а не русским) переводам.
Ь. Вергилий
Есть у Хераскова пассажи, которые имеют своим источником латинскую эпику — при сохраняющейся невозможности более точных указаний. К числу таких относится следующий образ (VI, 620-621):
Иной, пронзенный в тыл, с коня стремглав валится,
И с кровью жизнь спешит его устами литься...
Здесь возможно как вергилиево, так и овидиевское происхождение: Аеп. II, 532: concidit ас multo vitam cum sanguine fudit {Пал и излил жизнь с обильной кровью); ср. также Ov. met. II, 610: ...et pariter vitam cum sanguine fiidit (Иравным образом излил жизнь с кровью); XI, 327: conantemque loqui cum sanguine vita reliquit — Пока он пытался говорить, вместе с кровью его оставила жизнь).
К таким же местам, по-видимому, нужно отнести описание конца света (VII, 965 слл. — на этот раз без вергилиевского оригинала):
Такие ужасы народы будут зреть,
Когда земля начнет в исход веков гореть;
Тут пламень огненный как море разлиется,
Он поясом вокруг вселенной обвиется;
И цепь, держащая в порядке здешний свет,
Со звуком рушится и в бездну упадет:
Там будет прах гореть, воспламенятся реки;
Спасенья на земли не сыщут человеки. Здесь мы можем уловить, — как представляется, скорее, нежели апокалиптические, хотя Св. Писание и христианские мотивы актуальны для Хераскова — овидиевские — met. II, 295 слл. —
Fumat uterque polus! quos si vitiaverit ignis,
atria vestra ruent! Atlas en ipse laborat
vixque suis umeris candentem sustinet axem!
si freta, si terrae pereunt, si regia caeli,
in chaos antiquum confiindimur! ... —
Поколение Пушкина и декабристов: точка перелома
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) представляет собой, безусловно, центральную фигуру того поколения, которое родилось в конце XVIII-начале XIX в., первым испытало на себе в школе плоды воспитательных реформ Александра I и вполне впитало дух литературной революции, бушевавшей в то время на западе Европы; с другой стороны, оно было последним, для которого решающим было культурное влияние Франции и опыт французской эстетической и политической мысли. Для тех, кто несколько моложе (напр., для С. П. Шевырева), решающей будет уже философская проповедь Германии. В качестве фона, на котором слагались воззрения данного поколения об античности и Риме, следует вернуться к тезисам Мерзлякова и просмотреть труды П. Е. Георгиевского, скромного адъюнкта Н. Ф. Кошанского, — курса, прочитанного в Царскосельском лицее и изданного в конспектах А. М. Горчакова (см. выше). Что же касается самого Николая Федоровича Кошанского (1784 или 1785-1831; он, как и Мерзляков, Невзоров и многие другие, был протеже М. Н. Муравьева), он подготовил для лицеистов несколько изданий, из которых не будет лишним привести одну-две цитаты565. Во-первых, это учебное издание Корнелия Непота, где так охарактеризована в предисловии педагогическая роль этого автора (традиционная, как мы помним, для университетской гимназии): «В сей книге содержатся прекрасные жизнеописания. Сколько героев, сколько великих мужей и славных дел! и все как чисто написано по-Латински! ибо сочинитель жил в Риме во времена Августа... Если кто из вас читал Аристида, Эпаминонда, Ганнибала и проч. будет примечать, как они думали и поступали, будет стараться сам также чувствовать и мыслить, будет искренно желать быть им подобным, тот в самом деле возвысится духом, приготовит для себя нравственный характер и, кто знает? может быть столько же, как они, будет полезен своему отечеству» . В предисловии к сборнику басен Федра (также избранного из соображений относительной простоты) читаем: «Думал ли Федр, что басни его, где часто пороки Римлян являются, как в зеркале, будут служить в потомстве руководством для юношества? Но оне достойны чтения детей: ибо слог их легок, приятен и забавен, а язык так чист, как был во время Августа. По сей причине возложено было на меня издать Федра на следующем основании: 1 оставить те басни, кои не соответственны детскому возрасту; 2 переменить выражения, оскорбляющие благопристойность наших времен... Пусть живая кисть Федра, представляя забавные происшествия, увеселяет их и вместе напоминает: Tu ris? Change le nom, la fable est ton histoire» . Но, пропал ли этот моралистический пафос даром или воплотился в реальные поступки — в становлении молодого поколения уже не эти книги играли ведущую роль.
Прежде чем обратиться к персоналиям, приведем один небольшой отрывок, хорошо характеризующий эпоху. Алекс. Б. есту ж. е въ сообщает следующий анекдот: «Всем бы хорош был Комментарий Цезаря, сказал один Руской дворянин, да непростительно педантство автора! Не грех ли такую полезную книгу написать на латинском языке?» .
...Тема «Пушкин и античность»569 — в порядке исключения — относится к числу лучше всего исследованных. Потому для великого поэта мы ограничимся беглым очерком. При обилии античных реминисценций570 в творчестве поэта можно констатировать, что влияние римской литературы было в его творчестве намного сильнее, чем аналогичное греческое, и что в молодости и в поздний период античность присутствует более масштабно и ощутимо, чем между ними. Вольнолюбивые трактовки римской темы, впрочем, нельзя относить за счет именно античной словесности: в трехактной трагедии Вольтера La mort de Cesar, напр., их больше, чем во всей античности. К числу наиболее важных для Пушкина авторов нужно отнести (по-видимому, именно в этой последовательности) Овидия, Горация и Тацита.
Парадоксальным образом центральное произведение Овидия — Метаморфозы — оказалось для русского поэта менее важным, нежели ранний и поздний этапы творчества римлянина. Прежде всего это вызвано жизненной близостью и автобиографическими мотивами. Географически римский мир пересекся для него с русским в иной области, нежели, напр., для Державина — если тот воспевал русских орлов, залетевших в те же недоступные области, что и римские (в кавказской экспедиции Валериана Александровича Зубова 1796 г.), то для Пушкина это произошло в других землях и было связано с изгнанием, а не с военной славой. Послание 1821 г. «К Овидию» — одно из самых зна чимых (в том числе и в глазах самого автора) произведений ранней пушкинской лирики (ср., напр., письмо брату от 30 января 1823 г. из Кишинева в Петербург). Но позднейшая оценка, высказанная по поводу обращения к аналогичной тематике по эта Теплякова во Фракийских элегиях, выстраивает несколько иную иерархию: «Книга Tristium не заслуживала такого строгого осуждения. Она выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидиевых (кроме „Превращений"). Героиды, элегии любовные и самая поэма „Ars amandi", мнимая причина его изгнания, уступают „Элегиям понтийским"572. В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли! Сколько живости в подробностях! И какая грусть о Риме! Какие трогательные жалобы!» (ПСС, М., 1954, т. 5, с. 235-236). Важное место Овидию — также позднему, эпохи Tristium и Понтийских посланий, относится и в поэме Цыганы. О раннем овидиевском слое, недавно вскрытом в Евгении Онегине, мы уже упоминали. Отметим также, что овидиевский след — на этот раз из Метаморфоз — есть и в горацианском Памятнике.
Для А. С. Пушкина, по мнению А. А. Тахо-Годи, Гораций был одним из самых близких поэтов . Он, в отличие от Овидия, представлен прежде всего стихотворными переложениями. Сагт. II, 7 — Кто из богов мне возвратил 1835 года, возможно, самое замечательное из русских подражаний римскому поэту, — насыщается деталями, для Пушкина, несомненно, имеющими автобиографический характер, но вполне встраивающимися и в горацианский автопортрет; акцент в переложении смещается с адресата на самого поэта. Можно согласиться с оценкой Вольфганга Буша: «Величайший лирик России... также относится к числу тех, для кого Гораций был не только материалом для импровизаций и объектом более-менее удачных стилистических упражнений, — это была глубинная встреча и столкновение»574. Интересно, что Пушкин дает иное истолкование брошенного щита, нежели филология его времени, которая видела в этой подробности только поэтический топос, восходящий к грекам (прежде всего Архилоху). В отрывке Цезарь путешествовал... Горацию при писывается намерение заставить забыть о своем мужестве (по словам Буша, «весьма своевольная интерпретация» — S. 159). Большинство горацианских реминисценций в остальном творчестве Пушкина по преимуществу не выходит за рамки того, что обычно заимствуют у римского поэта, т. е. выраженных со всем формальным совершенством максим эпикурейской философии и отказа от стяжательства; исключением может стать Арион с его «влажной ризой». Что касается центрального пункта пушкинского горацианства — Памятника — он представляет собой точку схождения многочисленных влияний, в высшей степени самостоятельную; приведем характеристику Т. Г. Мальчуко-вой: «„Памятник" написан как свободное подражание оде Горация „К Мельпомене" (Carm. Ill, 30), предваряется латинским эпиграфом и начинается его переводом. Но в дальнейшем переложении из оды выбираются не столько личные для римского поэта мотивы, сколько loci communes антологической автоэпитафии, сформировавшейся в истории феческой эпиграммы и оттуда перешедшей в римскую лрув роли заклюбчения поэтической книги. Топику этого жанра (образ надгробного памятника, мотив всемирной и вечной славы на все вемена, или, как выразился один греческий поэт, „на все солнца", характеристику собственного творчества) Пушкин обогащает другим общим местом античной традиции — уподоблением поэта пророку блаженных богов... а его поэзию храмовому служению. Античные представления о поэте и поэзии сочетаются в „Памятнике" с христианскими образами...» (Античные и христианские традиции, кн. 2, 115-116). Таким образом, концентрацию горацианских влияний — в противоположность Овидию — можно усмотреть прежде всего в позднем творчестве поэта.
Поэт был знаком с творчеством Лукреция . Т. Г. Мальчукова считает его (III, 1007, III, 957, III, 1082-1084) одним из источников XXVII строфы 8 песни Евгения Онегина; любовь к тающей от чахотки деве (IV, 1166-1167), по ее мнению, оказала влияние на Осень и Каменного гостя (Античные и христианские традиции, кн. 2, 128-130). Он читал и переводил Катулла . Нам представляет ся, что не останется безрезультатным исследование вопроса, как сам образ катулловского дружеского кружка, который складывается в книге веронца, и его литературная полемика влияли на — позволим себе такое выражение, несмотря на всю его неуклюжесть — «организационные формы» литературной жизни поэтов-современников Карамзина и Дмитриева, а также младшего поколения — прежде всего «Арзамаса». Отношение А. С. Пушкина к Вергилию двойственно: признавая его величие, поэт называет предшественника «чахоточным отцом немного тощей Энеиды». А. А. Тахо-Годи полагает, что эта двойственность сказалась на отношении к Вергилию Белинского . Перевод из Ювенала так и остается незаконченным578.
От В. С. Соловьева до акмеистов. Новая волна римского Ренессанса
Среди лидеров общественного мнения 60-х годов преобладают семинаристы. Но утилитаризм их проповеди довольно быстро вызывает реакцию: те, кто родился в 50-х — 60-х гг. и учился в классических гимназиях по александровским уставам, не столь легко смиряются с диктатом общественности и возвращаются к утраченным эстетическим ценностям. В этом поколении — неожиданно много поклонников Вергилия.
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900, выпускник 5-й Московской гимназии и историко-филологического факультета МУ) вместе с Фетом трудится над Энеидой и переводит сыгравшую столь большую роль в христианизации Вергилия 4-ю эклогу. В 1887 году он пишет Н. Н. Страхову: «Я считаю „отца Энея" вместе с „отцом верующих" Авраамом настоящими родоначальниками Христианства, которое (исторически говоря) явилось лишь синтезом этих двух parentali M» . Мог он при случае процитировать в критической статье и Горация771. Павел Николаевич Милюков (1859-1943, выпускник Первой Московской гимназии и историко-филологического факультета МУ) вспоминает о своих гимназических годах: он в то время «бредил Вергилием» и прочел целиком всю Энеиду . Пристрастие к нашему поэту разделяет и его современник — гимназист Викентий Викентъевич Смидович (1867-1945, учился в тульской классической гимназии, на историко-филологическом факультете в Петербурге и на медицинском — в Дерпте), в будущем В. Вересаев, переводчик Гомера, Гесиода и греческих лириков. Он пишет даже стихотворение в гекзаметрах с эпиграфом georg. Ill, 284 о невозвратном времени .
Гораций тоже возвращается на сцену. Иннокентий Федорович Анненский (1855-1909, учился в нескольких гимназиях в Петербурге и на историко-филологическом факультете столичного университета, долгое время служил в ведомстве Министерства народного просвещения) был проводником прежде всего греческого влияния. Однако же образование сделал и несколько превосходных переводов Горация, а в статье А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии (1898) дал яркую и во многом спорную оценку творчества римского поэта, которую мы приведем полностью774: «В основу поэзии романских наро дов легла поэтическая деятельность Горация, а Гораций был едва ли не самым искусным из всех поэтов. Кроме того, мы не знаем поэта более влиятельного, я бы сказал более универсального. Философ собственного творчества и иллюстратор своих поэтических теорий, он до такой степени воплотил в себе культурно-ассимилирующую силу Рима, что отдельные черты его типа до сих пор живут в поэзии итальянцев и французов независимо от того, к какому направлению принадлежит тот или другой романский лирик: уважение к поэтической речи, наклонность к ее стилизированию, искусное пользование размерами и красивая строфичность, умеренность в выражении чувств, изящный эпикуреизм, созерцательное и вдумчиво-насмешливое отношение к жизни, культ красоты, чуждый болезненной мечтательности, — не та, так другая черта этого поэтического облика блещет в стихах не только Кардуччи и Эредиа, но и у нищего короля богемы — Верлена, даже у его литературных детей, вроде Рембо. У нас влияние Горация было весьма слабо и поверхностно: в блестящий век Екатерины его представлял односторонне Державин. Позже Пушкин, в юную пору своего творчества, тоже не понимал Горация как истинного артиста поэзии и смотрел на него сквозь призму Грекура и Парни. На пороге XIX в. русская сатира уже смеется над поэтическим наследием Горация, классицизмом: классицизм теряет у нас таланты и делается достоянием рифмачей, с одной стороны, и пародий — с другой, а в русской литературе надолго устанавливается недоверие к французскому классицизму, который мы окрестили и до сих пор зовем ложным ... . Теперь у нас Гораций ведет незатейливое существование среди гимназистов и подстрочников, под эгидой неудачного перевода, который когда-то был сделан с его тонкой работы трудолюбивым и даровитым Фетом». Эта оценка, пожалуй, слишком пессимистична; она верно характеризует тенденции, но — как показывает наше исследование — несколько преувеличивает их; на русской почве Гораций оказывается связан не с классицизмом, а с эстетизмом и идеей независимого искусства как таковой. Что же касается характеристики поэтического искусства Горация, ей трудно отказать в проницательности и в глубине. Интересны высказанные в набросках лекций о римской литературе на курсах Раева, прерванных смертью лектора; прежде всего поэт обращает внимание на значение латинской словесности для создания классической традиции. «Гомер ближе к литературному идеалу, но Вергилий стоит выше по изяществу. Третьестепенный трагик Сенека является промежуточной ступенью между Софоклом и французами XVIII века. Комик Теренций, подражатель Менандра, создал жанр более близкий нам, легший в основу со-временного театра» . У Ливия Андроника «был художественный вкус и педагогический такт», поскольку он выбрал для занятий Одиссею (ibid., с. 293). Можно только пожалеть, что работа над римским наследием была на периферии интересов этого выдающегося поэта.
Фаддей Францевич Зелинский (1859-1944, выпускник русской филологической семинарии в Лейпцигском университете) — один из крупнейших русских антиковедов, исследователь литературы, мифологии, религии и идей античного мира, искусный и авторитетный защитник классической модели образования. Из латинской литературы его внимание привлекал прежде всего Цицерон: в статье, посвященной этому автору в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (Т. XXXVIII, СПб., 1903. С. 273-274), Зелинский находит причины, в силу которых заглохший интерес к Цицерону должен возродиться: коррекцию естественной переоценки греческих источников в ущерб римским, рост интереса к психологии и этике, индивидуалистическое течение, противостоящее культу силы и национализму, и стремление к цельности в противовес чрезмерной специализации. По-видимому, сейчас, с высоты нашего опыта, мы можем счесть этот оптимизм поспешным; но кто же тогда мог предвидеть те пути, по которым пойдет развитие европейской культуры! Он подготовил перевод Героид Овидия, которые назвал — несколько модернизируя — балладами-посланиями, и в предисловии высказал проницательную оценку творчества римского поэта: «Солнце все еще светило и заставляло его петь; ко всему другому он был глух и слеп»776. Цицероновский проект Зелинского имел ярко выраженную культурно-просветительскую направленность: он подготовил первый том переводов речей оратора (стремясь актуализировать Цицерона для современных читателей, Зелинский во время этой работы штудировал Плевако и Кони) , трижды опубликовал речь Цицерон в истории европейской культуры, из которой потом выросла доныне переиздающаяся немецкая монография , а также на гимназическое комментированное издание Веррин в серии Георгиевского-Манштейна, которое сам ученый оценивал как новаторское. Кроме того, немало латинского материала вошло в собрание научно-популярных работ Зелинского «Из жизни идей» (статьи об Овидии и Пушкине, римской комедии и др.); среди них особенно отметим эссе «Первое светопреставление» (включающее, среди прочего, перевод 4-й эклоги), которое было популярно в литературных кругах последнего десятилетия империи, охваченных эсхатологическими настроениями: ссылка на него встречается, в частности, в черновиках «Катилины» Блока.
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941) учился у Вильгельма Христиановича Лемониуса (1817-1903) в Третьей петербургской гимназии (его язвительные строки о наставниках и самой школе мы уже цитировали) и на ис торико-филологическом факультете Петербургского университета. Вхождение после эмиграции в европейскую интеллектуальную элиту и популярность на Западе его исторических романов свидетельствуют о добротности его научной подготовки. Больше интереса он проявлял к религиозно-философским, нежели к эстетическим вопросам; потому — при весьма добротном знании античности и римской литературы в частности — имена первого ряда, прежде всего эпохи Августа, повлияли на него не слишком. В романе Юлиан Отступник он выбирает певца Кинфии для иллюстрации вкуса своих декадентствующих героев, гутирующих звуковой рисунок поэзии: «Вот два стиха Проперция, — сказал Гаргалиан, — вы увидите, что значат звуки в поэзии и как ничтожен смысл. Слушайте... За эти звуки я отдал бы добродетель Ювенала, мудрость Лукреция» . Одному из своих героев в качестве диагноза последних язычников упадочного века он вкладывает в уста цитату из Сенеки Младшего (epist. 106, 12): «Litterarum intemperantia laboramus, как выразился учитель Нерона, хитрый Сенека. Мы страдаем от словесной невоздержанности» (Сс, т. I, с. 108), использует образ центуриона по прозвищу Cedo alteram, позаимствованный из Анналов Тацита (I, 23 — Сс, т. I, с. 137, 160), цитирует Сатирикон (Сс, т. I, с. 57 sat. 23, 3). Вообще же роман Смерть богов (Юлиан Отступник) основан на материале Аммиана Марцеллина, и Мережковский выводит его на последних страницах в качестве персонажа, играющего роль авторского рупора.