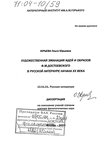Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Маргинальное сознание как объект литературоведения
1.1. Итоги и перспективы изучения маргинальное в современных гуманитарных науках 13
1.2. Поэты маргинального сознания в литературном контексте Серебряного века: генетические и методологические параметры исследования 25
Выводы к главе 1 33
Глава 2. Поэт «вне литературы»: М.А. Волошин
2.1. Становление поэта в духовной ситуации рубежа веков 35
2.2. Миф о Петербурге и миф о Коктебеле: апология окраин 73
2.3. «Совесть народа - поэт». Слово и поступок в жизнетворчестве М. Волошина 115
Выводы к главе 2 150
Глава 3. «Другая настоящая жизнь...»: Е.Г. Гуро
3.1. Е. Гуро и футуризм 152
3.2. Художественная система Е. Гуро. Книги «Шарманка», «Осенний сон» и «Небесные верблюжата», публикации в коллективных сборниках 188
3.3. Повесть «Бедный рыцарь» и философия творчества Е. Гуро 253
Выводы к главе 3 281
Глава 4. «Мы все стоим у нового порога...»: Е.Ю. Кузьмина-караваева (мать Мария)
4.1. Е. Кузьмина-Караваева и культура Серебряного века 283
4.2. «Православное дело» и философия жизнетворчества 328
Выводы к главе 4 379
Заключение 381
Список сокращений 391
Литература 392
Приложение
- Итоги и перспективы изучения маргинальное в современных гуманитарных науках
- Становление поэта в духовной ситуации рубежа веков
- Художественная система Е. Гуро. Книги «Шарманка», «Осенний сон» и «Небесные верблюжата», публикации в коллективных сборниках
- Е. Кузьмина-Караваева и культура Серебряного века
Введение к работе
В наше время, когда в отношении реалий русской литературы прошлого столетия уже возобладал гамбургский счет, первоочередной задачей становится формирование комплексного подхода к ее многообразным и порой противоречащим друг другу составляющим. В частности, заслуживают серьезного внимания факты и тенденции, обладавшие высоким идейным потенциалом и в новом качестве проявившие себя на современном этапе ее развития. К числу таких тенденций относится усиление центробежных импульсов, связанное с возросшим субъективизмом искусства XX века. В то время как историческая действительность все сильнее подвергалась унификации (что способствовало возникновению к жизни феномена массовой культуры), художественное сознание отвоевывало для себя право на недопустимую ранее автономность.
Уже к началу 1910-х годов в отечественной поэзии обозначилась группа авторов, в большей или меньшей степени репрезентирующих маргинальное сознание, которое было впервые охарактеризовано Р. Парком лишь два десятилетия спустя. Дистанцировавшись от ведущих проектов своего времени, эти художники исповедовали искусство как сугубо частное дело, что подтверждалось практикой литературного отшельничества, юродства и изгойства - вплоть до полного ухода из литературы. Наиболее талантливые из них - такие как А. Добролюбов, И. Анненский, М. Волошин, М. Кузмин, Е.Гуро, Е. Кузьмина-Караваева - со временем были признаны влиятельными фигурами, предварившими дальнейшее развитие русской лирики. Одновременно с этим маргинальный склад сознания и перспективы его художественного воплощения получили точную оценку со стороны крупных мыслителей Серебряного века - Вяч. Иванова и В. Розанова. Обозначение сути проблемы, вошедшей в гуманитарный дискурс XX века под именем
4 маргинальное, стало прозрением русского ренессанса о современном состоянии культуры, которая переживает крупнейший за все время своего существования конфликт с цивилизацией.
Поскольку опыт XX века - века мировых войн, Хиросимы и Холокоста -сам по себе стал для человечества пороговой ситуацией (ср. у Е. Кузьминой-Караваевой: «Мы все стоим у нового порога,/ Его переступить не всем дано, -/ Испуганных, отпавших будет много» [147, 269]), маргинальный дискурс приобрел всеобщее значение, а фигуры поэтов и мыслителей, некогда попадавших в разряд «одиноких», оказались провозвестниками нового пути человечества. Кроме того, принципиально важно, что в литературе 1910-х годов, впервые открывшей для себя потенциал носителей маргинального сознания (в связи с чем мы берем на себя смелость говорить о ситуации маргинального взрыва), был наработан арсенал художественных средств, обеспечивших состоятельность этого дискурса. В экспериментах перечисленных нами поэтов сказывались крайности модернистского жизнетворчества - вплоть до полного разрыва с литературой, осуществленного А. Добролюбовым, радикализм в восприятии символистской поэтики (отсюда их неспособность слиться ни с одним из постсимволистских течений) и идеи синтеза искусств, хотя все эти тенденции сочетались с глубоким традиционализмом в понимании миссии художника и трепетным отношением к классическому наследию... Одним из существенных аспектов нашей работы представляется обоснование своеобразного историзма поэтики М. Волошина, Е. Гуро и Е. Кузьминой-Караваевой, ощутимо повлиявшей на формы художественного «самостоянья» поэтов середины и конца XX века. Актуальность исследования. Первая попытка вычленить общие черты, присущие творчеству поэтов маргинального сознания, актуальна в связи с назревшей необходимостью адекватного прочтения этой страницы русской литературы XX столетия. Она поможет принципиально обновить представления о поэзии Серебряного века, обнаружить ранее недооцененную взаимосвязь между центробежными тенденциями в культуре начала и конца
5 минувшего столетия. Наконец, она позволит отечественным литературоведам расширить рамки диалога с зарубежными коллегами, которые плодотворно исследуют литературную маргинальность в свете последних достижений социологии, психологии и других гуманитарных дисциплин. Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследование выполнено на кафедре русской и зарубежной литературы РУДЫ в рамках комплексной темы «Основные тенденции мирового литературного процесса». Цель и задачи исследования. Изучение творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е.Кузьминой-Караваевой проводилось с целью выявления роли поэтов маргинального сознания в литературном процессе начала XX века, что, в свою очередь, способствует формированию целостного взгляда на этот период в развитии русской литературы. Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
представить феномен маргинальное в историко-литературном аспекте;
показать своеобразие воплощения маргинального сознания в литературном тексте на материале творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой;
осуществить анализ произведений, наиболее репрезентативных для художественного мира названных поэтов, определить соотношение в них центростремительных и центробежных тенденций;
охарактеризовать литературные и внелитературные факторы, влияющие на формирование поэтов маргинального сознания;
соотнести идейно-художественные искания М. Волошина, Е. Гуро, Е.Кузьминой-Караваевой с основными течениями искусства начала века, уясняя характер их взаимосвязи с литературой своего времени;
оценить роль других форм творчества (в частности, живописи) и концепции синтеза искусств в художественном наследии поэтов маргинального сознания;
- охарактеризовать этические принципы М Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой и близких им поэтов, определить особенности их жизнетворчества; Объект исследования - творчество М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой, представленное в широком контексте литературы начала XX века, в частности, в соотнесении с произведениями других поэтов маргинального сознания - И. Анненского, А. Добролюбова, М. Кузмина и др. Предмет исследования - маргинальное сознание в поэзии начала XX века, а также пути и способы его реализации в рамках русской литературной традиции. Методы исследования. Теоретической основой диссертации являются работы современных ученых по проблемам поэтики (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, С.Н.Бройтман, Н.А. Богомолов, М.Н. Виролайнен, А.К. Жолковский, И.П.Смирнов, В.И. Тюпа, Т.В. Цивьян, Н.А. Фатеева, Е.Г. Эткинд, А. Ханзен-Леве, Ж. Старобинский, М. Цимборска-Лебода, Э. Хьюз, С. Хатчингс, У. Эко), философии и психологии творчества (A.M. Пятигорский, М. Бланшо, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Лакан, В.В. Иванов, М. Мамардашвили, В.П. Руднев, М.Н.Эпштейн), литературной эволюции (эволюционные идеи Ю.Н. Тынянова и В.Б. Шкловского в интерпретации Ю.М. Лотмана; И.П. Смирнов, Н.В. Дзуцева, СИ. Кормилов, Н.Ю. Грякалова). В определении признаков маргинального сознания автор опирался на получившие признание концепции социологов, психологов и культурологов - Р. Парка, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, М. Фуко, Т.Шибутани, Б.С. Ерасова, А.И. Атояна и др.
В соответствии со спецификой исследуемого материала были применены методы системного, сравнительно-генетического и сравнительно-типологического анализа, а также методики целостного и интертекстуального анализа художественного произведения. В контексте нашей работы оказались исключительно актуальными методологические разработки Е.Г. Эткинда, обосновавшего концепцию психопоэтики, а также бахтинская идея событийности произведения (триединое событие создания - созерцания -понимания), отраженная современными практиками его анализа, особенно
7 последовательно у М.М. Гиршмана. Рассмотрение литературного произведения как «воплощаемой первичности общения, которое адекватно единству единственных, ответственных и отвечающих личностей Я и Другого» [84, 159], сделало неизбежным обращение к интертексту, приобретающему «онтологическое» значение «процесса текстопорождения» [254, 6]. В той мере, в какой интертекстуальный анализ позволяет определить позицию писателя относительно своих источников, он приближает нас к разгадке «иных культурных кодов» [14, 297], которыми оперируют в своем творчестве поэты маргинального сознания.
В основу исследования была положена гипотеза о растущей роли
I маргинальных тенденций в русской литературе XX века. Применительно к
поэзии начала столетия она рассматривалась на материале творчества трех авторов, сделавших средоточием своих исканий саму проблему маргинального сознания. И М. Волошин, и Е. Гуро, и Е. Кузьмина-Караваева задавались вопросом своей «совместимости» с основным руслом литературы того времени, разрабатывая проблему ее исторических и символических границ. Переживание предельности открывшегося им опыта стало для каждого из поэтов своеобразным «культурным комплексом», проявившимся в пренебрежении условностями литературного быта в пользу сосредоточенной внутренней работы. При этом культурное одиночество так или иначе обернулось для всех названных авторов расширением пространства нравственного и эстетического эксперимента: поэты смело пользовались языком других искусств, в частности, живописи (причем их разноязыкие произведения не только перекликались, но, как это особенно часто бывало у Е. Гуро, принципиально продолжали друг друга), вводили в свои художественные тексты «будничное» (по выражению И.Анненского [6, 507]) слово, веря в его мистическое содержание...
М. Волошин шел к самопознанию через углубленное ознакомление с масонством, теософией, оккультными практиками, а также восприятие традиции герметической поэзии разных эпох. Даже на фоне общей эзотерической открытости Серебряного века опыт поэта оказался
8 исключительным - по интенсивности привнесения философской струи в искусство - явлением: недаром современники (в том числе известный своей ученостью Вяч. Иванов) упрекали М. Волошина в замкнутости, скупости в выражении непосредственных поэтических переживаний. Положение сверхчувствительной Е. Гуро, напротив, определялось ее «подростковой» боязнью внешнего мира, исключительной ранимостью и неуверенностью в себе, обрекавшей на незавершенность самые грандиозные замыслы поэтессы. Вместе с тем эта последовательная незавершенность, возведенная в ранг поэтического принципа, сделала автора «Шарманки» и «Небесных верблюжат» провозвестницей эстетики новой эпохи - что в принципе ощущали уже футуристы, испытавшие ее духовное влияние. Грань восприятия, которую намеревалась превзойти наделенная синестезией Е. Гуро, оказалась горизонтом новых исторических и культурных возможностей - отсюда особый статус поэтессы в современной литературе. Что же касается Е. Кузьминой-Караваевой, чья исключительная роль в русской духовности XX века закреплена фактом церковной канонизации, то ее поэтическое наследие обозначило связь между исканиями творцов Серебряного века и традицией русского православия. Воспитанная на моральном примере А. Блока, переосмыслившая пророчества и заблуждения своих современников - от Вяч. Иванова до М. Волошина, м. Мария дала миру опыт предельной слиянности жизни и творчества, ставший закономерным порождением русской литературы рубежа веков. В этом смысле ее маргинальное сознание (направленное в 1910-е годы на разрыв с господствующими формами жизнетворчества, а в 1930-е годы утвердившее себя в уникальной творческой практике «монашества в миру») стало значительным достижением русской художественной и общественной мысли XX века.
Сопоставительный анализ творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е.Кузьминой-Караваевой, а также отдельные наблюдения над поэтикой других родственных им авторов, в частности, И. Анненского, А. Добролюбова, М.Кузмина позволяет уточнить классическое определение маргинального
9 сознания применительно к представителям интеллектуальной элиты, сформировавшимся в России рубежа XIX - XX веков. Дело в том, что маргинальное сознание, для которого, по мысли прародителя этого понятия Р.Парка, характерны «серьезные сомнения относительно своей ценности, неопределенность связей с друзьями и страх предательства с их стороны, тенденция к уходу от неопределенных ситуаций, болезненная застенчивость<...>, одиночество и чрезмерная мечтательность, постоянная озабоченность будущим...» [344, 152], в культурной ситуации 1910-х годов оказалось способным породить новый гуманитарный дискурс, исследующий внутреннее бытие человека в пороговой ситуации. Тем самым оно обнаружило свои сильные черты: мобильность, высокую способность к трансцендированию и своеобразную устойчивость, обусловленную присущим этому сознанию «компонентом закрытости» [14, 297].
Достоверность результатов исследования обеспечивается системным использованием обширных текстовых, в том числе архивных, материалов, сопоставительным анализом произведений М. Волошина, Е. Гуро, Е.Кузьминой-Караваевой в последовательном соотнесении с основными идейно-художественными тенденциями литературы начала XX века, привлечением большого круга авторитетных источников из разных областей гуманитарного знания, в частности, философии, психологии, культурологии и социологии. Научная новизна полученных результатов обусловлена тем, что:
В работе впервые установлена роль поэтов маргинального сознания в русской литературе XX века.
На материале творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой впервые описаны формы и пути реализации маргинального сознания в русской культурной традиции.
Предложена оригинальная концепция духовной эволюции М. Волошина, в свете которой осуществлено принципиально новое прочтение программных произведений поэта («Киммерийские сумерки», «Corona Astralis»,
10 «Подмастерье», «Поэту», «Доблесть поэта», «Дом поэта» и др.), а также существенно переосмыслены его дневники, переписка, литературно-критические работы.
4. Предпринята первая попытка всестороннего анализа творчества Е. Гуро - от
дебютного сборника «Шарманка» до последних незаконченных
произведений, - показана его направленность и эволюция. щ
5. Решение проблемы «Е. Гуро и русский футуризм» осуществлялось в аспекте
диалогов поэтессы с товарищами по цеху, результатом чего стало
доказательство ее причастности к футуристическому мифо- и
жизнетворчеству.
^ 6. Впервые предложена целостная концепция творчества Е. Кузьминой-
Караваевой: выявлены основные темы и мотивы, осуществлено прочтение всех этапных поэтических произведений (от стихотворений периода «Скифских черепков» до итоговой поэмы «Духов день»), определена эволюция художественных принципов поэтессы.
7. Последовательно решен вопрос о взаимодействии творчества Е. Кузьминой-
Караваевой с литературой Серебряного века, в связи с чем получил новую
интерпретацию ее лирический диалог с А. Блоком, была осмыслена степень
актуальности для ее художественного сознания поэтического опыта
В.Соловьева, В. Брюсова, Вяч. Иванова, Н. Гумилева, А. Ахматовой,
философских идей Н. Федорова, Н. Бердяева, С. Булгакова, Г. Федотова и
др.
Произведен системный анализ сборников Е. Гуро и Е. Кузьминой-Караваевой, показавший своеобразие художественного мышления поэтесс.
Анализ поэтических и прозаических текстов М. Волошина, Е. Гуро и
Е.Кузьминой-Караваевой неизменно проводился в соотнесении с их
живописными и прочими (вышивка у Е. Кузьминой-Караваевой) щ
художественными работами, что способствует углублению представлений о
философии творчества трех поэтов.
Теоретическая значимость диссертации заключается в обосновании и внедрении категории «поэт маргинального сознания»; исследовании стратегий, при помощи которых реализует себя на письме личность маргинального склада в рамках русской культурной традиции; осмыслении эволюционных процессов в русской литературе начала XX века в аспекте маргинального сознания; развитии теории психопоэтики, рассматривающей художественный текст на уровне соотношения «мысль - слово».
Практическое значение полученных результатов определяется возможностью их использования в курсах истории и теории литературы на гуманитарных факультетах высших учебных заведений, в курсах русской литературы средних учебных заведений, а также в работе с учениками старших классов гуманитарных лицеев и гимназий.
Апробация результатов диссертации проведена на IX и XI Волошинских чтениях (Коктебель, 1999 и 2003), X и XI Пушкинских чтениях (Гурзуф, 2000; Керчь, 2001), III Ахматовских чтениях «Женский вектор в русской литературе XX века» (Ливадия, 2003), Международной научной конференции «Постсимволизм как явление культуры» (Москва, РГГУ, 2003), Международной научной конференции «Современные проблемы литературоведения и лингвистики: к 200-летию харьковской филологической школы» (Харьков, Харьковский национальный университет, 2004), V и VI Международных форумах русистов (Ливадия, 2005; Ливадия, 2006), Международном симпозиуме «Глобальный культурный кризис Нового времени и русская словесность» (Шуя, Шуйский государственный педагогический университет, 2006).
В полном объеме диссертация обсуждалась на заседании кафедры русской и зарубежной литературы РУДН 13 января 2006 года. Публикации. Результаты диссертационного исследования изложены в монографии «Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века (М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева)» (25, 57 п. л.) и 18 статьях (общий объем 14,5 п. л.).
*
12 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Полный объем диссертации 436 страниц. В списке использованных источников 368 наименований, среди которых значительную часть составляют редкие, в том числе зарубежные, издания. В работе впервые вводятся в научный обиход многочисленные архивные материалы из фондов М. Волошина (ИРЛИ, ф. 562), Е. Гуро (РГАЛИ, ф. 134), а также ряда других архивов, связанных с культурой рубежа XIX - XX веков (Государственный музей В. Маяковского, Государственный Русский музей, отделы рукописей РГБ и РНБ). Приложение к диссертации включает в себя иллюстрации, большинство из которых приводится впервые.
Итоги и перспективы изучения маргинальное в современных гуманитарных науках
Понятие «маргинальность» и связанные с ним «маргинал», «маргинальный» (от лат. margo - «край», «граница») не случайно возникли в 1920-е годы: они были вызваны к жизни социальными и культурными реалиями начавшегося XX столетия. Социолог из Чикаго Р. Парк ввел это обозначение для характеристики поведенческих стратегий иммигрантов, занимавших все более заметное место в структуре современного мегаполиса [360]. С годами диагностированная им тенденция оказалась фактором общегуманитарного значения. Век урбанизации и массовых миграций, новых средств информации и связи, психоанализа и гендерных исследований вошел в историю как период тотальных изменений и сдвигов, расширивших представления человечества о норме. Новые жизненные ситуации множили число этномаргиналов (эмигрантов и детей, рожденных в смешанных браках), социомаргиналов (людей неопределенной социальной принадлежности), экономических маргиналов (безработных, «новых бедных»), криминальных, религиозных маргиналов и других групп людей, меривших свое существование отнюдь не традиционными мерками. Инаковость их психологии и мышления требовала осмысления в широком контексте истории и культуры. При этом возникал вопрос о роли в современном мире тех, кто осознанно или неосознанно избирал быть на его окраинах.
Вторая половина XX века отмечена последовательным интересом западной мысли к изучению маргинальное как важнейшей составляющей современного способа бытия. Тема маргиналов стала темой самой культуры, оказавшейся «в меньшинстве», - культуры, которая «знает о смерти, знает о гибельности цивилизации. Знает, что мысль - это нечто не самой собой разумеющееся» [175, 339]. Серьезным интеллектуальным прорывом был выход в свет классического труда Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения» (1972), где описывалось присущее современному социуму противостояние коллективистского (капиталистически-фашистского, параноидального) и изолированного (революционного, шизофренического) сознания. Авторы работы говорили о «шизофренизации» европейской цивилизации, ставшей реакцией отдельных индивидов - в том числе радикально мыслящих интеллигентов, «творцов» - на «эдипизирующее», обезличивающее давление среды (отсюда вариант заглавия книги - «Анти-Эдип»). В те же годы один из отцов маргинализма1 М. Фуко описал неорасизм XX века как разновидность «внутреннего расизма» социума в отношении ненормального, объявив научное - и, в первую очередь, медицинское, - знание пособником в борьбе власти со всякого рода инаковостью. Предпринятое им изучение «истории безумия» в контексте других аномальных проявлений человеческой социальности давало повод для серьезных сомнений в упрочившихся критериях «нормального». Отсюда философский императив М.Фуко - «впустить Другое в лабораторию нашей мысли» [297, 15], «постоянно быть в состоянии отделять себя от себя» [294, 320]. Заметим, что в 1970-е годы, когда западноевропейские интеллектуалы изучали историческую практику исключения, изгнания и «маргинализации», советский режим настойчиво демонстрировал ее жизнеспособность, распределяя по психиатрическим лечебницам диссидентов, деятелей науки и искусства, позволивших себе роскошь инакомыслия.
Потребность «черпать свой язык в источнике более глубокого разума, чем тот, который расцвел в классическую эпоху» (Ж. Деррида [103, 61]) обратила западных мыслителей ко внутренней реальности умалишенных, безумных художников, людей, так или иначе нарушивших заговор всеобщего соглашательства. Ж. Лакан применил методы психоанализа к исследованию речевых практик «ненормальных» - его усилия были направлены на поиск факторов, «делающих этих субъектов жертвами разрыва, вызванного характерными для сложных структур цивилизации символическими несоответствиями» [156, 50]. В ситуации «принципиального разрыва внутри западного мира» тот же М. Фуко пришел к выводу о близости безумия и творчества, ставящей поэта в «"граничную" ситуацию - положение маргинальное и глубоко архаических очертаний, - где ... слова беспрестанно обретают свою странную силу и возможность оспаривания» [297, 84]. Так остро переживаемая гуманитарной мыслью «странность», «спорность» культуры-после-Освенцима заставила пересмотреть традиционные представления об интеллектуальных и духовных возможностях современного человечества.
Сложившийся в 1970-е - 1980-е годы философский контекст проложил пути для всестороннего исследования маргинальных тенденций в современном искусстве. В работах последних лет все чаще присутствует анализ маргинальных стратегий письма, маргинальных подходов к художественному творчеству и творчеству жизни. Ж. Делез в своем прощальном труде «Критика и клиника» (1993) говорит о «малом, вечно малом народе», «народе-бастарде», существующем в атомах писателя и заставляющем его чувствовать себя чужеземцем в языке, даже если это его родной язык [100] . Э. Хьюз в фундаментальном исследовании «Writing Marginality in Modern French Literature: from Loti to Genet» [355] окончательно разрушает стереотип маргинального как малозначительного, распознавая инаковые стратегии М.Пруста, А. Камю, Ж. Жене, наряду с посланиями «неканонических» писателей П. Лоти, П. Гогена (имеется в виду литературное наследие художника), А. де Монтерлана.
Настаивая на диалогической взаимозависимости центра и периферии -центр нуждается в периферии, чтобы поддерживать себя, в то время как периферия выкристаллизовывает свои смыслы в противоречиях с центром, -исследователь показывает богатство культурного символа границы, которая служит как барьером, так и местом коммуникации и обмена. Он связывает идентификацию маргинальных авторов со ставшим внутренней неизбежностью «осмыслением края и границы: юг/ север, запад/ не-запад, старое/ новое, вера/ атеизм, здоровье/ патология, родное/ экзотическое» [там же, 7], что и определяет преимущественное качество их маргинальное. В этом контексте весьма уместным представляется обращение Э. Хьюза к понятиям «культурной географии» и «психологической геометрии», а также использование термина «ускользающая миграция» (внутреннее, не подлежащее статистической фиксации ощущение индивидом своей отдельности).
Становление поэта в духовной ситуации рубежа веков
Волошиноведение последних лет претендует на роль одного из ведущих направлений в изучении литературы Серебряного века. Выход в свет первых двух томов собрания сочинений поэта [70], очередного тома его эпистолярного и переводческого наследия, изданного под эгидой Российской Академии наук [63], а также ценных биографических материалов [152; 153; 212] создает предпосылки для осмысления фигуры М. Волошина (1877 - 1932) во всей многогранной целостности. При этом впервые возникают условия для полномасштабного соотнесения биографии и творчества художника, проясняющего его особое место в литературе начала XX века и отечественной традиции в целом. Можно сказать, что М. Волошину было суждено проделать долгое путешествие по «странам, книгам, и людям» [71, 354], прежде чем его взыскательная лира прочно и навсегда укоренилась в просторах российской словесности.
Художественная система М. Волошина складывалась на стыке XIX - XX веков, в момент эпохальных преобразований культурного и общественного сознания. Уже в 1890-е годы предчувствие новой эры, вначале неясное, затем все более и более отчетливое, распространилось на область поэтического языка; в сознании читающей публики формировался новый образ автора, писателя-модерниста (ср. в 1896 году у В. Брюсова: «юноша бледный со взором горящим»). Сам М. Волошин связывал свое духовное рождение с началом века, именно с 1900-м годом. Годом раньше, в феврале 1899-го, молодой поэт, студент юридического факультета Императорского Московского университета принял участие во Всероссийской студенческой забастовке, был арестован, исключен из университета и вновь восстановлен в нем. Злоключения, однако, на этом не закончились: 21 августа 1900 года М. Волошина, только что вернувшегося из путешествия по Италии и Греции, ожидал новый арест в Судаке с последующим допросом в Москве и в итоге - лишением его права «въезда в столицу». Эта коллизия, вполне обычная для интеллигентного юноши в России рубежа веков, в судьбе поэта сыграла роль особую. Она позволила ему расстаться с давно тяготившим юридическим факультетом и вообще государственной системой образования (неприятие которой М. Волошин обнаруживал еще в гимназии). Она дала ему возможность задуматься о своих путях самосовершенствования, своем собственном понимании жизни. Наконец, она имела провиденциальный смысл: М. Волошина впервые оттолкнула одна из столиц, указав на необходимость иных просторов, в которые могла бы уложиться его неординарная личность.
Символическим развитием этой коллизии стала поездка М. Волошина «в пустыню», пожалуй, самое значительное событие его 1900-го года. Сразу после освобождения из-под стражи молодой поэт отправился в Туркестан в составе поисковой экспедиции, возглавляемой В. Вяземским. В степях возле Туркестана М. Волошин, назначенный начальником каравана и заведующим лагерем, ощутил себя настоящим путешественником. Важнее, однако, другое: поэт осознал себя странником, впервые поставленным на предначертанный путь. Четверостишие «Жизнь - бесконечное познанье...» станет на ближайшие годы девизом молодого поэта (в частности, им будет открываться общая тетрадь для стихов в серой обложке, начатая в 1902 году в Париже). Сам этот текст уже несет в себе приметы волошинского космоса. Жизнь глубока, многомерна и бесконечна; человек почти ничего не знает наверняка, кроме своего одинокого пути в огромном мире. Но в пути ему даны звезды - как весть о конечной цели, как свидетельство того, что Некто, знающий все смыслы, наблюдает за ним сверху. Интуитивно начинающий автор уже ощущает свои будущие темы: знание, судьба, мистическая жизнь души...
Примечательно, что ближайшим «спутником» волошинского текста выступает знаменитое стихотворение М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...», где так же чувствуется одухотворенность пространства («пустыня внемлет богу»), так же проявляет себя надчеловеческое сознание («и звезда с звездою говорит»), так же интенсивно и плодотворно переживается одиночество лирического героя. Однако в стихотворении М. Лермонтова, написанном в год его гибели, присутствует мысль о конце, предчувствие чего-то неотвратимого («Что же мне так больно и так трудно?/ Жду ль чего? Жалею ли о чем?»), в то время как четверостишие М. Волошина - весть о начале пути, рождении поэта. Один из самых пронзительных исповедальных текстов русской лирики глубоко запечатлелся в памяти начинающего литератора - тем больше вероятность его сознательного творческого усвоения и переосмысления.
В контексте творчества и судьбы М. Лермонтова становится понятным пафос отдачи себя высшей воле и тот трепет перед неизвестностью, которым дышит «Жизнь - бесконечное познанье...». Ведь выбрать судьбу поэта, любимца богов, значило для М. Волошина приобщиться русской поэтической традиции, а вместе с тем принять все трагические последствия этого шага, вплоть до безвременной гибели (и об этом он будет писать позже - ср., например, стихотворение «На дне преисподней» (1922), посвященное памяти А.Блока и Н. Гумилева). Заметим, что в момент самоопределения М. Волошину оказывается близок М. Лермонтов с его романтическим типом сознания, а не Н.Некрасов, увлеченность которым поэт пережил в отрочестве, подкрепив целым рядом страстных, но совсем еще не «волошинских» стихотворений.
Воспоминание о пустыне пройдет через всю жизнь М. Волошина, став началом грандиозного мифа о его поэтическом пути как приобщении к некому тайному знанию (философскому? оккультному? масонскому?), череде все более загадочных посвящений, конец которым лежит за пределами земной реальности. Об этой занавеси знания, отделявшей поэта от других людей (и, рискнем предположить, скроенной поэтом, чтобы скрыть свою глубокую эмоциональную незащищенность), говорили так или иначе почти все понимавшие его душу. Сошлемся лишь на наиболее красноречивую М.Цветаеву. «Макс был знающим, - пишет она в эссе «Живое о живом». - У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. ... Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер - своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М.В. - ни в стихах, ни в друзьях, - самотайна, унесенная каждым в землю» [310,4,191].
Здесь поэт, уже утвердившийся в мыслях о своем предназначении, ориентируется в большей мере на пушкинского «Пророка» и через него - на весь свод мифов о посвящении в пустыне. Думается, для авторского сознания М. Волошина были актуальны эпизоды сорокадневного «возведения в пустыню» Христа и - косвенно - сорокалетнего блуждания в пустыне Моисея. В первом случае ситуация пустыни является водоразделом, после которого герой (Христос) вступает на путь активного проповедничества. Во втором -пустыня становится символическим местом проповедничества, где особенно остро обнажается конфликт между пророком и «толпой». Заметим, что с образом Неопалимой Купины, озаряющей начало пути Моисея, может быть связана строка «жгуч твой путь» - как и многие другие примеры «горения» у М. Волошина, поскольку образ этот является для него сквозным.
Художественная система Е. Гуро. Книги «Шарманка», «Осенний сон» и «Небесные верблюжата», публикации в коллективных сборниках
Е. Гуро не принадлежит к числу писателей со сложившейся литературной судьбой. Виной тому не только ранняя смерть поэтессы, но и ее сравнительно поздний дебют, поскольку до выхода первой книги «Шарманка» (1909) об участии Е. Гуро в литературной жизни можно говорить лишь условно. Публикация 1905 года в «Сборнике молодых писателей» сама по себе кажется почти случайной: будучи единичным выплеском «душевного импрессионизма», она не дает представления о творческой индивидуальности Е. Гуро и вызывает ассоциации с многочисленными не вполне профессиональными образцами сентиментально-женского письма. Универсализм дарования этой яркой представительницы искусства Серебряного века (незадолго до своей первой публикации в 1905 году Е. Гуро дебютировала как художник-иллюстратор, оформив изданные в Харькове «Бабушкины сказки» Жорж Санд) тоже до определенной степени препятствовал ее собственно литературной деятельности - ведь, по характерному представлению, описанному Вяч. Ивановым, художник, в равной мере приверженный нескольким искусствам, «по строгом судоговорении ареопага искусств, не нашел бы себе места ни в одном из них и поистине не знал бы, где ему преклонить голову» [121, 161]. Идея синтеза искусств уже витала в воздухе эпохи, но еще не получила обоснования и художественного оправдания. Решение этих задач, не входивших как будто бы в ведение литературы, выпало на долю нескольких обособленно стоявших писателей, одним из которых стала Е. Гуро.
Краткость литературного пути Е. Гуро делает практически невозможной, а вероятно, и ненужной объективную периодизацию ее творчества. Речь может идти главным образом об этапах ее внутреннего пути, некой направленности, результаты которой получили со временем словесное воплощение. Совершенно очевидно, что новый тип дарования, олицетворенный Е. Гуро, должен был получить оправдание, в первую очередь, в ее собственных глазах. Возможно, поэтому краткому периоду литературной манифестации предшествовало длительное время уединенной сосредоточенной работы, которое позволило отточить и сплавить воедино все приобретенные умения. В дневниках и записных книжках этого раннего периода многократно выражаются сомнения (доходящие порой до самобичевания) в своем призвании и правомочности каких бы то ни было публичных выступлений. Постепенно они сменяются пониманием «несвоевременности» своего прихода и надеждами на будущего читателя, отразившись, однако, на всем тематическом строе произведений Е.Гуро. Собственная отчужденность от текущих литературных событий побуждает поэтессу с особенным вниманием относиться к любым аналогичным явлениям, в конечном итоге выливаясь в пафос оправдания непризнанной новизны, недооцененной красоты и житейской беспомощности.
Книга «Шарманка» (1909) написана еще не вполне уверенной рукой, но она уже отражает природу дарования Е. Гуро. Более того, в ней ощущается присутствие (на уровне мотивов, сюжетных ситуаций, отдельных образов) следующих произведений, волновавших воображение поэтессы. В этом смысле первая книга Е. Гуро более значима, чем юношеские сборники, с которых обычно начинают свой путь в литературе молодые поэты. Вот почему В.Каменский, один из друзей и почитателей таланта Е. Гуро, вспоминал о «Шарманке», как о книге, «где ее исключительное дарование было густо, ветвисто и стройно, как сосновая роща» [131, 534]. Он же, тремя фразами дальше, упомянул о неком «гнезде своих слов», в котором жила поэтесса. И образ рощи, и образ гнезда, как думается, являются метафорами многогранной гармонической целостности, которую привнесла в литературу Е. Гуро. Не случайно Н. Гурьянова, один из ведущих, на сегодняшний день, исследователей ее творчества, фактически переводит на язык науки то же впечатление и парадоксальным образом характеризует наследие поэтессы в составе современной ей литературы как «замкнутую систему» [95, 53]. Под «замкнутостью» художественной системы Е. Гуро, скорее всего, имеется в виду та самая «исключительность», «особость» дарования поэтессы, потому что отрицать ее взаимодействие с теми или иными современниками (будь то В.Хлебников, А. Блок или М. Добужинский) было бы бессмысленным. Специфика системы Е. Гуро в том, что любые влияния или вливания сразу переводятся в ней на свой необычный язык, усваиваются, не меняя общего впечатления непохожести ни на кого.
Говоря о творчестве Е. Гуро 1909 - 1913 годов, можно было бы, в свою очередь, выделять те или иные этапы - к такому подходу склоняется, например, уже названная Н. Гурьянова. С нашей точки зрения, картина выглядит несколько иначе. Однажды вышедшее из подполья удивительное дарование Е.Гуро начало свою жизнь в мире, с удвоенной энергией пуская новые и новые побеги. И форма, и содержание исканий поэтессы теперь лишь уточняются (хотя в этом «лишь» - весь стремительный путь от импрессионизма - через символизм - к абстрактному искусству и зауми). Стержень же остается прежним: многообразие форм творчества и подчинение искусства духовной сверхзадаче, которая час за часом делает форму все более эфемерной.
По отношению к последней книге Е. Гуро «Небесные верблюжата» (1914) часто применяют термин «симфонизм» - в значении принципа композиции, аналогичного музыкальному и предполагающего масштабное и последовательное развитие основных тем и мотивов, перетекающих друг в друга. Вместе с тем, симфонизмом в широком смысле отличается все творчество Е. Гуро, особенно же «публичное» творчество 1909 - 1913 годов. Книги поэтессы «Шарманка», «Осенний сон» (1912) и изданные посмертно, но в значительной мере подготовленные самим автором «Небесные верблюжата» выступают как части этой симфонии. Публикации в коллективных сборниках исполняют роль фрагментов, отражающих специфику целого (такие публикации могли быть частями готовящейся книги) и временами провокативных по отношению к нему из-за специфического будетлянского контекста. Неопубликованные записи функционируют как лирические отступления, а замечательная повесть «Бедный рыцарь», оставшаяся в набросках и увидевшая свет через много лет после смерти поэтессы, оказывается эпилогом, возможно, самой автобиографической частью этой симфонии. В целом же получается динамическая система, в которой смещаются границы между жанрами, раздвигаются рамки литературы и показываются новые духовные возможности становящегося современного мира.
Е. Кузьмина-Караваева и культура Серебряного века
Творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой - одна из нераспознанных тем в симфоническом целом Серебряного века. Первые выступления поэтессы пришлись на 1910-е годы, совпав со становлением постсимволистских направлений, ни к одному из которых она, однако, не принадлежала. Близкое знакомство с А. Блоком, Вяч. Ивановым, Н. Гумилевым, М. Волошиным способствовало возмужанию поэтического дара будущей матери Марии, но ее отношение к культуре своего времени, подчеркнуто элитарной и «нецеломудренной» оставалось далеко не однозначным. Дореволюционное наследие поэтессы само по себе оказалось весьма и весьма обширным: два вышедших поэтических сборника, «Скифские черепки» (1912) и «Руфь» (1916); подготовленный, но не изданный сборник «Дорога» (1914); повесть «Юрали», увидевшая свет в 1915 году; а также большое количество неопубликованных произведений, наиболее значительным из которых представляется поэма «Мельмот скиталец», написанная по мотивам одноименной повести Ч.Метьюрина.
Однако и в эмиграции, где Е. Кузьмина-Караваева (во втором браке Скобцова) оказалась в 1920-м году, она до последних лет жизни не оставляла литературных занятий. Уже приняв монашеский постриг, поэтесса издала книгу своей зрелой лирики («Стихи», 1937), в которую вошла лишь малая часть написанного вдали от родины. Удивительно, что, с головой окунувшись в благотворительную работу и со временем став организатором движения «Православное дело», м. Мария продолжала расширять спектр своего творчества. Она выступала как прозаик (автор повестей, публиковавшихся в 1920-е годы под псевдонимом Ю. Данилов), религиозный публицист, а затем обратилась к созданию драм-мистерий. Поэтесса не переставала следить за литературной жизнью в России и за рубежом, и, даже потеряв своего читателя, - как это случилось с большинством писателей-новаторов, попавших в эмиграцию, например, с М. Цветаевой, - продолжала придерживаться однажды намеченного пути. В это время Е. Кузьмина-Караваева окончательно состоялась как художник религиозного склада, автор духовной лирики, обладающей огромной силой нравственного воздействия. Весь опыт, полученный м. Марией за годы учебы у корифеев Серебряного века, влился в ткань ее внешне непритязательной и доступной для восприятия поэзии.
После трагической гибели м. Марии в газовой камере концлагеря Равенсбрюк в марте 1945 года, ее стихотворения и некоторые публицистические работы неоднократно издавались за рубежом (большая заслуга в этом принадлежит известному издательству «Ymca-press»). Однако основной целью этих изданий была популяризация идей героической женщины, заново открывшей миру человечность и нравственную глубину православия. В те же послевоенные годы стали появляться многочисленные мемуары о последнем периоде жизни м. Марии, «житийный» тон которых был далек от осмысления всей полноты ее многогранной личности. Что же касается признания Е. Кузьминой-Караваевой в бывшем СССР, то, в силу понятных причин, ее образ расслоился на две составляющие: девочки, которой посвящал стихи сам А. Блок (стихотворение «Когда Вы стоите передо мной...»), и монахини-эмигрантки, подвиг которой не отрицался, но и не выносился на всеобщее обсуждение. Так художественное наследие поэтессы, естественным образом попавшее в тень ее же богатой биографии, последовательно подтверждало выведенную М. Волошиным закономерность: «Быть многогранным, интересоваться многообразным, проявлять себя во многом -лучшее средство охранить свою неизвестность» [66, 520]... Сегодня, когда м.
Мария не только известна на родине, но и причислена к лику святых1, биографический подход остается доминирующим в посвященных ей работах (это касается, в частности, единственной отечественной монографии о личности поэтессы [4]). Однако новый этап в изучении литературы начала XX века, совпавший с распространением всего круга идей м. Марии, делает неизбежными попытки целостного восприятия этой многогранной фигуры.
Недавно вышедшее в свет полное собрание поэтических и прозаических текстов Е. Кузьминой-Караваевой [147], снабженное серьезными, хоть и лаконичными, комментариями А.Н. Шустова, впервые позволило оценить истинный объем литературного наследия поэтессы. Большую ценность представляет сборник материалов «Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок» [110], составленный тем же А. Шустовым, и являющийся серьезным шагом в осмыслении одного из самых насыщенных литературных диалогов Серебряного века. Настоящим событием стал выход в течение последнего года книги религиозной публицистики м. Марии «Жатва духа» [146] и собрания ее художественных работ «Красота спасающая: живопись, графика, вышивка», составленного К. Кривошеиной [185]. Добавим, что та же К. Кривошеина и ее соавтор А. Гринбаум курируют в сети интернет сайт Е. Кузьминой-Караваевой [http://www.mere-marie.com.], отличающийся высоким качеством оформления и отбора материала. Перечисленные издания впервые создают условия для прочтения творчества поэтессы в связи с основными тенденциями искусства ее времени. Они позволяют с уверенностью предположить всплеск исследовательского интереса к слову м. Марии.
Становление Е. Кузьминой-Караваевой как поэта невозможно представить вне Серебряного века, хотя сама она с юности ощущала себя периферийной фигурой, не вполне соответствующей читательским ожиданиям своего времени. Еще гимназисткой она говорила А. Блоку о нелюбви к Петербургу, бывшему средоточием культурной жизни страны: «Петербург не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами, и почти наверное знаю, что Бога нет» [147, 620]. Этот полемический пафос, со временем вылившийся в бунт против столичной высокопарности, в частности, интеллектуальных излишеств на «башне» Вяч. Иванова, заметен уже в первой, безусловно, незрелой, книге поэтессы «Скифские черепки» (1912). Тем интереснее наблюдать взаимодействие между заемной символической образностью и новыми религиозными смыслами, которые лишь брезжат в дебютном сборнике будущей м. Марии.
«Скифские черепки» вышли в рамках только что основанного объединения Цех поэтов, буквально месяцем раньше «Вечера» А. Ахматовой. Будучи супругой Д. Кузьмина-Караваева, молодая поэтесса часто встречалась с А. Ахматовой и Н. Гумилевым, приходившимся двоюродным братом ее мужу. Встречи происходили не только в Петербурге, но и в имении Гумилевых Слепнево, где в домашнем кругу обсуждалась идея создания нового литературного направления. «Молодые» чувствовали потребность отмежеваться от символизма и выйти из-под непосредственного влияния «башни». Для деятельной Е. Кузьминой-Караваевой этого, однако, было недостаточно. Искавшая решений столь же жизненных, сколь и литературных, она и под ногами акмеистов не чувствовала почвы. «Цех поэтов только что созидался... Начинали входить в славу Гумилев и Ахматова. Он рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, она не выходила за порог душной, заставленной безделушками комнаты. Ни с ним, ни с ней не по пути», - будет вспоминать м. Мария в 1930-е годы [147, 623]. Несмотря на столь резкую оценку, зависимость раннего творчества Е. Кузьминой-Караваевой от опыта современников - как символистов, так и акмеистов - определенно присутствует.