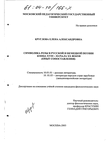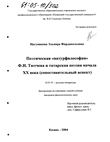Содержание к диссертации
Введение
Раздел первый. Начальный этап восприятия личности и творчества Сафо 20
1. У истоков феномена Сафо в России 20
2. Сафо и виршетворчество в петровскую эпоху 27
3. Сафо и Сума роков 41
4. СафоиН. А. Львов. «Преображенцы» — переводчики Сафо 63
5. СафоиДержавин 79
6. СафоиКарамзин 98
7. Сафо и Радищев 105
Раздел второй. Сафо и русская литература 1800—1870-х гг 134
1. Сафо в русской журналистике и переводных книгах 134
2. Сафо и поэты пушкинского окружения (Жуковский — Рылеев —Д.Давыдов) 158
3. Сафо и А. С. Пушкин 188
4. Сафо в отечественных драматургических жанрах 201
5. «Сафо» как имя нарицательное 226
6. Сафо в русской литературе 1850—1870-х гг 258
Раздел третий. Драматическая судьба феномена «Сафо в России» 277
1. Истинно первая «русская Сафо» 277
2. Сафо в восприятии русских поэтов «серебряного» века 302
3. Сафо и «имморализм» в русской литературе «серебряного» века 317
4. Падение 332
Приложение I. Стихотворные произведения, посвященные Сафо 335
Алфавитный список авторов стихотворных произведений, посвященных Сафо 339
Приложение II. Библиографический указатель переводов и подражаний стихотворений и стихотворных отрывков Сафо 341
Список сокращений к Приложению II 388
Список иллюстраций 390
Указатель имен 391
- У истоков феномена Сафо в России
- Сафо в русской журналистике и переводных книгах
- Сафо в русской литературе 1850—1870-х гг
- Падение
У истоков феномена Сафо в России
Русский классицизм (признаем факт условности этой дефиниции в отношении отечественной литературы) является временным эквивалентом французского классицизма, который совпал с началом XVII в. и позднее получил теоретическое обоснование в первую очередь благодаря деятельности Н. Буало (Boileau, 1636—1711), изложившего в поэме «Поэтическое искусство» («Art poetique», 1674) собственные взгляды на правила и нормы нового направления и стиля, обобщившего позиции по этому вопросу своих предшественников и современников.
Ожесточенным нападкам со стороны теоретиков классицизма подвергалась так называемая прециозная литература, существовавшая прежде всего в виде малых поэтических форм, столь обильно воспроизводившихся в артистических салонах Парижа: мадригалы, эпиграммы, стансы «на случай» и пр., в которых в гипертрофированных формах замысловатые метафоры чередовались с описательными перифразами и ретардациями. Не меньшей популярностью пользовались также и галантно-психологические романы.
Наиболее известной романисткой этого направления была писательница мадмуазель Мадлен Скюдери (Scuderi, 1607—1701), автор многотомных романов, в настоящее время, впрочем, представляющих лишь «археологический интерес». Создательница псевдоисторических произведений еще при жизни — прожила она почти сто лет — была прозвана «французской Сафо».
Очевидно, В. К. Тредиаковскому была известна подобная аналогия. Так, в «Эпистоле от российския поэзии к Лполлину» (1735) он пишет:
Сапфо б греческа была в зависти великой, Смысл девицы Скудери есть в стихе коликой.,.2
Эту мысль он повторяет и в стихотворении из «Предуведомления» к 11-му тому переведенной им «Римской истории» Ш. Роллена (СПб., 1764);
Подобная по сей Шурманна есть Мария; АСафой, по своей В песнь Музе, Скудерия.
До Скюдери этим именем называлась лишь одна француженка — поэтесса Луиза Лабе (Labe, 1526— 1566). С точки зрения риторики и поэтики подобное переименование — весьма распространенный, но практически неизученный вид метонимии— прономинация.3
Если эта металогия, т. е. употребление слов и выражений в их переносном значении, образном или фигуральном, и упоминается в отечественных и зарубежных справочниках, то оснащается примерами, взятыми из художественных произведений (ревнивец — Отелло; легкомысленный повеса — Дон-Жуан и пр.). Особой разновидностью прономинации можно назвать «прономинацию литературную». Например, Крылов — «русский Лафонтен», Г. П. Данилевский — «наш Купер».
Литературной прономинацией следует считать переименование, осуществленное благодаря употреблению античных антропонимов, как литературных, исторических, так и мифологических (например, Екатерина II— «Северная Минерва»). Прономинация «французская Сафо» (применительно к Лабе и Скюде-ри) как раз и относится к метонимии, основанной на античном литературном антропониме. В русской поэзии переименования, связанные с именем Сафо, носят перманентный и весьма продуктивный характер с точки зрения развития литературной полемики (см. ниже).
В романе «Артамен, или Великий Кир» («Artamene ou Le Grand Cyrus», 1650. 10 v.) перед читателем в артистически завуалированной форме предстает жизнь знаменитого салона мадам Рамбуйе, а также салона М. Скюдери. Писательница вводит в свой роман нескончаемые беседы, когда политические дискурсы самым неожиданным образом сменяются откликами на очередные, ставшие известными всему Парижу светские интриги, прерывающиеся порой своеобразными литературными экскурсами, позволявшими осмыслить эстетические взгляды самой «французской Сафо».
Главы, посвященные греческой поэтессе, так виртуозно сотканы, что невольно наводят на мысль: немедленное осмысление условности образа Сафо современниками, осмысление, ведущее к отождествлению ее с автором романа, — едва ли не самоцель французской писательницы. Литературная маска, наброшенная Скюдери на лишенный полностью какого-либо историзма персонаж, была освещена такими любопытными деталями из личной жизни самой мадмуазель Скюдери, что невольно побуждала современников к более внимательному погружению в предлагаемые сюжеты. Вместе с тем романическую Сафо не следует рассматривать лишь как плод своеобразной нарочитой игры писательницы, ибо слишком серьезная, учитывая скромные масштабы личности Скюдери, ставилась цель — цель самоутверждения женщины, отстаивавшей право на выбор, в том числе право на выбор профессии, даже если она традиционно считалась прерогативой мужчин. Сафо у Скюдери — писательница, активная женщина, сумевшая возвыситься над любовной страстью и даже в период пылкого увлечения юным Фаоном не перестающая каждый день во время своего путешествия по земле савроматов (скифское Причерноморье) отдавать себя без остатка творчеству. Сафо своими поступками, а еще более — декларациями высвечивает едва ли не впервые в западноевропейской литературе феминистические чаяния: перед читателем предстает женщина, борющаяся за равные права нравные возможности с мужчинами.
Сколь бы вычурным, приторно-галантным тоном не были перенасыщены порою страницы ее романа, объективно французская писательница проложила стезю для таких известных литературных деятелей, как Ж. де Сталь, Ж. Санд.
Тем не менее современники, в том числе знавшие Скюдери, постоянно иронизировали над ее построенными на аллюзиях стараниями изобразить современный,ей мир, высказать собственный взгляд на политику, общественную жизнь, а также над ее попытками недвусмысленно бросить вызов обществу в борьбе за соперничество на литературном Олимпе. Так, Н. Буа-ло публикует (правда, вскоре после смерти М. Скюдери) «Диалог в манере Лукиана — Герой из романов» (написан в 1665 г., издан лишь в 1701 г.), в котором высказывается против стремления писательницы не только отстаивать свое место в литературной нише, но и расценивает эти претензии как узурпацию самого литературного трона. В этом диалоге Плутон жестоко наказывает галантных романисток, в том числе и Сафо (читай Скюдери), приказывая их «выдрать плетьми» и, отведя на берег Леты, утопить «в самом глубоком месте».4 (Во втором разделе монографии нам еще придется столкнуться с этим сюжетом.)
Между тем Буало однажды самому пришлось попасть в довольно двусмысленное положение: законодатель и теоретик классицизма вынужден был отступить от собственных рационалистических принципов построения поэтических жанров, когда он перевел трактат псевдо-Лонгина «О возвышенном» (1674), в котором в качестве примера приводилась знаменитая 2-я ода Сафо, едва ли не самое иррациональное произведение малых поэтических форм, когда-либо созданное на Европейском континенте. Здесь Буало-теоре-тик явно уступает место Буало-поэту. Именно этот перевод, считавшийся во Франции непревзойденным вплоть до начала XIX в., станет главным переводом-посредником для передачи оды греческой поэтессы на русский язык в течение более чем полувека развития отечественной поэзии. Впрочем, не забудем и об интимной стороне вопроса: Буало, еще в детстве получивший увечье, был осужден на безбрачие, вследствие чего стал женоненавистником и даже написал злую сатиру на женщин.
Сафо в русской журналистике и переводных книгах
В первое десятилетие XIX в. наблюдается заметное оживление интереса к личности и творчеству Сафо. Именно в это время частота переводов ее од достигает своего апогея, равно как и появление псевдопереводов, имеющих лишь косвенное отношение к лирике поэтессы и воспринимающихся как одно из свидетельств популярности ее имени. Только в 1806—1807 гг. один за другим следует четыре перевода 2-й оды: Н. И. Бутырского (II, 55), А. Тейльса (II, 57), В. А. Жуковского (II, 56); появляются также анонимный перевод (II, 58), два псевдоперевода этой же оды: Д. Альбицкого (I, 4) и А. X. Востокова (I, 5). (Как мы убедимся ниже, 1806 г. в литературной жизни для «русской Сафо» окажется весьма знаменательным. )
Можно сказать, что обостренное внимание к Сафо приобретает общелитературный характер. Так, писатель и переводчик (в том числе с древнегреческого языка) П. А. Львов в очерке «Сельское препровождениє времени» ставит поэзию Сафо даже выше современных знаменитостей: «Здесь, в уединении моем, беседую ясЛокомиПопе ... . Но влеком будучи нежным стихам страстной Сафы, я оставлю сих британских мудрецов и предаюсь приятной томности, и которую охотно дух разимый ее стенаниями, возбуждающим это Лев-кадской скалой».1
В начале XIX в. появляются статьи, посвященные жизни и творчеству Сафо, как переводные, так и оригинальные. Укажем некоторые. Так, в 1802 г. появилась статья Н. Столыпина «Левкада»,2 отчасти посвященная Сафо. На самом же деле это был перевод очерка Э. Парни «Поездка на Левкады». Переводной (с французского) также явилась статья 1807 г.,3 в которой был приведен буквальный (прозаический) перевод 2-й оды, причем было неизвестно, кому принадлежит авторский голос, мужчине или женщине. Перевод статьи о жизни и творчестве поэтессы появился даже в журнале «Друг юношества».4 Издатель журнала, воспользовавшись историей любви Сафо к Фаону, изложенной весьма подробно в статье, назидательно разъяснял юношеству: «Любовь и страсть, дышащие в стихах, кажется, составляют весь блеск и славу Сафы во время жизни ее и в потомственных веках. Не удивительно, что слабый человек подвержен бывает страсти всякого рода и особливо любовной, которая иногда, так как и всякие страсти, доводит его до жалостного состояния и, можно сказать, безумия, в чем мы видим пример на прославленной гречанке Сафе, свергнувшейся от любовной страсти с Левкадского мыса в море. Ежели истории угодно было передать ее имя и происшествия до наших времен, то долг наш есть и обязанность жалеть о ней и о бедном состоянии подобных ей рабов страстей; уверяется, что один ум, соединенный с какими бы то ни было познаниями, в таковом бешеном состоянии страстей не делает нам отрады и помощи без особливого вспоможения Бога, которого мы должны о сем просить, а волю свою к тому располагать так, как истиннее всех учат сему Христианская вера; и наконец самим учиться от сего примера, и другим его представлять, особливо молодым и еще на пути исправления находящимся людям, от всякой вообще, от любовной же плотоугодной страсти человеку не приличной в особливости остерегаться. Благонамеренная история конечно уведомляет потомство о таковых людях и происшествиях с тою единственною целию. Но горе развратным временам всех веков!»
В журнале сентименталистского направления «Кабинет Аспазии» в статье «Гречанки» А. Рихтер предпочитает творчество Сафо стихам Анакреона, поэта, нередко упоминавшегося в паре с поэтессой: «Стихи Сафо текут с большою приятностию и сладостию, нежели стихи Анакреоновы и Симонидовы ... . Стихи Сафы грекам, может быть, столько же были приятны, как в средние века рыцарские романы любовников, в новейшие — романы Радклиф,Жанлис, Руссо, Ричардсона и проч., посвященные женщинам».5
Авторитет Сафо в глазах критиков начала XIX в. столь непререкаем, что ее именем начинают пользоваться для оценки степени таланта поэтов-современников. В этой связи любопытна статья (без подписи) в журнале «Любитель словесности» «О финляндской поэзии». Автор сообщает, что один финский профессор подарил ему песню, написанную «молодою крестьянкою». Далее он замечает: «Она писана на отсутствие любовника и особливо отличается сильным чувствием и смелыми выражениями, за которыми часто и безуспешно гоняются опытнейшие стихотворцы. Песня сия заслуживает тем более удивления, что сочинена девкою, не умеющей ни писать, ни читать. Природная стихотворица изливает в ней чувствия своего сердца словами, которые внушает ей сама любовь. Финская Сафо, в снеговых вьюгах и метелях, дышет одинаковою горячностью с Лезбийскою стихотвори-цею». Далее приводился текст песни.6
В поэтическом сознании современников образ Сафо утвердился настолько глубоко, что в творчестве некоторых литераторов становится символом крайней степени душевного страдания в независимости от того, испытывает его мужчина или женщина.
Так, в стихотворении «На представление морской бури у Робертсона» неизвестный автор восклицал:
Сильнейшая из бурь была — в душе моей!
Огонь пылал в крови, грудь сильно колебалась,
И сердце вырваться хотело из нее;
Мысль нежной Сафо, Левкадом занималась!
Я с тайной завистью воображал ее
В тоске, в отчаяньи над грозною пучиной,
Где с мигом кончатся и верность, и любовь:
Откуда к горестям не возвратиться вновь!..
О незабвенный час!., я вместе был с Алиной.7
Или у некоего В. Расторгуева:
Как Сафо страдаю. Томлюсь на земле...8
Но не только любовное томление, переживаемое тем или иным автором, побуждает вспомнить о гречанке. В очерке П. И. Шаликова «К другу» (аналог — «К подруге» — при переводах 2-й оды Сафо) мы узнаем о душевном состоянии писателя: «Мрачная меланхолия, жестокие ее припадки — вот болезнь души и сердца моего».
Пребывая в одиночестве, до усталости зачитываясь Оссианом, автор неожиданно замечает: «Свеча моя догорает, мысли останавливаются, чувства истощаются, глаза тяжелеют, рука не пишет; благодетельный Морфей обещает мне совершенное исцеление... Страдалец, но покойный в совести, бросается подобно Сафе, бросающейся в Левкадскую пучину, с несомненною надеждою исцелиться кротким сном от жестоких горестей».9
Наконец, в начале XIX в. появляются стихотворные экспромты, в которых поэты лишь опираются на оду Сафо без каких-либо попыток авторского с ней сближения. В этой связи любопытна, например, сама форма публикации оригинала — в данном случае стихотворения Н. Столыпина (подпись: «Н. Ст-нъ») (1802), в которой упоминалась некая Лизета (II, 50).
Сафо в русской литературе 1850—1870-х гг
В послепушкинскую эпоху мы становимся свидетелями очевидной эрозии образа Сафо, профанации самого восприятия характера русской Сафо. Это происходит прежде всего на уровне поэтических полемик, инвектив, носивших подчас ярко выраженный личный мотив. Действительно, подобную реакцию можно понять: великая поэтесса становится объектом шаблонного стихоплетения, мифологема Сафо—Фаон — набившим оскомину трафаретом. «Бродячий» сюжет, к тому же основанный отнюдь не на легковесном содержании, теряет свою естественную привлекательность, сопереживание трагедии гречанки со стороны читателя утрачивается. Приведем, к примеру, стихотворение В. Н. Анненковой (1795—1866; по другим сведениям, 1870), издавшей свой первый поэтический сборник «Для избранных» в 1844 г. в 50-летнем возрасте, где помещено стихотворение «Сафо» (I, 23). В этой пьесе необузданная витиеватость и выспренность выражений, нагромождение неуместных античных образов и псевдореминисценций могут сравниться только с обилием восклицательных знаков:
Слух свой склоните! Пифия с вами! Мир мне треножником, небо шатром! Кто Аполлоном мне? Моря с зарями! Утро в сиянии, молния, гром! ...
С неба вседневно огонь Прометея В мир остывающий я провожу! Счастья оракулом слух наш лелея — Таинств природа вам словом служу! и т.д.
Поистине подобное стихотворение оправдывает название сборника поэтессы.
Словесный макияж, злоупотребления античными реалиями и мифологическими образами, свидетельствующие скорее лишь о степени образованности поэта (поэтессы), уже не могут воссоздать ту античную атмосферу, в которой жила и творила великая гречанка, а также в своей трагической первозданности передать придуманную древними «романтиками» трогательную легенду о любви, невостребованности чувств, наконец, смерти.
Однако, по всей видимости, ироническое отношение к «русским Сафо» травесгируется и расширяет свой ареал, что находит свое выражение прежде всего в прозе.
Так, М. Е. Салтыков-Щедрин в «Губернских очерках» (1856—1858) посвящает одну из глав княжне Анне Львовне, незамужней женщине бальзаковского возраста, томящейся неутолимыми желаниями. Сатирик пишет: «И княжна невольно опускает на грудь свою голову. „И как хорошо, как светел божий мир! — продолжает тот же голос. — Что за живительная сила разлита всюду, что за звуки, что за звуки носятся в воздухе!.. Отчего так вдруг бодро и свежо делается во всем организме, а со дна души незаметно встают все ее радости, все ее светлые, лучшие побуждения!" Очевидно, что такие сафические мысли могут осаждать голову только в крайних и не терпящих отлагательств „случаях"».157 Наконец удача! Томная княжна встречается с бедным чиновником.Техоцким. Складывается следующая коллизия: «Однако ж встречи с Техоцким не могли быть частыми. Оказалось, что для того, чтобы проникнуть в святилище веселия, называемое клубом, необходимо было вносить каждый раз полтинник, и это правило, неудобное для мелких чиновников вообще, было в особенности неудобно для Техоцкого, который был из мелких мельчайшим. Узнавши об этом, княжна рассердилась; по выражению Сафо, которая по всем вероятиям приходилась ее двоюродного сестрицей, она сделалась „зеленее травы"».158
Это выражение — точный перевод одного,из основных физиологизмов оды Сафо, и что для нас важно: это сравнение до Салтыкова буквально никогда не переводилось. Обычно изящное, полное непосредственности сравнение упрощалось и заменялось в различных модификациях у переводчиков словами «бледнеть», «бледнею» и пр. Так случилось, что писатель первым ввел подобный физиологизм, правда, в прозаический текст и с соответствующим ироническим оттенком.
Итак, Салтыков-Щедрин вносит новый штрих в образ «русской Сафо». Это уже не поэтесса и не окололитературная дама, и даже не содержательница литературного салона, стремящаяся к известности хотя бы на провинциальном уровне, это изнеженная, неудовлетворенная в своих страстях, светская перезревшая дама, живущая в глубинке России. Но штрих ли это только? Ведь сатира, как известно, — концентрированное выражение типического. По всей видимости, подобный тип томной дамы (столичной и провинциальной) проецировался не только в сознании сатирика; писатель отразил, пусть в гипертрофированном виде, бытовавшие в общественном сознании того времени159 представления о «русской Сафо» середины XIX в.
Если иметь в виду всю совокупность фактов, отраженных как в поэтических, так и в прозаических текстах, частично обследованных выше, зададимся вопросом: означает ли это, что феномен «Сафо в России» в послепушкинскую эпоху столь бесславным образом закончил свое существование? Нет! Скажем больше: этот феномен получил свое второе рождение, совпавшее с периодом, когда в отечественной литературе начали укрепляться реалистические тенденции, совпавшие со временем вхождения страны в полосу глубочайшего общественно-политического кризиса (конец 1840—начало 1860-х гг.).
Тему «Сафо в России» этих лет следует рассматривать шире — в контексте обострившегося интереса к античности в целом. Как известно, именно в это время наблюдается расцвет антологической поэзии (А. Н. Майков, А.А.Фет, Н. Ф. Щербина и др.), а также начинается подлинное научное изучение античной истории, литературы, искусства, философии.160
Переводческая деятельность, связанная, в частности, с античной поэзией, приобретает профессиональный характер. Интерес к древнему миру объединяет представителей различных политических ориентации, демократов и либералов, западников и славянофилов; тема античности входит в круг интересов разночинцев, обедневших дворян; древний мир неожиданным образом объединяет литераторов различного социального происхождения, ценза, наконец, материального достатка.
Как мы помним, фрондирующая дворянская молодежь начала XIX в. воскрешала в своих речах, поэтических декларациях образ тираноубийцы Брута, воспевала добродетельного Катона, клеймила тиранов Нерона и Калигулу. Однако в середине XIX в. подобные античные персонажи и связанные с ними политические аллюзии уже не позволяли в полной мере отразить отношение общественности к насущным проблемам, возникавшим в обществе. Чем же объяснить, что образованный человек, русская культура в пору расцвета натуральной школы, реалистического направления в целом обратились к античному миру, поэзии и пр.?
Именно в годы политических катаклизмов представители отечественной культуры и литературы, рядовой образованный человек черпали свой духовный оптимизм, опираясь в немалой степени на античные традиции. В таком оптимизме, например, в годы национального унижения (поражение в Крымской войне) нуждались как демократически настроенные слои, так и консервативные. Антологическая поэзия Майкова, Фета, Щербины высвечивала яркие стороны античного бытия, непосредственность ощущения древними природы. Гнетущая атмосфера, царившая в России в николаевское время, превратившая целые поколения в людей лишних, всеобщая унификация, строжайшая цензура, ограничения зарубежных путешествий подавляли духовные силы всех слоев общества.
Как известно, одной из составных идеологической триады являлось православие. Как это звучит не парадоксально, именно ортодоксальное православие побуждало многочисленных представителей образованной части общества искать альтернативу нравственным критериям того времени. И всегда сквозь тучи закосневших догм брезжил свет античности.
Падение
18 июня 1918 г. возлег. Алапаевска вместе с другими представителями рода Романовых в шахту был сброшен подававший большие надежды поэт князь Вл. Палей, последним произведением которого стала поэма «Сафо» (август-октябрь 1917 г.).50 Что заставило августейшего юношу-поэта в дни самых страшных потрясений обратиться к античному миру — не к эпическим героям «Илиады», «Энеиды», а к образу камерному, полумифическому? Быть может, желание уйти от жестокой реальности, погрузиться в иллюзорный мир невостребованных и нереализованных чувств. Дневниковые записи революционных месяцев говорят об обратном: они буквально испещрены сообщениями о событиях зимы 1917г.—лета 1918г.,хранят ту горечь и ощущение безысходности и осознание бессилия предотвратить неминуемую катастрофу, разрубить гордиев узел предательств, спастись от унижений со стороны революционной толпы. Какие же тектонические силы души подвигли поэта на создание самого большого поэтического произведения, посвященного великой гречанке, когда-либо написанного до него?
Быть может, чистый, тонкий и легкоранимый юноша интуитивно менее чем за год до своей мученической гибели уже предчувствовал и собственное недобровольное падение в бездну шахтенной пропасти? Ответить на этот вопрос нам не дано.
В течение почти 200 лет развития отечественной культуры феномен «Сафо в России» был неотъемлемой ее частью. Но есть какой-то трагический знак, заключающийся в том, что последнее произведение, посвященное Сафо, как бы венчает собою неизбежный уход в небытие самого феномена.
И есть еще один знак: в смутное время, переживаемое Россией, папиросы «Сафо» становятся лишь частью памяти русского творческого интеллигента, а им на смену приходят столь любезные народу «Беломор».
Георгий Иванов в мемуарном очерке «С балетным меценатом в Чека», находясь в эмиграции, вспоминал о «тайных папиросных и книжных лавках» голодного Петрограда, добавляя: «Все конспиративные, разумеется. Но конспирация и придавала вкус чахлым эклерам и дрянным папиросам — настоящей старой толстой папиросы „Сафо"».51
Приведем еще одно свидетельство уже из другого мемуарного источника. Княгиня С. А. Волконская (рожд. гр. Бобринская) в мемуарной книге «Горе побежденным» (изд. в Париже в 1920-е гг.), повествуя о пребывании своего мужа, светлейшего князя П. П. Волконского — переводчика при издательстве «Всемирная литература» — под арестом в качестве заложника в 1919 г. в Петропавловской крепости, приводит его стихотворение «В одиночке». Вот первая его строфа:
Над восьмеричным «и» нет места точке.
Десятеричное теперь ушло.
Курю «Сафо» я, сидя в одиночке.
И, — даже сею, — восхищен Сафо.52
Подобно тому как последний жадно выкуренный окурок папиросы «Сафо» был выброшен на обочину истории, в пепел и дым превратился в послереволю-цонное время и феномен «Сафо в России».