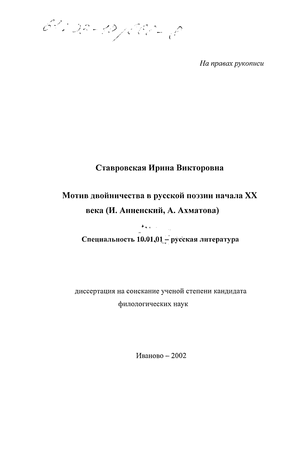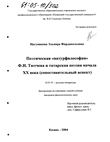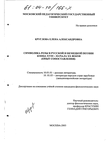Содержание к диссертации
Введение
Глава I Мотив двойничества в поэзии и. анненского: истоки, особенности, вариации
1 Постановка проблемы с. 24
2 Двоиничество как основа лирического сюжета с. 38
3 Мотив двойничества и проблема множественности миров с.48
4 К вопросу о «смысловой текучести» лирики анненского с.58
Глава II Двоиничество в художественном мире А. Ахматовой: лирическое «я», роли, эволюция мотива
1 Постановка проблемы с.70
2 Роли и маски в лирике Ахматовой с.77
3 Не-ролевые варианты двойничества с.106
Заключение с.129
Список использованной литературы с.137
- Постановка проблемы
- Двоиничество как основа лирического сюжета
- Постановка проблемы
- Роли и маски в лирике Ахматовой
Введение к работе
Исследование мотива двойничества в русской поэзии начала XX века представляется весьма перспективным. Подход к художественным системам И. Анненского и А. Ахматовой в этом аспекте позволяет не только углубить представление об особенностях их поэзии, но и, возможно, пролить свет на некоторые стороны поэзии Серебряного века в целом.
То, что поэтическое сознание начала XX века было
разорванным, цельность лирического «Я» для большинства поэтов
оказывалась желанной, но не достижимой целью, гармония человека
и мира в большинстве случаев была нарушена, - все это сегодня
является почти аксиомой. Нестабильность, зыбкость мироощущения
в поэзии начала XX века отмечается почти всеми специалистами. В
качестве предпосылок этого называются социальные1,
мировоззренческие и культурные особенности
Акцент на этом делало ортодоксальное советское литературоведение. См., например: Михайловский Б. В. Русская литература XX века ( с девяностых годов до 1917 года). М., 1939
Примером тому может служить книга Л. Долгополова об А. Блоке. В частности, определяя специфику эпохи, исследователь пишет: «Перекраивался исторический и социальный мир, в корне менялось и представление о движущих силах мира природы. Подвергалось сомнению понятие прерывности, изолированности, структурной самостоятельности и завершенности. Мир подвижен, «относителен», един, каузально обусловлен. Элементы, составляющие его, вслед за тем исторические периоды, сферы сознания, концепции жизни и творчества, идеологические и нравственные «показатели» личности пришли в сцепление, лишились исключительности, стали элементами единого природно-исторического потока жизни» Долгополов Л .К. Александр Блок. Л., 1978. СЮ
эпохи . Естественно, все это приводило к размыванию границ лирического «Я», к утрате четкой системы координат, определяющей рубежи «своего» и «чужого»2, Поэтому мотив двойничества, феномен несовпадения себя с самим собой оказывался
В последнее время стали более заметными попытки культурно-религиозного осмысления феномена эпохи. Стоит отметить работы А. Пайман (История русского символизма. М., 1998) или, может быть, еще более ярким в этом отношении выглядит исследование. А. Ханзена-Леве (Русский символизм. Система поэтических мотивов. СПб., 1999), где в оригинале ранний русский символизм назван дьяволизмом. Кроме того, нельзя не упомянуть в этом ряду работу Н. Богомолова Русская литература XX века и оккультизм. М., 1999.
2 Возможно, в этом одна из причин того, что постсимволистские направления столь активно вплетали элементы чужого слова в свой художественный мир. Особенно это характерно для акмеизма, что неоднократно отмечалось исследователями. См., например: Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов// Труды по знаковым системам. Вып. XIV (567). Тарту, 1981;
Жолковский А.К. Заметки о тексте, подтексте и цитации у Пастернака //
Boris Pasternak: Essays / Ed. by N.A.Nilsson. Stockholm, 1976. P. 67-84 Козицкая E.A. "Зеркала" поэзии Г.Иванова: к вопросу о внутренней диалогичное лирического текста // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе: Проблемы теоретической и исторической поэтики: Материалы Междунар. науч. конф. В 2 ч. Гродно, 1997. 4.2 Топоров В.Н., Цивьян Т.В. О нервалинском подтексте в русском акмеизме (Ахматова и Мандельштам) // Russian literature. 1984. Vol.XV-1. Топоров В.Н., Цивьян Т.В. О нервалинском подтексте в русском акмеизме (Ахматова и Мандельштам) // Russian literature. 1984. Vol.XV-1. Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. Amsterdam, 1974. № 7/8. С. 47-82.
принципиально важным в поэзии тех лет. Особо хочется отметить, что реализация этого мотива была гораздо сложнее и интереснее, чем просто появление образа двойника. Речь идет не о том, употреблялось ли слово «двойник» в тексте стихотворения, речь идет и именно о глубинных основаниях художественного мира, организующих всю поэтическую систему. Недооценка этого, на наш взгляд, приводила исследователей к спорным, а порой и неточным интерпретациям (особенно это касается художественного мира И. Анненского).
Традиционно мотив двойничества в культуре Серебряного века связывался специалистами лишь с идеей неоромантизма и фактически прочитывался как вариация на тему романтического двоемирия. «Символизм, с его представлениями о неистинности земного бытия и идеальных «мирах иных», на которые реальные явления могут только намекать, с его стремлением в надзвездные пространства <...> во многих мотивах поэтического творчества обнаруживает связь с романтической концепцией» , - пишет В. Ванслов. На этом делается акцент и в монографии Н. В. Тишуниной «Западноевропейский символизм и русская литература последней трети XIX - начала XX века (Драма, поэзия, проза) . Автор полагает, что сама тема двойничества «берет свое начало в творчестве романтиков», что «именно в романтизме в качестве основополагающего принципа утверждается принцип двоемирия». Два плана реальности сосуществуют параллельно друг с
1 Ванслов В. Эстетика романтизма. М., 1966. С. 384
2 Тишунина Н. В. «Западноевропейский символизм и русская литература последней
трети XIX - начала XX века (Драма, поэзия, проза) СПб., 1994.
другом. Мир объективных я явлений, происходящих во внешней, всем видимой и всеми понимаемой жизни, и глубинный, скрытый невидимый мир духовного внутреннего бытия человека».1 Теми же чертами автор наделяет и сознание рубежа XIX - XX веков: «Если жизнь реальная уродлива, то жизнь идеальная должна быть прекрасной, то есть построенной на совершенно других законах, нежели законы повседневного существования - это осознает человек, живущий на рубеже XIX - XX веков. Он как бы «балансирует» на грани двух способов жизни - реального и идеального... Раздвоенная жизнь предопределила раздвоение сознания личности»2. Такое прочтение само по себе возражений не вызывает, однако едва ли оно полностью адекватно поэзии начала XX века. В том-то и сложность, что художественное сознание этой эпохи вступает в диалог не только с европейским романтизмом, но и с другими мировоззренческими и художественными системами. Грандиозные интеллектуальные потрясения рубежа веков приводят к тому, что поэзия этого времени открыта как отдаленному прошлому, так и еще не наступившему «будущему» — сознанию середины XX века.
Нам кажется, что изучение мотива двойничества позволит показать органичную связь культуры Серебряного века, с одной стороны, с культурными системами прошлого, в частности, с мироощущением европейского барокко (несмотря на работу И. П. Смирнова и ряд других частных исследований , эта проблема
2 Тишунина Н. В. Указ соч. С. 109
3 Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977;
Богомолова Н. А. Лирическое «Я» в польской барочной и символистской поэзии//
Человек в контексте культуры. М., 1995 и др.
Тишунина Н. В. Указ соч. С. 100
еще малоизучена), а с другой - мы увидим, что здесь намечаются векторы дальнейшего развития поэзии. В этом смысле показательна эволюция поэтического мира А. Ахматовой.
В качестве предмета исследования мы не случайно выбрали поэзию И. Анненского и А. Ахматовой. Нам представляется, что в творчестве этих авторов видны новые грани темы двойничества, возможно, не столь заметные ни в стихах старших символистов, ни у младосимволистов (особо следует говорить об А. Блоке, но его двоиничество не раз становилось предметом специальных исследований). Дело в том, что «преодоление» символизма, столь характерное для поэзии 1910-х годов было, кроме всего прочего, и стремлением гармонизировать разорванное лирическое «Я». Одним из гарантов гармонизации «Я» становилась, как известно, мировая культура, что особенно характерно для русского акмеизма. Однако это приводило к тому, что сами образы мировой культуры, наложенные на символистское мироощущение, порождали особое решение темы двойничества, практически не известное ни романтизму, ни символизму рубежа веков: лирическое «Я» начинало «узнавать себя» и «двоиться» в образах культуры. Именно на этой проблематике и будет сделан акцент в нашей работе.
Кроме того, развитие литературы показывает, что были возможны и иные, не связанные с прямым посредничеством культуры, попытки гармонизации «Я». Это приводило к совершенно иным текстам и к иному решению темы двойничества, примером тому могут служить стихи раннего В. Маяковского. Хотя его творчество и не является предметом нашего исследования, нам представляется небезынтересным коснуться некоторых особенностей поэзии Маяковского в аспекте интересующей нас темы.
Следует отметить, что проблема двойничества шире романтической и неоромантической проблематики. В научной литературе существует несколько традиций изучения этой проблемы. Во-первых, есть целый ряд серьезных исследований, посвященных историческому становлению двойничества. Прежде всего это классические работы Л. А. Абрамяна: «Особенности отражения дуальной организации в праздничной мифологии», «Человек и его двойник: в вопросу об истоках близнечного культа», «Об идее двойничества по некоторым этнографическим данным»1. Привлекая большой фактографический материал, автор доказывает очень раннюю и повсеместную укорененность образа двойника в самых разных культурах, здесь же предпринята попытка типологизировать различные модели отношений «Я» и «двойника»: «Можно представить себе следующую картину развития явления «человек и его двойник».
Человек и его двойник-отражение существуют раздельно друг от друга. Двойник это «другой», «чужой», наделяемый вредоносными чертами. Такая взаимосвязь пары отражается в ряде близнечных культов и мифов, в которых братья во всем зеркально противопоставлены.
Человек и его двойник совмещаются. Двойник в зеркале способствует утверждению «другого» в образе самого себя. В мифологии этому состоянию соответствует противоречивый образ
Абрамян Л. А. Особенности отражения дуальной организации в праздничной мифологии. М. 1978; Человек и его двойник: в вопросу об истоках близнечного культа//Некоторые вопросы изучения этнических аспектов культуры. М., 1977. С.60-77; Об идее двойничества по некоторым этнографическим данным// Историко-филологический журнал. 1977. №2
трикстера, в психологии - абсолютно недифференцированное сознание на заре человеческой истории.
Двойник глубоко запрятан в «я». «Я» и «другое я» почти слиты, и только в критические моменты возможно восстановление первоначальной разделенности. Двойник приобретает некоторые положительные черты, что находит свое отражение в близнечных мифах, расценивающих обоих братьев как положительных.»1
К этой типологии можно относиться по-разному, в частности, спорной кажется мысль об изначальной враждебности образа двойника , но нельзя не признать, что на сегодняшний день это едва ли не единственная попытка осмыслить становление образа двойника в человеческой культуре. Однако не стоит и абсолютизировать эту типологию, в частности, утверждение о том, что «развитие мотива двойничества в литературе соответствует мифо-культурной схеме, предложенной Л. А. Абрамяном» , представляется, мягко говоря, спорным.
Другие исследования, касающиеся проблемы двойничества, носят, как правило, более частный характер и посвящены либо анализу феномена двойничества на определенной стадии развития человеческого интеллекта, либо двойничество рассматривается в конкретной культуре конкретной эпохи. К первому ряду можно отнести прежде всего работы мифологов. Так, Дж. Фрезер в главе
Абрамян Л. А. Особенности отражения дуальной организации в праздничной мифологии. М. 1978. С. 167
2 Это плохо согласуется с рядом других специальных исследований по данной
проблематике. В частности, с докторской диссертацией А. О. Большакова Человек и
его двойник в египетском мировоззрении Старого царства. (СПб., 1997)
3 Божович М. В. Мотив двойничества в творчестве Жерара де Нерваля. Дисс. ... канд.
филол. наук. М., 1996. С.9
«Опасности, угрожающие душе» своей знаменитой «Золотой ветви» констатирует, что мотив двойничества реализовывался в разных культурах по-разному, создавая, говоря современным языком, пересекающиеся, но не совпадающие полностью культурные коды (тень, зеркало, вода и т.д.)1
Классическая работа О. М. Фрейденберг, один из разделов которой посвящен мотиву двойничества и его реализации в мифах и сюжетах древнегреческой культуры, убедительно показывает не только архаичность этого мотива, но и сложность реализации этой мифологемы в литературе.
Особое место в этом ряду занимают исследования К.-Г. Юнга. Автор не ставит проблему двойничества как таковую, однако юнгеанские архетипы, особенно парные, (Анима и Анимус и другие) отчасти проливают свет на происхождение и устойчивость образа двойника в человеческой психике. Кроме того, вычленение опорных структурирующих личность понятий (мана-личность, самость) помогает осознать амбивалентность двойнических отношений, стремление человека одновременно избавиться от двойника и слиться с ним. Правда, следует признать, как это было отмечено Е. М. Мелетинским, что юнгеанские архетипы - это почти всегда образы, а не мотивы: «Сразу бросается в глаза, что юнговские архетипы, во-первых, представляют собой преимущественно образы, персонажи, в лучшем случае роли и в гораздо меньшей степени сюжеты. Во-вторых, что особенно существенно, все эти архетипы
Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1986. С. 186
2 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997
3 См., например: Юнг К.-Г. Психология бессознательного. М., 1994; Юнг К.-Г. Ответ
Иову. М., 1995
выражают главным образом ступени того, что Юнг называет процессом индивидуации»1. Поэтому проследить динамику мотива двойничества, используя юнгеанскую методологию, практически невозможно.
Сам Е. М. Мелетинский связывал образ двойника в культуре с близнечными мифами и архетипами культурного героя и трикстера: «Заметим, что альтернатива между вариантами (трикстер - брат и трикстер - второе лицо культурного героя) весьма не случайна. Здесь использован близнечный миф, а связь и сходство близнецов ведут к их известному отождествлению (отсюда всякие qui pro quo с близнецами). Поэтому в этом комплексе заключены и далекие корни мотива двойников и двойничества, получившие глубокую разработку только в XIX - XX веках, начиная с романтиков.»
Многое из наработанного мифологами нашло свое отражение в соответствующих статьях энциклопедии «Мифы народов мира» и словаря «Славянская мифология»
В то же время следует признать, что открытия, сделанные мифологами, хотя и представляют огромный интерес, но для нашей темы могут быть использованы в основном в качестве общетеоретического фундамента и лишь отчасти - в качестве рабочей методологии. Двойничество в поэзии начала XX века имело очень специфический характер и было связано в основном с мироощущением гораздо более поздних эпох, нежели архаика. В
1 Мелетинский Е. М.О литературных архетипах. М., 1994. С. 6
2 Мелетинский Е. М.О литературных архетипах. М., 1994. С.39
3 См.: Славянская мифология. М., 1995. С51, 154/ статьи «Близнецы»и «Двоедушник»;
Мифы народов мира: В 2т. Т.1. М., 1991. С.175-176/статья «Близнечные мифы»
связи с этим представляют интерес работы, посвященные проблеме двойничества в романтизме. Строго говоря, литературное двойничество в современном значении этого термина с романтизма и начинается. Из большого числа исследований по данной проблеме мы, кроме манифестов самих «романтиков» , отметим лишь некоторые, методологически наиболее близкие нам. Это прежде всего классические работы Н. Берковского2 и Ю. Манна,3 посвященные эстетике романтизма в целом. Кроме того, особый интерес для нас представляют исследования, непосредственно связанные с проблемами двоемирия и двойничества.
Так, в монографии Н. Тишуниной «Западноевропейский символизм и русская литература последней трети XIX - начала XX века (Драма, поэзия, проза)» рассматривается эволюция мотива двойничества в русской и европейской литературах.4
Работы В. И. Грешных привлекли нас подробным исследованием параллельных миров в романтизме, в частности в прозе Э. Т. А. Гофмана5. Феномен двойничества не раз становился также предметом исследования в кандидатских диссертациях, однако не существует диссертационных исследований, посвященных проблеме двойничества в русской поэзии начала XX века. Большая часть работ связана с эстетикой романтизма. Так, в диссертации А. В. Козловой
См., например: Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980
2 Берковский Н. Романтизм в Германии М., 2001
3 Манн Ю. Русская литература XIX века: эпоха романтизма. М., 2001; Манн Ю.В.
Динамика русского романтизма. М.,1995
4 Тишунина Н. В. Указ. соч.
5 Грешных В. И. В мире немецкого романтизма. Ф.Шлегель, Э. Т. А. Гофман, Г.Гейне.
Калининград, 1995; Грешных В. И. Ранний немецкий романтизм. Фрагментарный
стиль мышления. Л., 1991
показываются различные варианты реализации мотива двойника в русской романтической прозе1
Разумеется, мотив двойничества не обойден вниманием и специалистов по зарубежной литературе. Так, можно отметить работу М. В. Божович «Мотив двойничества в творчестве Жерара де Нерваля» В работах Л. Романчук, в том числе и в кандидатской диссертации, посвященной творчеству Годвина,3 акцент сделан на генезисе образа двойника. Интересно замечание автора о том, что «в романтической литературе начала XIX в. происходят изменения привычных архетипов: прежде всего, из мотива противостояния "культурного героя" и "антигероя" исчезает внешняя конкретика, антигерой перемещается во внутреннюю самость культурного героя, становясь метафорой его темной стороны; соответственным образом мотив инициации преобразуется в мотив само- и антиинициации (потерю себя, утраты общности с социумом), отчего традиционное противостояние культурного героя и его негатива или оборачивается гибелью героя (так, например, Хома Брут в повести Гоголя "Вий" погибает от взгляда всесильного демонического существа Вия, не выдержав испытания, т.е. не пройдя инициацию из-за отсутствия эпических качеств) или же перерастает в богоборчество.»
1 Козлова А. В. Феномен двойничества и формы его выражения в русской прозе 1820
- 1830-х годов. Дисс. ... канд. филол. нак. М, 1999
2 Божович М. В. Мотив двойничества в творчестве Жерара де Нерваля. Дисс. ... канд.
филол. наук. М., 1996
3 Романчук Л. Творчество Годвина в контексте романтического демонизма//
4 Романчук Л. Генезис «демонического» героя в романтизме//
Помимо этого, представляют интерес коллективные сборники, посвященные эстетике романтизма, в том числе и проблеме двойничества1.
Коме того, существует ряд работ, посвященных частным аспектам проблемы двойничества в культуре XX века. Заслуживают в этой связи внимания статьи Д. Е. Максимова, С.С. Аверинцева, Т. К. Савченко, В. В. Малащенко, С. Н. Тяпкова и др.2
Эти исследования позволяют более глубоко и объемно представить генезис мотива двойничества в русской поэзии начала XX века. С той же целью мы обращались и к работам, посвященным особенностям мировоззрения человека в эпоху барокко. Прежде всего это классическое исследование А. В. Михайлова3, на некоторые положения которого мы будем опираться при анализе лирики И. Анненского. Помимо этого, заслуживает упоминания работа
1 См., например: Романтизм в литературном движении. Тверь, 1997, Из истории русского романтизма. Кемерово, 1971
2Максимов Д.Е. Об одном стихотворении (Двойник)//Максимов Д.Е. Поэзия и проза А.Блока. Л., 1981; Аверинцев С.С. Специфика лирической героини в поэзии Анны Ахматовой: солидарность и двойничество// Wien slawistisches jahrbuch/ Wien, 1995. Bd. 41/1995 Тяпков С. H. Творчество К.Бальмонта в свете принципа дополнительности Нильса Бока (К постановке вопроса)// К. Бальмонт, М.Цветаева и художественные искания XX века. Иваново, 1999
Савченко Т.К. Тема двойничества в поэзии А.Блока («Страшный мир») и Есенина («Черный человек»)// Проблемы эволюции русской литературы XX века. 1995. Вып.2; Малащенко В.В. Тема двойничества в повести Г.Гессе «Демиан» // Художественное мышление в литературе XVIII - XX веков Калининград, 1996
3Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи// Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994; Михайлов А.В. Время и безвременье в поэзии немецкого барокко// Рембрандт. Художественная культура западной Европы XVII века. М., 1970 г.
И. П. Смирнова «Художественный смысл и эволюция поэтических систем», где, в частности, анализируется традиция барокко в эстетике футуризма \ Также представляет интерес статья Н. Богомоловой, в которой напрямую прослеживает связи между эстетикой барокко и эстетикой символизма2; хотя автор исследует польскую культуру, общетеоретические положения этой статьи представляют интерес для нашего исследования.
Таким образом, мы видим, что проблеме двойничества в науке уделялось достаточно большое внимание, при этом важность феномена двойничества для понимания эстетики Серебряного века признается почти всеми, однако, как это ни странно, специального исследования на эту тему до сих пор нет. Это и объясняет актуальность выбранной нами темы.
Анализ мотива двойничества предполагает использование различных литературоведческих подходов к художественному тексту. Современное литературоведение предоставляет в распоряжение исследователя огромное число различных, порой дополняющих друг друга, порой взаимоисключающих, методологий, поэтому принципиально важно обозначить тот круг опорных концепций, которые для нас являются приоритетными, дабы избежать ненужных компиляций.
Автор является сторонником «классических», проверенных временем методологий, уже многие годы определяющих модус прочтения текста.
Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М, 1977 2 Богомолова Н. А. Лирическое «Я» в польской барочной и символистской поэзии// Человек в контексте культуры. М., 1995 и др.
Прежде всего это исследования М. М. Бахтина, касающиеся динамики отношений автора, героя и адресата1. Кроме того, в нашем исследовании использованы некоторые идеи Ю.М. Лотмана. Это прежде всего идея различных векторов семантического сдвига в символизме, акмеизме и футуризме и - отчасти - концепция семиосферы.3
Во-вторых, это работы, связанные с особенностями лирики как
рода литературы. Здесь стоит отметить исследования
Ю. Н. Тынянова4, В. М. Жирмунского5, Л. Я. Гинзбург6,
Л. И. Тимофеева. , труды Б.О. Кормана и его школы , Г. Н. Поспелова9 и др.
Из общих исследований, касающихся проблем поэтики Серебряного века, наиболее близки нам те, которые стремятся к объемному представлению о функционировании художественного текста, учитывающему социокультурные, внутрилитературные, религиозные и иные факторы. В этом ряду можно отметить работы Д.Е. Максимова10 и исследователей, развивающих его традиции.11
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986
2 Лотман Ю. М. Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы
структурного изучения текста// Семиотика. Труды по знаковым системам. Тарту. Т. 4.
169
3 Лотман Ю.М. Семиосфера // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1999
4 Тынянов Ю. Н, Проблема стихотворного я зыка. М., 1965
5 Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975; Жирмунский В. М. Теория литературы.
Поэтика. Стилистика. Л., 1977
6 Гинзбург Л. Я. О лирике. М.,1997
7 Тимофеев Л.И. Слово о стихе. М., 1982
8 Корман Б. О. Лирика Н.А. Некрасова. Воронеж, 1964; Корман Б.О. Избранные труды
по теории и истории литературы. Ижевск, 1992; Власенко Т.Л. Литература как форма
авторского сознания. М., 1995
9 Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. М.,1976
10 Максимов Д.Е. Русские поэты начала века: Очерки. Л., 1986; Максимов Д.Е. Поэзия
и проза А.Блока. Л., 1981
11 Куприяновский П.В. Сквозь время. Ярославль, 1972
Большой научный интерес представляют также работы Е.В. Ермиловой, И.П. Смирнова, М.Л. Гаспарова, В.Ф. Маркова, С.С. Аверинцева, В.В.Мусатова, И.А. Есаулова, Л.П. Быкова, Н.О. Осиповой, О.А. Лекманова, С.Н. Тяпкова, Н.А. Кожевниковой, И.С. Приходько, Н.В. Дзуцевой и др.1
Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма М., 1989; Смирнов И.П. Авангард и символизм (элементы постсимволизма в символизме)// Russian literature. 1988. XXII. 2, Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977; Гаспаров М.Л. Поэтика серебряного века// Русская поэзия серебряного века 1890 - 1917: Антология. М., 1993; Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб., 2000; Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама//Мандельштам О.Э. Соч. : В2т. Т.1М., 1990; Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. В. 2т. М.,1992; Мусатов В. В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000; Есаулов И.А. Генеалогия авангарда// Вопросы литературы. 1992 Вып.З; Быков Л.П. Русская поэзия 1900-1930-х. Годов. Проблема творческого поведения. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. Екатеринбург, 1995; Осипова Н. О. Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. Киров, 2000;
Лекманов О.А. Книга об акмеизме. М., 1998, Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000; Тяпков С.Н. Русские футуристы и акмеисты в литературных пародиях современников. Иваново, 1984; Приходько И.С. Александр.Блок и русский символизм: Мифопоэтический аспект. Владимир, 1999; Приходько И.С. Розы, вербы и ячменный колос А.Блока // Литературный текст: проблемы и методы исследования: Сб. науч. тр. Тверь, 1998. Вып. IV. Дзуцева Н.В. Время заветов. Иваново, 2000
В последнее время усилился интерес к работам западных славистов, посвященным культуре начала XX века. Интересной нам показалась работа А.Пайман, содержащая огромный фактический материал и глубоко представляющая эпоху1. Работа А. Ханзена-Леве2 ценна прежде всего тематическим структурированием и систематизацией огромного пласта текстов. Сам по себе анализ зачастую представляется спорным, однако репрезентативный материал и комментарии являются настоящим кладом для специалистов. Из других имен хотелось бы отметить имя X. Барана, чьи исследования подкупают тщательным вниманием к поэтическому слову и научной щепетильностью.3
Все эти исследования составили методологическую и теоретическую основу нашей диссертации.
Подводя итог обзору исследований общего характера, необходимо сделать существенную оговорку. В последние десятилетия проявилась тенденция рассматривать феномены культуры в бинарных категориях. Существует большое число концепций, касающихся «дуальности» культуры4, ассиметрии и ее культурных проекций5, зеркальности (как в психологическом, так и в
Пайман А. Указ. соч.
2 Ханзен-Леве А. Указ. соч.
3 Баран X. Поэтика русской литературы XX века. М., 1993
4 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской
культуры// Труды по русской и славянской филологии. XVII. Тарту, 1977
5 Иванов В.В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. — М, 1978. Деглин
Л.В., Балонов Л.Я., Долинина И.Б. Язык и функциональная асимметрия мозга // Учен,
зап. Тартуского ун-та, 1983. — Вып. 635. Лотман Ю.М. Асимметрия и диалог // Там
же.
социокультурном смысле)1, феномена «Другого» (в онтологическом смысле) . Разумеется, все это так или иначе имеет отношение к проблеме двойничества. Однако эти методологии, при всех их плюсах, таят в себе опасность подменить литературоведческий анализ культурологическими или психологическими штудиями. Поэтому они нами учтены , но методологической базой нашего исследования не стали.
Разумеется, исследование поэзии И. Анненского и А. Ахматовой обязало нас изучить специальную литературу, посвященную творчеству этих поэтов. На сегодняшний день существует огромное число статей и монографий, посвященных творчеству этих художников. Подробный анализ вряд ли возможен, очевидно, и не нужен. Мотив двойничества, постоянно «всплывал» в научной литературе, однако очень редко он становился предметом специальных, пусть и частных исследований. В этом ряду стоит
1 Вулис А. Литературные зеркала. М., 1991
Левин Ю. В. зеркало как потенциальный семиотический объект// Труды по знаковым системам. Тарту, 1988;Золян С. Т. «Свет мой зеркальце, скажи...» (к семиотике волшебного зеркала)// Труды по знаковым системам. Тарту, 1988; Антонов В.Ю. Зеркало: онтология HeBHflHMoro//<> и др.
2 Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М., 1995, Делёз Ж. Складчатость или
внутренние мысли (субъективация) // От Я к Другому: Сборник переводов по проблемам интерсубъективности, коммуникации, диалога. Минск, 1997. Делёз 1999: Делёз Ж. Мишель Турнье, или Мир без Другого // Турнье М. Пятница. М.,
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Левинас Э. Диахрония и репрезентация // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX в. Томск, 1998. Левинас Э. Гуманизм другого человека // Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1999.
особо выделить статьи С. Аверинцева , Н. Нелегач , Т. Цивьян , О. Седаковой и др. Кроме того, тема двойничества затрагивалась в монографиях А. В. Федорова об Анненском и В. Я. Виленкина об Ахматовой и др. Существует также громадное число исследований, где тема двойничества затрагивается как бы «по касательной» при анализе других сторон художественного мира поэта. В необходимых случаях удачные находки авторов будут использованы нами непосредственно при анализе художественных систем, сейчас же важнее отметить тот факт, что целостного анализа мотива двойничества применительно к поэзии А. Ахматовой и И. Анненского не проводилось. Этим определятся научная новизна предлагаемого исследования. Не имея возможности подробно прокомментировать даже наиболее интересные исследования, посвященные как поэзии А. Ахматовой и И. Анненского, так и сопоставлению их поэтических систем, автор вынужден ограничиться перечислением лишь тех статей и монографий, которые
1 Аверинцев С.С. Специфика лирической героини в поэзии Анны Ахматовой:
солидарность и двойничество// Wien slawistisches jahrbuch/ Wien. Bd. 41/1995
2 Нелегач H. В. Мотив двойничества в творчестве И. Анненского// Современные
проблемы гуманитарных дисциплин. Кемерово, 1996. Вып.2
3 Цивьян Т.В. Касандра, Динона, Федра: античные героини - зеркала Ахматовой//
Литературное обозрение. 1989. №5. С. 29
4 Седакова О. А. Шкатулка с Зеркалом. Об одном глубинном мотиве
А. А. Ахматовой// Труды по знаковым системам. XIV. Вып. 14. Тарту, 1984.
оказались наиболее важными для данной работы .
' Аверинцев С.С. Специфика лирической героини в поэзии Анны Ахматовой: солидарность и двойничество// Wien slawistisches jahrbuch/ Wien, 1995. Bd. 41/1995; Аникин A. E. Ахматова и Анненский: Заметки к теме. Новосибирск, 1988; Беренштейн Е.П. Символизм Иннокентия Анненского: проблемы художественного метода. Тверь, 1992; Гаспаров М.Л. Стих Ахматовой: четыре его этапа// Литературное обозрение. 1989. №5; Гурвич И. Любовная лирика Ахматовой (целостность и эволюция)// Вопросы литературы. 1997. № 5; Виноградов В. В.О поэзии Анны Ахматовой. (Стилистические наброски)// Виноградов Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976; Виленкин В.Я. В сто первом зеркале. М., 1990; Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973; Иннокентий Анненский и русская культура XX века. СПб., 1996; Колобаева Л. А. Феномен Анненского//Русская словесность. 1996. №2.; Магомедова Д. М. Анненский и Ахматова (к проблеме романизации лирики)// Царственное слово. М., 1992; Мусатов В.В. К истории одного спора. (Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский)// Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1991;
Николаев А. И. Расширенное настоящее в поэзии Анны Ахматовой.// Филологические штудии. Иваново, 1998; Сальма Н. Анна Ахматова и Иннокентий Анненский ( к вопросу о смене моделей мира на рубеже веков)// Царственное слово. М., 1992 ; Сальма Н. Анна Ахматова и Иннокентий Анненский ( к вопросу о смене моделей мира на рубеже веков)// Царственное слово. М., 1992; Федоров. А.В. И.Анненский: личность и творчество. М., 1984; Эйхебаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа// Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969 и др.
Автор надеется, что, опираясь на эти труды, равно как и на работы по проблеме двойничества и на статьи и монографии общетеоретического характера, он сумеет достичь основной цели своего исследования.
Основная цель исследования состоит в том, чтобы на примере поэтических систем И. Анненского и А. Ахматовой показать сложность и неодномерность решения проблемы двойничества в русской поэзии начала XX века. Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
Показать, что проблемы двойничества имела значительно более сложный генезис, чем только неоромантическое двоемирие;
Доказать, что проблема множественности миров и связанная с ней проблема двойничества вовсе не была лишь фрагментом эволюции художественного мира И. Анненского, а структурировала всю его эстетическую систему.
— показать сложность и неоднозначность образов культуры как своеобразных посредников между разными ликами «Я» в мире Ахматовой.
Структура работы. Диссертация состоит из «Введения», двух основных глав и «Заключения». Глава 1 «Мотив двойничества в поэзии И.Анненского: истоки, особенности, вариации» Глава 2
«Двойничество в художественном мире Ахматовой: лирическое «Я», роли, эволюция мотива»
«Заключение» содержит размышления о том, что мотив двойничества в культуре начала XX века представляет собой своеобразную «тему с вариациями». Особо рассматривается феномен двойничества Маяковского как совершенно оригинальная вариация на заданную тему
Постановка проблемы
И. Ф. Анненский до сих пор остается поэтом-загадкой. Хотя целое столетие отделяет нас от эпохи Серебряного века, его фигура так и остается неразгаданной. Как правило, в науке со временем количество накопленных сведений переходит в качество. Иными словами, чем больше мы знаем о том или ином авторе и его творчестве, тем ближе и понятней он нам становится. И. Анненский - исключение из этого правила. Несмотря на то, что уже написана его биография, существует значительный корпус исследований о его поэзии, он словно бы ускользает от понимания. Поэтому любое исследование его творчества - не столько добавление к уже сложившемуся образу поэта, сколько попытка построить этот образ заново.
«Творческая судьба Анненского сложилась парадоксально. И это наложило свою печать на его поэтическую систему, очень целостную и самобытную, но возникшую из противоречивых и сложных напластований»1 Парадокс судьбы Анненского заключается, в частности, в том, что он не был понят и оценен современниками, после смерти же пришло признание такого рода, что в творчестве И. Ф. Анненского были замечены истоки чуть ли не всего дальнейшего развития русской поэзии. Наиболее авторитетным в этом плане считается мнение А. Ахматовой, говорившей о влиянии его поэзии на ее собственное поэтическое творчество { Но еще большее влияние она отмечает в творчестве других поэтов: «Меж тем как Бальмонт или Брюсов сами завершили ими же начатое..., дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И если бы он так рано не умер, мог бы увидеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное «Деду Лиду ладили...» у Хлебникова, своего раешника («Шарики») у Маяковского и т.д. Я не хочу сказать этим, что все подражали ему. Но он шел одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, что все новаторы оказывались ему сродни...»2
Но это было уже после смерти, при жизни же Анненского не принимали, не понимали. В рецензиях на первую книгу поэта «Тихие песни» было много желчи и мало сочувствия. Стихи были восприняты как опыты гимназиста-стихоплета (И. Анненскому в то время было 49 лет). В одной из рецензий в журнале «Русский вестник», подписанной «М. М-овъ», утверждалось, что автор близок к помешательству...3 Рецензия В. Брюсова была более «благосклонной», но все же он увидел в стихах ученичество, становление, а не зрелое творчество поэта, склонен был считать «Тихие песни» «еще не поэзией, но уже предчувствием поэзии»
Практически во всех отзывах современников о личности или деятельности И. Анненского: педагогической ли, критической, поэтической или филологической - сквозит какая-то ограниченность восприятия, поверхностность. Ярчайшее свидетельство тому -статьи-некрологи в журнале «Аполлон», где он был «раздерган» на отдельные куски несколькими статьями разных авторов. Некрологи объединяло лишь то, что они были написаны по одному поводу - в связи со смертью И. Ф. Анненского, и лишь имя позволяет обнаружить это единство: «И. Ф. Анненский как филолог-классик» Ф. Зелинского , «Траурный эстетизм. И. Ф. Анненский-критик» Г. Чулкова , статья Вяч. Иванова об Анненском-поэте - создается впечатление, что написаны они о разных людях.
Можно отметить одну деталь в связи с оценкой Анненского современниками, любопытную в свете нашей темы: несмотря на всю неоднозначность восприятие поэта, в «репликах» современниках настойчиво звучит мысли о нескольких «ликах» поэта. Фигура поэта виделась столь двойственной, что нет единства даже в оценке его внешности. Одним он казался почти стариком в свои 50 лет4, другим - человеком среднего возраста, которого никак нельзя считать старым.5 С. Маковский увидел в Анненском и юность, и старость одновременно. Он пишет, что физически поэт «казался гораздо дряхлее своих 53 лет», и все же «как обворожительно молод был он, молод умственной неутомимостью, жаждой впечатлений, отзывчивостью к младшему поколению» А. Гизетти пишет уже после смерти Анненского о «множественности ликов-личин [поэта -И.С.], резко противоречащих друг другу»
М. Волошин так объясняет феномен И. Анненского: «И. Ф. был звездой с переменным светом. Ее лучи достигали неожиданно, снопами разных цветов, то разгораясь, то совсем погасая, путая наблюдателя, который не отдавал себе отчета в том, что они идут от одного и того же источника. И надо отдать справедливость, что у Иннокентия Федоровича были данные для того, чтобы сбить с толку и окончательно запутать каждого, кто не знал его лично. ... Но можно ли было догадаться, что этот окружной инспектор и директор гимназии, этот поэт-модернист, этот критик, заинтересованный ритмами Бальмонта, этот знаток французской литературы..., этот переводчик Еврипида - все одно и то же лицо? Для меня здесь было около десятка различных лиц, друг с другом не схожих ни своими интересами, ни характером деятельность, ни общественным положением...»
Возможно, конечно, такое восприятие личности Анненского и сложность лирического «Я» его поэзии - простое совпадение. Однако думается, что биография художника больше, чем просто биография, это скорее еще один из подтекстов его творчества. Поэтому множественность «ликов» - деталь значимая.
Нас, впрочем, интересует прежде всего поэзия И. Анненского и тот факт, что именно его стихи оказались столь прохладно встреченными поэтам и критиками символизма. «Неуловимость» и многоликость этой фигуры - лишь одна из причин, причем едва ли важнейшая. Эстетике символизма это должно было бы даже импонировать. Речь, таким образом, идет о другом: ясно, что многие исходные установки, на которых строился художественный мир русского символизма, в поэзии Анненского были подвергнуты сомнению.
Однако, несмотря на посмертное признание и неприятие при жизни, закономерно все-таки рассматривать творчество И. Анненского в рамках культуры и эстетики символизма. Было бы неправомерно совсем исключить И. Анненского - и жизненно, и творчески - из парадигмы символистской культуры. Он был, возможно, глубже чувствующим, многое предвидевшим, но все же сыном своей эпохи, и вместе с ней переживал все «сдвиги», замкнувшись в себе, будучи «солнцем которому больно»2 (как заметит 3. Г. Минц, И. Анненский «и организационно, и по субъективному мироощущению, и в восприятии современников связан с символизмом» )
Двоиничество как основа лирического сюжета
Художественный мир Анненского сложно определить однозначно. С одной стороны он тесно связан с эстетикой символизма, с другой - «перерастает» символистский канон. В художественном мире Анненского все сложнее, нежели в «классическом» символизме. Это касается в том числе и образа двойника. Уже первое стихотворение о двойнике не «вписывается» в символистский канон. Речь идет о стихотворении «Двойник .
Классическое прочтение «Двойника» - в духе неоплатоновского, символистского двоемирия: «Один - это только набор масок, которые натягивает на себя человек... Другой - то «Я», на которое эта маска натягивается днем. Первое «Я» - маска, это скованное существование повседневности, но оно не только скованное, но еще и сковывающее, так как замыкает в себе «свободное «Я», вырывающееся только ночью и стремящееся слиться с миром идеальным...»1 Однако такое прочтение предполагает, что образы «Я» и «двойника» определены и лирический сюжет раскрывает лишь отношения между двойниками. У Анненского же первая попытка определить, обозначить образ «двойника» приводит к перечню отрицательных дефиниций: Не я, и не он, и не ты.. .(56) При таком определении утверждается лишь «инаковость» двойника , но никак не его «идеальная» или «материальная» природа. При этом особенно «туманным» оказывается определение «не я», так как для Анненского, как мы уже говорили, «Я» вовсе не аксиоматично. В стихотворении, расположенном в сборнике «Тихие песни» рядом с «Двойником», читаем: В недоумении открыл я мертвеца... Сказать, что это я... весь этот ужас тела... Иль Тайна бытия уж населить успела Приют покинутый всем чуждого лица? (56) Поэтому уточнение:
И то же, что я, и не то же (56) -не может внести ясность в образ двойника: это определение одного неизвестного через другое. Не случайно, что фигура двойника определяется «от противного», через систему отрицаний. Исследователи уже отмечали «пристрастие» Анненского к отрицательным словам: «Даже безотносительно к содержанию каждого в отдельности лирического стихотворения в общем поэтическом контексте Анненского нетрудно выделить многочисленную группу слов, представляющих собой отрицательную по способу образования лексику, смысл которой заключается вовсе не в отрицании, а скорее, в утверждении того или иного явления или состояния как особой данности этого мира». Однако в создании такой поэтической реальности ученым видятся проекции платоновской философии: « Мир «положительной» реальности, так часто мыслимый Анненским как простое отрицание мучительной реальности настоящего или предметно данного ... , порождал особую поэтическую реальность, в которой место «мечты» и «грезы» заняла реальность «невозможного»1
Но обилие отрицательной лексики связано не столько с отрицанием «предметно данного», сколько с попыткой определить «иную» реальность, осмыслить которую в положительных категориях для Анненского невозможно. Так происходит и с образом «двойника»: он «не я», но кто он — остается загадкой. Столь же неопределенным оказывается пространство, где «сливаются» черты лирического героя и двойника :
Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты (56) /выделено нами - И.С./ «Где-то» - в этом слове скрыта двойная неопределеность: «где» - местоименное наречие, которое указывает, не называя, частица «то» переводит это наречие в разряд неопределенных. Можно только утверждать, что «где-то» - это не здесь, но и не более того.
Таким образом, фигура двойника оказывается «туманной», «трудноуловимой». Более того, изнутри лирического «Я» присутствие двойника воспринимается как «обман»: Горячечный сон волновал Обманом вторых очертаний (56) /Выделено нами - И.С./ Однако на фоне полога «ночи немой» присутствие двойника очевидно, это не сон и не бред: Лишь полога ночи немой Порой отразит колыханье Мое и другое дыханье, Бой сердца и мой и не мой. (56) Не случайно именно на фоне ночи проступает двойственность. Именно в «ночи», «во тьме» у Анненского возможно соприкосновение «здешнего» и «иного» миров. Не случайна также и «немота» ночи. «Ночь» и «немота» как знаки некоей высшей реальности восходят еще древнейшим мифологемам, воспринятым Анненским, вероятно, через античную традицию. Ю.М. Каган в связи с этим пишет: «гностики и неоплатоники, богословы и философы стремились постичь особое значение темноты и мрака в которых таится нечто не поддающиеся рассмотрению, и тем не менее существующее... (так же, как поздняя античность признала «божественным подобием» - молчание).1 Кроме того, невозможность высказывания, «немота» в эстетике символизма «является следствием инаковости и невыразимости мира иного» . Немота у символистов поэтому мыслится как свойство лирического субъекта: Мне кажется, что истину я знаю -И только для нее не знаю слов... /3. Гиппиус/3 Или: Но зачем же все слова
Слишком жалки, слишком бледны! И стою — стою безмолвно, Жду неведомых стихов: Слишком, слишком сердце полно! /В. Брюсов1/ Но также «немота», по мнению А. Ханзена-Леве, может быть соотнесена с неизменным, неэмпирическим характером потустороннего мира: Вдали от земли беспокойной и мглистой, В пределах бездонной, немой чистоты, Я выстроил замок воздушно-лучистый, Воздушно-лучистый дворец Красоты /К. Бальмонт/
Думается, именно такое восприятие «немоты» оказалось адекватным художественному миру Анненского. «Немая ночь» - это не просто время суток, а знак иного бытия, где тьма и свет не разделены, где хаос несет в себе космос. Только на фоне такой ночи очевидно присутствие двойника лирического героя.
Постановка проблемы
В литературоведении уже неоднократно предпринимались попытки увидеть точки пересечения художественных систем И. Анненского и А. Ахматовой.1 И эти точки пересечения действительно есть. Но несомненно и другое - художественные миры обоих поэтов органичны и самобытны. Этим, в частности, обусловливаются и различия в трактовке того или иного мотива, сквозного в поэзии обоих авторов. Это касается и мотива двойничества .
Однако разница «двойников» Анненского и Ахматовой связана не только с индивидуальными различиями художественных систем, но и с изменившимся контекстом эпохи. Анненский, при всех нюансах, принадлежал эпохе символизма, Ахматова - эпохе акмеизма.
Разумеется, об эпохе акмеизма можно говорить лишь условно. Как известно, и сама Ахматова ставила под сомнение целостность акмеизма как художественного направления, и среди современных специалистов это утверждение вовсе не аксиоматично. Так, Р. Д. Тименчик, собравший огромный материал по истории возникновения этой школы, сделал замечание о «принципиальной трудности или даже невозможности» дефиниции акмеизма
О. А. Лекманов, автор большого числа статей и монографии об акмеизме, пишет: «Пожалуй, ни одно литературное направление из объявивших о себе в громком XX столетии, не провоцировало читателей и исследователей на такое количество недоуменных вопросов, как акмеизм. Почему теория акмеистов была столь беспомощно и неуклюже сформулированной? Как эта беспомощная теория соотносится с замечательными произведениями поэтов-акмеистов? Кто из числа стихотворцев, группировавшихся вокруг Николая Гумилева и Сергея Городецкого, был настоящим, подлинным акмеистом, а кто — случайным попутчиком? И, наконец, — самый главный вопрос, тесно связанный со всеми предыдущими: стоит ли всерьез говорить об акмеизме как о поэтической школе или, может быть, правильнее считать его нежизнеспособным «тепличным растением, выращенным под стеклянным колпаком литературного кружка», «выдумкой» (В.Я. Брюсов), не помогающей, а, напротив, — мешающей нам читать и понимать стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева?»
Разброс оценок при определении акмеизма поразительно широк. С одной стороны, - утверждение В.Я. Брюсова, что это «тепличное растение, выращенное под колпаком кружка»1, с другой - что пред нами «потенциальная культурная парадигма», «новая семантическая поэтика»2.
Но при всех разночтениях смена эстетических принципов по отношению к символизму у поэтов, причисляемых к акмеизму, сомнений не вызывает. В целом, мы согласны с М.Ю. Лотманом и З.Г. Минц, в том что суть акмеизма — это «отказ от мистики, возвращение на землю, ценность вещества и материала, разграниченность явлений различных типов (в противоположность символистской всеобщей соотнесенности)»
Сходную мысль высказывает и В. В. Мусатов: «Важная сторона постсимволистского сознания - перенос центра тяжести с универсальных философско-эстетических схем на конкретный духовный опыт».4
Именно иная система художественных принципов в акмеизме нас прежде всего и интересует вне зависимости от терминологической определенности. Так, если двоемирие символизма было во многом платоновского извода, то акмеизм, во всяком случае декларативно, отрекался от двоемирия вообще: «Акмеисты сосредоточили внимание на закономерностях «проявленного» ... мира, полагая, что иная реальность недоступна человеческим чувствам. Объектом художественного [по Гумилеву -И. С] может быть «душа», когда она дрожит, приближаясь к иному, но не само иное»1, - пишет Л. Г. Кихней.
При этом, правда, признавалась возможность «Я» быть неодномерным, не равным самому себе. «Человеческая личность, -пишет Н. С. Гумилев, - способна на бесконечное дробление. Наши слова являются выражением лишь части нас, одного из наших ликов»2
Но если иной мир выносится за скобки, то поиск различных ликов своего расколотого «Я» ведется, в основном, в границах «этого» мира, как правило, различные лики «Я» воплощаются в разных «масках», зачастую имеющих культурное происхождение.
Возникает иная, нежели в символизме, ситуация, когда «Я» раскалывается не на «небесное» и «земное», «призрачное» и «подлинное», а пытается воплотиться во всей полноте, надевая различные маски, проживая различные роли.. Каждая ипостась «Я» проигрывается как «роль», но не с целью изжить это в себе, а с целью познать, или, лучше сказать, узнать себя до конца, целиком. Иными словами, перед нами уже не разорванность между двумя мирами, а расколотость внутри мира «здесь».
Итак, предметом изображения у акмеистов становится в основном «этот мир», и даже иное пространство мыслится в категориях «этого» мира. Так, О. Седакова справедливо отмечает в связи с анализом художественной системы А. Ахматовой, что «ахматовская поэтика не располагает средствами изображать «иной мир» .. . Он всегда «одет», он внутри традиционных литературных или церковных образов ... Там же, где необходимо выразить опыт, еще не нашедший традиционной формы, остаются одни местоимения: «что-то», «кто-то», «она»1.
Впрочем, «одномерность» мира у акмеистов кажущаяся, только подтекстом, вторым планом образов становится не «мир реальнейший», а «мир культуры».
Не имея возможности осознать целостность своего «я», человек в поэзии акмеистов постоянно «смотрится» в образы мировой культуры, как в волшебные зеркала, узнавая в этих образах потаенные черты себя самого. Это приводит к совершенно особенному решению проблемы двойничества.
Роли и маски в лирике Ахматовой
О различных ликах лирической героини Ахматовой написано уже немало. Противоречивость ее художественного мира, постоянное несовпадение с самой собой отмечались почти всеми исследователями и критиками.1 В то же время несомненна удивительная цельность и гармоничность как личности Ахматовой, так и ее поэзии: «Она проходила через все, как будто мир земных реальностей был для нее астральным»
Иными словами, мы видим, что мир Ахматовой воспринимается одновременно многоликим и единым. При этом и основной эмоциональный тон ахматовской лирики видится критикам очень по-разному. Так, В. В. Мусатов оценивает основной сюжет ранней лирики Ахматовой как «мучительное переживание страсти, неожиданно обернувшейся мукой» . С другой стороны, М. Дудин в тех же, по сути, стихах видит совершенно иное: «Поэзия Ахматовой солнечна проста и свободна, как ее юность. Она родная сестра прекрасной поэзии Эллады»
Как видим, даже хорошие знатоки поэзии Ахматовой воспринимают ее диаметрально. Объяснение этому кроется в самой природе художественного мира Ахматовой, который при всей своей цельности оказывается очень изменчивым. Даже в пределах одного стихотворения настроение лирической героини может заметно меняться. Героиня Ахматовой оказывается всегда разной - это бросается в глаза. В то же время как объяснить неуловимое единство авторского стиля гораздо сложнее.
Конечно, любой поэт избегает самоповторов, стремится сказать что-то новое о себе и мире, но у Ахматовой эти различия столь велики, что складывается впечатление, словно мы постоянно оказываемся в хороводе масок, за которыми едва угадывается лицо.
Впечатление это, впрочем, обманчиво. Ранняя лирика Ахматовой не случайно прочитывается как лирический дневник1 или как автобиографический «роман». Иными словами, при всех оговорках вся художественная система ранней Ахматовой структурируется единым «Я» автора.
Закономерно возникает вопрос: «С каким феноменом мы в данном случае сталкиваемся?» Является ли это особой формой двойничества, когда лишенное изначальной цельности «Я» ищет и пытается «узнать» себя в иных ликах, или же это просто ролевая лирика, художественный прием, позволяющий автору полнее воплотить всю полноту своего целостного «Я»? Другими словами, является ли автор режиссером, по отношению к которому все маски и роли - лишь послушные актеры, или же эти маски возникают невольно, независимо от авторского желания?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала проясним термины, тем более, что среди литературоведов нет полного единства мнений по этому вопросу.
Так, Д.Е. Максимов предостерегал от чрезмерного доверия «маскам и ролям» в связи с поэзией А. Блока. Полемизируя с П. Громовым и соглашаясь с оценкой В. Брюсова, Максимов писал: «Именно в этом «едином во множестве» образе автора сосредотачивается пафос, лирический жар, чувство совести, красоты, размах - все то, что завораживает нас в Блоке и что мы считаем в нем главным»
В то же время сам Д. Е. Макскимов предостерегал и от другой крайности. Он писал, что нельзя и недооценивать значения ролевой лирики, что неверно во всем видеть прямое выражение авторского «я». Он подчеркивал значение «аспектных» образов (двойников, масок), действительно типичных для его [Блока - И.С.] творчества, таких как Старик, инок, Пьеро, Арлекин, «чердачный житель», герой нескольких стихотворений цикла «Черная кровь», герой «песни Ада», «Демон», герой «Соловьиного сада» и др.»
В другой своей работе Д. Е. Максимов отмечает , что в зависимости от подачи... образа «автора» или лирического героя» и от «его удельного веса в системе художественных средств того или другого поэта лирика тяготеет к разделению на два типа. Поэты, принадлежащие к одному из них, избегают непосредственного изображении своего лирического героя, своего лирического «я»1
В лирике второго типа в центре стоит образ лирического героя, «его внутренний, а иногда и внешний зрительный портрет»2. Иногда, по мысли исследователя, этот лирический герой выделяется сложной лирической биографией и выступает в образе условных лирических персонажей (рыцари, иноки, Пьеро, двойники, неудачники и чердачные жители).3
Л. Я. Гинзбург в своих работах одновременно и соглашается с Д. Максимовым, и спорит с ним. Л. Я. Гинзбург не возражает против выделения двух типов лирики в зависимости от особенностей художественного воплощения образа автора. Но она подчеркивает, что нежелательно объединять под термином «лирический герой» исторически разные явления. Героям, определяемым либо требованием жанра (как в эстетике классицизма), либо философской концепцией (поэзия любомудров) и в связи с этим лишенным индивидуальных черт или характеризуемым случайными чертами Л. Гинзбург отказывает в определении «лирический герой». «О лирическом герое, - пишет исследовательница, - имеет смысл говорить в тех случаях, когда авторское «я» предстает в виде наделенного определенными чертами персонажа или, перерастая роль лирического субъекта, становится основной темой произведения. Это всегда единство если не всего творчества, то периода, цикла».
Итак, все исследователи сходятся в том, что в лирике автор не только субъект повествования, но и объект изображения. При этом авторский монолог - «это лишь предельная лирическая форма. Лирика знает разные степени удаления от монологического типа, разные способы предметной и повествовательной зашифровки авторского сознания - от масок лирического героя до всевозможных «объективных» сюжетов, персонажей, вещей, зашифровывающих лирическую личность именно с тем, чтобы она сквозь них просвечивала»2