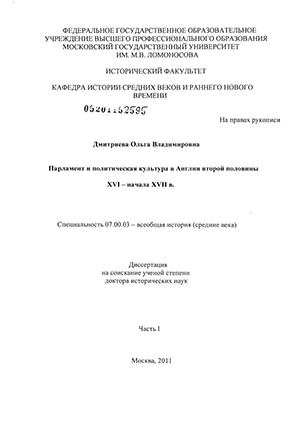Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Корона и парламент: политика ритуала 148
1.1. Церемония открытия парламентской сессии 156
1.2. Богослужение у гробницы Эдуарда Исповедника 189
1.3. «Ритуальная революция» в парламенте второй половины XVI в. 206
1.4. Парламентские проповеди в ритуальном и политическом контексте 222
1.5. Встреча трех сословий в палате лордов 239
Глава II. Политический дискурс парламентских речей 269
II.1. Вступительная речь лорда-канцлера 281
II.2. Церемонии «выборов» и представления спикера 322
II.3. Корона и парламент: гармония и дисгармония дискурсов официальных речей 349
II.4. «Классицизирующий» дискурс в парламентах 364
Глава III. Елизаветинская палата общин и историческое мифотворчество 396
III. 1. «Усердный антикварий» Джон Хукер и рождение «англо-саксонского парламента» 406
III.2. Уильям Ламбард и «германистическая» концепция древнего парламента 432
III.3. Казус Артура Холла, добросовестного историка и незадачливого парламентария 454
III.4. Эдуард Кок и исторический дискурс в парламентах 1590-х гг. 475
III.5. Палата общин и Общество антиквариев 488
Глава IV. Парламент как «Высокий совет» и привилегия свободы слова 518
IV. 1. «Привилегии» и «свободы» парламента 518
IV.2. Проблема престолонаследия и парламентские дебаты
IV.3. «Свобода» палаты и королевская «прерогатива» 548
IV.4. Свобода «для внутреннего пользования» 566
IV.5. «Это сладкое слово свобода»: Цицерон, Соломон и Питер Вентворс 580
IV.6. Религиозный вопрос и королевская прерогатива в парламентах 1580-1590-х гг. 601
Глава V. Парламентское законотворчество в контексте политической культуры 660
V.I. От билля к статуту: процедура прохождения законопроекта 664
V.2. Стратегии законотворчества 743
V.3. Религиозные практики в парламенте 759
V.4. Эволюция процедуры: некоторые промежуточные итоги 765
V.5. «Вечное наставление»: Елизаветинские прецеденты в трактатах второй половины XVI- начала XVII в. 776
Глава VI. Парламент как «Высокий суд»: теоретические представления и реалии судопроизводства 2
VI. 1. Совместная юрисдикция двух палат: тяжкие преступления и дела о государственной измене 5
VI.2. Судопроизводство палаты общин в делах о привилегиях ее членов 38
VI.3. Дела о спорных выборах и членстве в палате общин 107
VI.4. Комитет по привилегиям и выборам 139
VI.5. Юрисдикция и судопроизводство палаты лордов 163
VI.6. «Форум правосудия»: эволюция представлений о судебной функции парламента 173
Глава VII. Парламент, королевская прерогатива и финансово- экономические вопросы 209
VII.1. Парламент и «добровольные дары» короне 209
VII.2. «Цена войны»: финансовая проблема в 1593 -1601 гг. 234
VII.3. «Фискальный феодализм», парламент и «жалобы королевства» 280
VII.4. Полемика о монополиях 294
Глава VIII. «Тело всего королевства»: теория и практика парламентского представительства 352
VIII.1. Парламент и метафорическое воплощение королевства 353
VIII.2. Коллективный портрет английской политической элиты 376
VIII.3. Процедура выборов 388
VIII.4. Проблемы «менеджмента» и «парламентского поведения» 463
Заключение 560
Список сокращений 576
Библиография 577
- «Ритуальная революция» в парламенте второй половины XVI в.
- Корона и парламент: гармония и дисгармония дискурсов официальных речей
- Казус Артура Холла, добросовестного историка и незадачливого парламентария
- «Это сладкое слово свобода»: Цицерон, Соломон и Питер Вентворс
«Ритуальная революция» в парламенте второй половины XVI в.
Выше уже шла речь о том, институционный подход предполагает приоритетное внимание к повседневной законотворческой работе парламента и ее процессуальным нормам. В меньшей степени это касается подходов современных историков к судебной практике парламента. По нашему мнению, развитие процессуальных норм в обеих вышеназванных сферах имело определенную связь с политической составляющей в деятельности этого института. Предстоит выяснить, в какой степени новации в практике обеих палат были связаны с политическими дискуссиями, в какой мере дебаты по общественно значимым вопросам способствовали окончательной кристаллизации парламентской процедуры, и можно ли вести речь о «политике процедуры» и превращении последней в инструмент, с помощью которого парламентарии добивались определенных целей.
Попытка анализа политической ментальности депутатского корпуса неизбежно вынуждает задаться вопросом о присущих ему исторических воззрениях, их характере, специфике, возможном влиянии на их формирование актуальных политических проблем. Историческая память парламентариев, историко-политические мифы, которые они были готовы принять и отстаивать - важные составляющие корпоративной культуры. Особый интерес представляют вопросы о механизмах ее формирования и каналах распространения исторических представлений в парламентской среде.
До сих пор речь шла преимущественно об идеях и представлениях, культивировавшихся в парламенте. Однако парламентская практика, связанная с законотворчеством, судопроизводством, осуществлением финансовой функции, имела самое непосредственное отношение к политической культуре. Это касалось ритуального обрамления каждой сессии, вносившего организующее начало в ее работу, внутреннего церемониала, принятого в каждой из палат и в совместных парламентских комитетах, культуры делопроизводства, дисциплины, правил ведения полемики, религиозных практик и т.д.
Политическая составляющая обнаруживала себя повсеместно: в сфере законотворчества она проявлялась в изощренных технологиях, призванных обеспечить успех того или иного законопроекта и в тактике лоббирования. Извечная функция парламента вотировать налоги породила в конце XVI в. важную теоретическую дискуссию о правах собственности подданных. А большинство политических и даже конституционных претензий парламента, связанных с его попытками расширить пределы своей юрисдикции, были следствием специфических проблем, связанных с делопроизводством, возникавших в тех случаях, когда депутаты занимались рассмотрением судебных казусов.
Техника манипулирования депутатами со стороны королевских министров, использование патроната, характер выборов и межличностных связей между пэрами и членами палаты общин, особенности «парламентского поведения» депутатов - все это имело самое непосредственное отношение к политике и политической культуре. Таким образом, целью данного исследования станет изучение институционных параметров парламента второй половины XVI - начала XVII в. в их взаимосвязи с политическим фактором и определение места парламента в формировании английской политической культуры Раннего Нового времени. Осуществление этой цели предполагает решение целого ряда исследовательских задач.
В частности, нам предстоит рассмотреть основные составляющие парламентского ритуала, выявить его функции и символический смысл. Дать оценку модели верховной власти и облику, в котором она представала в ходе церемониальных действ, а также характеру публичной репрезентации самого парламента. Проследить возможную эволюцию парламентского ритуала под воздействием политических обстоятельств.
Выявить основной набор политико-правовых идей, философских категорий и метафор, присущих языку парламентских дебатов. Сопоставить трактовки таких вопросов, как характер и прерогативы королевской власти и функции парламента в официальных речах канцлеров и выступлениях спикеров палаты общин. Рассмотреть содержание и стилистические особенности парламентского дискурса и проследить закономерности использования того или иного политического языка в дебатах.
Раскрыть специфику исторических представлений о прошлом, бытовавших в парламентской среде, изучить пути формирования историко-политических воззрений, роль носителей исторического знания среди парламентариев, каналы распространения их концепций и степень обусловленности исторических построений актуальными политическими проблемами.
Оценить характер так называемых парламентских привилегий и представления депутатов о «свободе слова», ее истоках и пределах. Выявить случаи, порождавшие полемику о свободе слова, и их взаимосвязь с политической повесткой сессий. Проанализировать дискурсивные особенности полемики о свободе слова, выявить социальный состав ее участников и инициаторов, оценить значимость идеи свободы слова в глазах депутатского корпуса.
Охарактеризовать процесс законотворческой работы парламента в его отношении к политической культуре. Дать оценку церемониальной стороне законотворческого процесса и ее функциям. Выявить тактические и стратегические навыки, связанные с проведением законопроектов, и то, какое отражение эти политические технологии находили в парламентских текстах. Оценить характер процессуальных новаций рубежа XVI-XVIIBB., а также значение трактатов, посвященных парламентской процедуре, в закреплении представлений об этих новшествах в депутатской среде.
Корона и парламент: гармония и дисгармония дискурсов официальных речей
Ритуал, формирующийся в недрах любого политического или бюрократического учреждения, является одной из важнейших характеристик институционного развития последнего. Его изощренность, степень регламентированности, бытование в течение продолжительного времени служат объективными показателями зрелости самого института. В свете весьма противоречивых воззрений на природу парламента Раннего Нового времени и сомнений, высказывавшихся относительно того, можно ли с полным основанием считать его учреждением, в существовании которого прослеживается континуитет, или парламент как таковой - не более чем фикция, в то время как в действительности имели место лишь отдельные ассамблеи, между которыми не было реальной преемственности, вопрос о ритуале приобретает особую значимость, поскольку последний отражал специфику парламента и как «события», и как института, обладающего определенными корпоративными признаками, традициями, собственной идеологией и символическим языком. Неизменный, регулярно воспроизводившийся набор ритуальных действий по сути лежал в основе периодического воссоздания этой корпорации, воплощая в себе ее историческую память, и служил своего рода «скрепой», превращавшей парламент в нечто метаэкзистенциальное по отношению к отдельным его сессиям.
В силу присущего культуре Средневековья и Раннего Нового времени символического восприятия реалий окружающего мира, ее отличал высокий уровень ритуализации самых разных форм социальной жизни, как торжественных, официальных, так и повседневных.2 Парламентская ритуальная практика крайне редко попадает в поле зрения специалистов, занимающихся историей и теорией ритуала, а между тем она вполне заслуживает того, чтобы стать объектом пристального изучения в качестве целостной системы, со своим специфическим символическим языком, эмблематикой, жестами и ритуальными речами, манипулированием сакральными объектами и пространствами. Как в любой символической системе, в ней особым образом преломлялось видение универсального миропорядка, природы власти, принципов общественного устройства. Ритуал этого политического института отражал его претензии на определенное место и предназначение в иерархии светского государства, но не только их. Непосредственное восприятие действительности соотносилось в нем с иным планом, с неким потаенным смыслом, восходившим к сфере трансцендентного - к священной истории, к провиденциалистскому замыслу, в реализации которого, по убеждению парламентариев XVI-XVII вв., им была отведена немаловажная роль. Ритуал отсылал к теме сакральности власти, эманацией которой был и сам парламент; к божественному закону, земным отражением которого служило творимое им статутное право. В квази-литургических парламентских обрядах за зримыми очертаниями реального учреждения ярче всего проступал образ некого мистического сообщества, «политического тела» королевства, одним из метафорических воплощений которого считался парламент.
Принимая во внимание, что парламентский ритуал формировался и эволюционировал на протяжении нескольких веков, мы постараемся прежде всего установить, в каком виде в его практике зафиксировано сложившееся к середине XVI в. соотношение сил между короной и парламентом. Действительно, развитие последнего невозможно рассматривать вне контекста монархического правления: само его рождение было во многом продиктовано административными, финансовыми и политическими проблемами, с которыми сталкивалась корона, и на ранних этапах своего существования этот институт, будучи естественным продолжением королевского совета и королевского суда, воспринимался, а по сути и представлял собой то, что историки критического направления называют «парламентом короля».3 Его бытие всецело зависело от потребностей, намерений и политической воли монарха, по инициативе которого созывалась эта ассамблея. Место и сроки созыва, продолжительность и повестка работы парламента, продление его полномочий или роспуск определялись исключительно короной. Наряду с прочими важнейшими факторами, под воздействием которых формировался облик парламента (глубинными социальными процессами, общей эволюцией административной системы государства), актуальные политические цели и финансово-административные задачи, стоявшие перед тем или иным монархом, равно как и его личные склонности оказывали самое непосредственное влияние на интенсивность работы представительного органа, толкование его функций и границ компетенции. Все это делает абсолютно необходимым рассмотрение институционной истории парламента в тесной связи с исследованием феномена монархии Раннего Нового времени, ее теоретических притязаний, политической и репрезентационной стратегии. «Rex est caput, principium, et finis Parliamenti» - утверждалось в трактате XIV в, посвященном парламентской процедуре.4
Король, действительно, был «альфой и омегой», «началом и концом парламента». В таком случае, можно ли говорить о парламентском ритуале как таковом, отдельном от «королевского»? Как они соотносились между собой? Каким государь являл себя публике в ходе парламентских церемоний и какой была модель конституционного устройства, предлагавшаяся зрителям в ходе последних?
Одна из основных функций ритуала - установление и выявление социальных взаимосвязей между участниками символических церемоний, демонстрация их статусов и ролей в иерархически организованном политическом универсуме.5 Очевидно, что когда речь заходит о ритуальной практике парламента, учреждения, имевшего гетерогенный социальный состав, необходимо обратиться к ритуалам, призванным определять подобные отношения внутри института в целом, поддерживать субординацию между его основными элементами (короной, лордами и общинами). Большой интерес представляет также собственный ритуал каждой из палат. Свой церемониал возникал и у различных временно образовывавшихся внутрипарламентских конфигураций (совместных комитетов, депутаций палат и т.д.). Следует оценить его роль с точки зрения внутрипарламентского «менеджмента» - организации эффективной повседневной законотворческой работы сессии, а также водворения определенного порядка и дисциплины.
Несмотря на очевидную важность этой темы, ритуальный аспект бытия английского парламента исследован далеко не достаточно и самими специалистами в области истории этого института. Отчасти это было обусловлено лакунами в источниковой базе, относящейся к средневековым сословно-представительным ассамблеям и к парламентам первых Тюдоров, лишавшими историков возможности детально проследить эволюцию ритуала даже на протяжении всего XVI столетия, не говоря уже о более длительной временной перспективе.
Казус Артура Холла, добросовестного историка и незадачливого парламентария
Само наличие у монарха особых парламентских одежд заслуживает осмысления. Обыкновенно в торжественных случаях Елизавета надевала парадное или так называемое «государственное платье», в котором она неоднократно изображена на иллюминированных патентных грамотах, исходивших из королевской канцелярии. Как правило, его дополняли скипетр, держава и корона. Государственное платье и регалии символизировали суверенную королевскую власть во всей ее полноте и самодостаточности. Тем не менее, в момент открытия парламентской сессии королева облачалась в не менее пышные, весьма схожие с «государственными», и все же иные одежды. Основное отличие заключалось в цветовых нюансах. В отличие от пурпура, имеющего характерный фиолетовый оттенок, кармазинный (малиновый или багряный) цвет не содержал его, оставаясь ярко-алым. Обе краски, считавшиеся «царскими», получали с помощью одного и того же красителя, добываемого из раковин улиток, однако пурпурного цвета добивались повторным окрашиванием. Тем не менее, в кармазинном платье, как и в пурпуре, королева в буквальном смысле представала «порфироносной». Возникает закономерный вопрос: чем же было обусловлено использование королевского парламентского костюма? Должен ли он был продемонстрировать какие-то особые стороны монаршей власти, отличающиеся от тех, которые маркировались «государственным платьем»?
Или, быть может, парламентское платье короля должно было походить на «униформу» пэров королевства, принимающих участие в открытии парламента, и с помощью символики цвета сближая монарха с ними? Но был ли алый цвет корпоративным цветом членов верхней палаты, шествующих в процессии? Как выясняется, вовсе нет.
Лорды, участвовавшие в процессии, также облачались в особое парламентское платье. Их одежды, четко отражая различия в статусе, как духовных, так и светских пэров, были внушительны и весьма недешево обходились своим владельцам.40 Парламентское облачение барона состояло из пурпурной мантии с капюшоном и пелериной, отороченной двумя рядами горностаевого меха на правом плече. Костюм виконта отличался от баронского тем, что его украшали два ряда меховой отделки с половиной; мантии же графов, герцогов и маркизов были отделаны тремя рядами меховых полос. На епископах и архиепископах также были пурпурные мантии, отороченные горностаем с горностаевыми же капюшонами.
Парадные одежды надевали и те служители короны и чиновники, которым они были положены по должности. Герольд, описывавший процессию 1563 г., не преминул отметить, что лорд-хранитель печати, а также хранитель свитков были каждый в «своей мантии (gowne)»; королевский барристер - «в верхнем платье с капюшоном и пурпурной мантией (mantle) без подкладки», а судьи и бароны Казначейства - « в их пурпурных мантиях, капюшонах и платье, отороченных горностаем, и их мантии были на фут короче платья».
Таким образом, судейские и прочие чиновники, духовные лица и светские титулованные аристократы были облачены в пурпур, исконный «королевский» цвет,43 подчеркивавший генетическую связь их должностей, титулов и званий с властью монарха, служившей источником всех милостей, пожалований и возведения в любые достоинства. На фоне «пурпурного» шествия лордов ярко- алое одеяние королевы позволяло ей не слиться с остальными, выделяя из общей массы пэров. Сугубо индивидуальное «должностное платье» монарха противопоставлялось, таким образом, корпоративной «униформе» лордов, обозначая уникальный статус правителя. Уже само по себе решение этой задачи могло послужить достаточным основанием для использования алого, а не пурпурного платья. Однако, возможно, оно имело и особый символический смысл, не сводившийся лишь к сугубо практическим соображениям.
Напомним, что помимо вышеупомянутой алой парламентской мантии в процессии фигурировала еще одна мантия или плащ,44 которую вместе с «королевской шляпой» нес кто-то из молодых аристократов. 5 Причем эту шляпу или шапку, о форме которой мы можем лишь гадать,46 в свою очередь не следует путать с так называемой «государственной шапкой». Последнюю сопровождал лорд-казначей среди регалий, непосредственно предшествовавших появлению королевы. Что же касается «шляпы и плаща», то их несли сразу за группой судейских и членов Тайного совета. Поскольку в ритуализированном шествии не бывает случайных деталей, уместно задаться вопросом о роли, которую играли представленные в нем в явном избытке предметы монаршего облачения. Их самостоятельное следование в шествии - нередкое явление, однако «удвоение» плащей и головных уборов встречается не часто.
Анализируя королевские въезды в столицу во Франции классического Средневековья, Лоуренс Брайант показал, что обыкновенно государь облачался по этому случаю в мантию, а его головной убор (шапка или шлем, увенчанный венком) мог следовать перед ним. По мнению исследователя, именно эти элементы костюма (мантия и головной убор) служили знаком особой «королевской должности». Впрочем, государь был волен выбирать облик, в котором вступал в город. Если он въезжал как завоеватель или намеревался продемонстрировать свое недовольство и нежелание подтверждать юридические права и свободы городской общины и ее корпораций, встречавших его, правитель мог избрать в качестве парадного облачения военные доспехи. В таких случаях мантию и головной убор несли перед ним. На этом основании Брайант предположил, что эти детали костюма (мантия и шляпа) отсылали именно к «гражданской» функции короля как судьи и источника правосудия.47 Если принять его толкование, и согласиться с тем, что отделенные от королевской персоны плащ и шляпа воплощали идею юстиции, из этого следует, что алая парламентская мантия, в которую была одета королева, по-видимому, должна была отсылать к другим функциям власти, символизируя какую-то иную ипостась правительницы.
«Это сладкое слово свобода»: Цицерон, Соломон и Питер Вентворс
В елизаветинской имагологии была одна линия, облегчавшая проведение параллелей между ней и Эдуардом Исповедником: ее безбрачие и целомудрие англо-саксонского святого, который, по преданию, жил со своей супругой в девственном союзе (что обеспечило не только спасение его души, но и нетленность тела). Именно к перстню Св.Эдуарда, используемому в коронациях, восходил образ мистического обручения правителя с его королевством, активно эксплуатировавшийся елизаветинской пропагандой. (Однако, если такие ассоциации и возникали, их, по-видимому, следует относить к поздним годам правления Елизаветы, поскольку на протяжении первой половины царствия ее девственность еще не была предметом культа, и воспринималась скорее, как досадная аномалия в поведении правительницы.)
Как отмечалось выше, параллельно с культом самого Исповедника, складывался историко-политический миф о введенных им справедливых законах, которые якобы легли в основу древней английской «конституции», неизменной вследствие ее совершенства, и периодически подтверждаемой английскими королями. В связи с этим уместно задаться вопросом: к чему собственно, в большей степени отсылала присутствующих церемония в Вестминстерском аббатстве: к образу освященной свыше, непрерывной во времени мистической власти государя как таковой, или скорее к более общей теме преемственности английской правовой традиции и справедливого правосудия, воплощенных в «законах Эдуарда»? Возможно, и к тому, и к другому? Можно ли вычленить в ней элементы, имеющие
О важнейших исторических сочинениях средневековых авторов, которые заложили основание для подобной трактовки континуитета английских законов и судебных институтов см.: Greenberg J. Op. cit. P. 47. отношение не только к монарху, но и к созванной им ассамблее парламента в любом ее качестве - как «Совета короля» или как «Высокого суда»?
Средневековые жизнеописания Эдуарда Исповедника, казалось бы, предоставляли все возможности для того, чтобы изобразить его королем, который правил с помощью англо-саксонского аналога «парламента». Нельзя совершенно отрицать того, что в сознании присутствующих церемония в церкви Св. Петра могла вызвать к жизни призрак Эдуарда и в образе «короля-в-парламенте». Тема гармоничных взаимоотношений Эдуарда с «сословиями» королевства привлекала историков и политических писателей XVI-XVII вв. Однако представления об Эдуарде как идеальном «конституционном» правителе стали распространяться довольно поздно -ближе к концу XVI в., в специфической среде юристов и антиквариев и циркулировали в основном в текстах юридического характера. Что же касается церемонии в Вестминстерском аббатстве, сложившейся значительно раньше, то нет никаких признаков, что она хотя бы в малой степени (с помощью словесных формул, изобразительных средств или каких-то ритуальных жестов) отсылала к Эдуарду как своего рода «конституционному» правителю, а тем более к королевскому «совету» при нем или парламенту. На наш взгляд, все, связанное с образом Эдуарда, его мощами и гробницей, в значительно большей степени акцентировало внимание на сакральной природе присутствующего в церкви божьего помазанника, на его добродетелях как правителя - справедливости и милосердии - и использовалось преемниками святого в целях легитимации их власти.
Невозможно не заметить инаугурационного характера этой части парламентского ритуала, который не только напоминал о церемонии коронации, имевшей место здесь же, близ гробницы святого, но и воспроизводил некоторые ее элементы, предусмотренные соответствующим литургическим чином - церковную процессию, вручение королю жезла Св. Эдуарда, возложение инсигний на алтарь, торжественную мессу. Периодическое воспроизведение обстоятельств коронации в начале парламентской сессии, очевидно, сходным образом было направлено на подтверждение легитимности власти правящего государя.8
Обряд коронации, как известно, имеет двойственную природу: часть образующих его церемоний носит «космический» характер, они помещают божьего помазанника в иерархию отношений, выходящих за рамки земного мира, превращая государя в сакральную персону, подобие духовного лица, наделенного соответственной властью. Другая сторона коронационного ритуала выполняет иную функцию: с ее помощью государь утверждается в качестве главы социальной иерархии во вполне земном мире. Принимая во внимание наличие этих двух «фундаментально различных символических сфер» , попытаемся проследить, как они взаимодействуют в ходе
Традиционно принято вести речь о последовательности из нескольких церемоний, которые, наряду с коронацией, обеспечивают инаугурацию нового монарха (похороны предшественника, королевский «адвент», «ложе правосудия» во Франции, королевская охота и т.д.). Каждая из них содержит специфический инаугурационный элемент, дополняя остальные обряды, образующие единую символическую систему. Об этом, в частности, см.: Giesey R.E. Inaugural Aspects of French Royal Ceremonials // Coronations... P. 36. В нашем случае этот принцип подвергается своеобразной инверсии. Очевидно, что в начале работы нового парламента одной из взаимодополняющих церемоний, обеспечивающих его законность и действенность, является коллективное «воспоминание» о коронации, отсылка к ней как к истоку всякой власти и авторитета в английском королевстве. парламентской инаугурационной церемонии, до некоторой степени воссоздающей обстоятельства коронации.