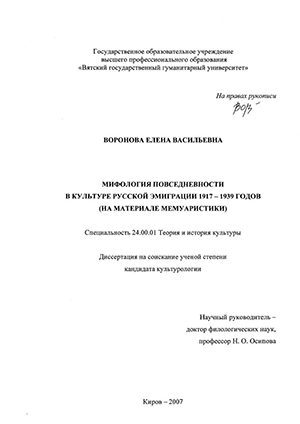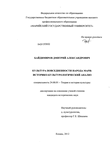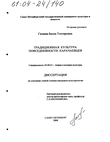Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Специфика повседневности в культурном сознании русской эмиграции 16
1.1. Культура эмиграции как совокупность текстов: теоретические предпосылки исследования 16
1.2. Мифологизм как особенность ценностных ориентации эмиграции 26
1.3. «Преодоление» повседневности в мифо-культурном сознании диаспоры 60
1.3.1. Иррациональный компонент обыденного сознания 61
1.3.2. Русская эмиграция: между праздником и повседневностью 69
Глава II. Мифосемиотические аспекты хронотопа повседневной культуры русского зарубежья 87
2.1. Концепты пространства повседневности русской эмиграции 88
2.1.1. Семантика границы в системе пространственных координат русской диаспоры 89
2.1.2. Дом как мифологема быта русского зарубежья 107
2.2. Темпоральные модели повседневности в культурном сознании эмиграции 123
2.2.1. Русская эмиграция в реальном и мемуарном времени 124
2.2.2. Модели повседневного времени русской диаспоры 129
Заключение 149
Библиография 151
- Культура эмиграции как совокупность текстов: теоретические предпосылки исследования
- Русская эмиграция: между праздником и повседневностью
- Семантика границы в системе пространственных координат русской диаспоры
- Модели повседневного времени русской диаспоры
Введение к работе
Реферируемое диссертационное исследование посвящено мифологическим аспектам повседневной культуры русской эмиграции «первой волны», реконструированным на материале мемуарных источников
Актуальность диссертационной работы связана с возросшим интересом современной гуманитарной науки к повседневности как тексту культуры и в целом с потребностью в осмыслении и утверждении человека, его частного мира как культурной ценности. Генетически обусловленный «восстанием масс» (X. Ортега-и-Гассет), «восстанием возвышающейся обыденности» (П Козырьков), демократизацией и массовизацией культуры, интерес к повседневности как культурно значимому феномену в настоящее время заявляет о себе все настойчивее. Обыденное начинает выступать в качестве объекта междисциплинарных исследований- философии, истории, социологии, филологии, семиотики, эстетики, психологии, искусствознания и культурологии В гуманитаристике формируется новая область знания^- «повсе-дневноведение» (Д Лелеко)
Кроме того, тема исследования соответствует усиливающейся потребности современного зарубежного и отечественного гуманитарного знания в более глубоком осмыслении феномена русского рассеяния в тех его сферах, которые не становились предметом специального внимания Не случайно в конце XX века культура эмиграции «приравнена в своём признании к делам государственной важности» (И. Толстой). Различным её аспектам посвящены многочисленные научные работы, конференции, теле- и радиопередачи, сайты, рассекречиваются архивы, переиздается и печатается впервые богатейшее наследие диаспоры, формируются коллекции искусства. Однако понимание уникальности культуры русской эмиграции только начинается не сразу преодолеваются как идеологические стереотипы в восприятии диаспоры, так и неуместно восторженные и «залакированные» оценки, а также сложившиеся в среде эмиграции идеализированные мифы о самих себе. Представленное в диссертации культурологическое исследование повседневности русского зарубежья поможет более глубокому осмыслению феномена эмиграции не только «первой волны», но и эмиграционных/миграционных процессов конца XX - начала XXI в с их достаточно мощным культурным потенциалом
В обозначенном контексте изучение повседневной культуры на материале мемуарных источников соответствует пристальному вниманию лично-стно-ориентированной гуманитаристики конца XX - начала XXI в к автодокументальным жанрам как «инструменту реконструкции» событий внешней и внутренней жизни человека (в связи с все возрастающей потребностью человека в автокоммуникации)
Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время накоплен достаточно обширный материал в сфере исследования повседневной культуры русской диаспоры. Анализ всего круга научных трудов, связанных с изучением повседневной культуры, в том числе и в мифологиче-
ском измерении, свидетельствует о том, что вектор поиска направлен, прежде всего, на художественные произведения (Л Бадертдинова, Е Васильева, Е Вахренко, С Габдулина, Т. Ковалёва, М Маслова, Б Носик, О. Фещен-ко1), дневники (Е Коркина, Н. Лапаева, И Серебренников, И Шевеленко, М. Шемякина, С. Шумихин2) и эпистолярное наследие (Н Богомолов, Р Дэ-вис, Л Ливак, Л Мнухин, Г Савина, В. Терехина, Э Хейбер3) Кроме того, в последнее время в связи с публикацией архивов диаспоры выходят работы описательного характера (А. Зверев, Е Менегальдо, Н Старосельская, В. Швейцер4). В качестве объекта исследования в них выступает либо повседневная жизнь эмигрантов, рассмотренная сквозь призму автобиографических фактов, либо описание различных сторон жизни центров русского рассеяния - Русской Праги, Парижа, Берлина, Белграда, Харбина и др.
Содержание работ, посвященных изучению мемуаров русского зарубежья, охватывает исторический (историческая реконструкция процессов исхода и интеграции в инокультурную среду - Н Аблажей, М Косорукова), филологический (анализ поэтики и жанра, особенностей литературного быта, жизненного и творческого пути писателей, художественного хронотопа -О. Демидова, Е Кириллова, Т Мегрешвилли, Е. Снежко, Э. Резник), психологический (выявление особенностей психологической адаптации и культурной идентификации изгнанников — Е. Салганик), социологический (анализ миграционных процессов, правового положения апатридов, условий жизни и жизненных стандартов, рабочей биографии, наркомании и преступности и пр ) и культурологический (изучение культурологии личности отдельных эмигрантов) ракурсы5
Некоторые вопросы эмигрантской обыденной культуры затрагиваются исследователями в историко-культурных комментариях к воспоминаниям Среди работ такого плана особое место занимают исследования В Александрова, О Демидовой, М Каназирской, Л. Мнухина, Т Пищиковой, И Со-
1 См , например Васильева Е В Автобиографическая проза В В Набокова «Conclusive Evidence», «Другие берега», «Speak Memory» Дис канд филол наук - Томск, 2005 - 230 с, Вахренко Е Е Концепция времени и пространства в автобиографической прозе А. М. Ремизова 1920-1950-х гт Автореф дис канд филол наук - Улан-Удэ, 2007 - 24 с, Носик Б М Сентиментальные и документальные истории Парижа -М,200б -374с
См, например Серебренников И И Китай и русская эмиграция в дневниках И И и А Н Серебренниковых, 1919-1934 - М, 2006 - 446 с, Шемякина М К Человек и мир в дневниках И А Бунина и М М Пришвина Дис канд филол наук - Белгород, 2004 - 236 с
3 См , например Ливак Л Критическое хозяйство Владислава Ходасевича // Диаспора Новые материалы Вып 4 -СПб, 2002 -С 391-456, Савина Г А «Пусть барахтаются » К истории «одесской высылки» за рубежом // Диаспора Новые материалы Вып 3 - СПб, 2002 - С 293-410
Зверев А М Повседневная жизнь русского литературного Парижа 1920-1940 гг -М,2003 -384 с, Менегальдо Е Русские в Париже 1919-1939 / Пер с фр Н Поповой, И Попова - М, 2001 - 248 с, Старосельская H Д Повседневная жизнь «Русского Китая» - М, 2006 - 373 с, Швейцер В А Быт и бытие Марины Цветаевой - М, 2002 - 591 с
См, например Демидова О Р Эстетика литературного быта русского зарубежья (на документальном материале русской эмиграции 1920-1960 гг) Автореф дис д-ра филол наук - СЩ, 2001 - 48 с, Снежко Е В Поэтика мемуарного и автобиографического повествования в прозе И А. Бунина эмигрантского периода Дис канд филол наук - М, 2005 - 173 с, Резник Э Р «Поля Елисейские» В С Яновского как феномен русской мемуарной прозы XX в художественная специфика хронотопа памяти Дис канд филол наук - Омск, 2006 -155 с
ловьёвой, Л Турчинского и др ' В них осуществлены серьёзные наработки в реконструкции «элементарной базовой деятельности человека, которая встречается повсеместно и масштабы которой фантастичны» (Ф Бродель) в содержании комментариев к мемуарам имеются важные для диссертационного исследования материалы о быте, образе жизни, обычаях и традициях, привычках и ритуалах ежедневного поведения, определяющих распорядок дня, о характере труда и отдыха, внутрисемейных отношениях диаспоры В то же время комментарии в силу жанровых особенностей, как правило, ограничены уточнением и раскрытием фактологических данных, оставляя в стороне их анализ, и потому не дают целостного представления о повседневной жизни русского зарубежья
Анализ научного материала показывает, что, несмотря на обилие работ по данной теме, мифология обыденной культуры в воспоминаниях рассеяния практически не исследована, многое в ней остаётся непрояснённым Очевиден дефицит целостных исследований повседневной жизни эмиграции, в том числе на уровне ее рефлексии в сознании и реконструкции в памяти Материал для подобной реконструкции, основу которой составляет мифологизация повседневности, и предоставляют мемуары.
Объектом диссертационного исследования является культура повседневности русской эмиграции «первой волны» (1917—1939 гг )
Предмет исследования— мифологические аспекты повседневной культуры русской эмиграции
Цель работы заключается в исследовании форм и способов мифологизации повседневной культуры русской эмиграции 1917—1939 гг в мемуарной ретроспективе.
Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:
представить культуру эмиграции как совокупность текстов, объединяющих различные сферы человеческого бытия - повседневность, искусство, религию, идеологию, науку, общественную деятельность и пр.,
выявить генезис, типы и формы проявления «эмигрантского мифа» в повседневном сознании и жизни русской диаспоры,
рассмотреть в контексте мифологических характеристик феномен «преодоления» повседневности как быта через иррациональные и празднично-игровые сферы культурного сознания (сновидческое пространство, выход за рамки нравственно-этических норм, пространство игры/праздника и др);
охарактеризовать мифосемиотический комплекс восприятия эмиграцией пространства повседневности и рассмотреть их проявление в наиболее репрезентативных знаковых доминантах (граница, дом, средства передвижения и др),
1 См, например Александров В А Комментарии//Диаспора Новые материалы Вып 4 -С 153-156,159-162,170-177 180-181,ПищиковаТ В Примечания//Хаиндрова Л Ю Сердце поэта -Калуга,2003 -С 25-28,185-186,327-336,391,СоловьёваИ Примечания//Диаспора Новые материалы Т 1 -С 88-94
на основе анализа мифологизированного восприятия времени по
вседневности раскрыть особенности темпоральных моделей повседневного
сознания русского зарубежья.
Источниковую базу составляют мемуары творческой части русской диаспоры поэтов и прозаиков, художников, танцовщиков, театральных деятелей, певцов Н Берберовой, А Бахраха, й Бунина, В Варшавского, А Вертинского, М Вишняка, М Германовой, Р. Гуля, А Дон Аминадо, Б Зайцева, Г. Иванова, С Маковского, Г Махровой, В Набокова, Л Нели-довой-Фивейской, И. Одоевцевой, М Осоргина, В. Павловой, Е. Попдимит-рова, А Ремизова, Ю Терапиано, И Тинина, Н Триполитова, В Ходасевича, М. Цветаевой, Ф Шаляпина, 3 Шаховской и др
Фон исследования составили также материалы мемуаров философов, религиозных деятелей, врачей, шоферов, рабочих, детей и др
Исследование культуры повседневности творческой эмиграции дополняется введением в контекст диссертации писем, дневников, записных книжек, газет и журналов русской диаспоры, интервью, анкет, художественного наследия, литературно-критических статей и докладов, а также «одного из самых живучих жанров повседневных коммуникаций» (И Манкевич) — анекдотов эмигрантов о самих себе
Хронологические рамки исследования ограничиваются 1917— 1939 гг и обусловлены тем, что именно в этот период происходило формирование культуры русского зарубежья, после революционных событий 1917 г. (и особенно гражданской войны) начался массовый исход русских за границу, к 1939 г процесс интеграции этой «волны» в инокультурную среду практически завершился В то же время при анализе воспоминаний представляется оправданным выход за хронологические рамки и исследование повседневной жизни изгнанников более позднего периода
Теоретическую основу диссертации составляют труды, представленные следующими направлениями
исследования по теории повседневности и методологии ее изучения (труды зарубежных ученых Ф Арьеса, М. Блока, Ф. Броделя, Ж Ле Гоффа, Л Февра- представителей школы «Анналов», Р Барта, И Гофмана, Э Гуссерля, М. Хайдеггера, А. Щютца, а также отечественных- М Бахтина, Е Золо-тухиной-Аболиной, Л Ионина, И Касавина, Г Кнабе, В Лелеко, Ю Лотмана),
исследования в сфере теории текстов и языков культуры (Р Барт, Ж. Бодрийяр, Г Гадамер, Ю Кристева, Ч Моррис, Э Сепир, Ф де Соссюр, М. Фуко, У Эко, К Юнг; М Бахтин, Б Гаспаров, В Иванов, Г. Кнабе, Ю Лотман, А. Лосев, В Руднев, Ю Степанов, В. Топоров),
исследования в сфере мифа и мифопоэтики (работы С Аверинцева, М Бахтина, П. Гуревича, Е Мелетинского, 3 Минц, И Толстого, В Топорова, Б Успенского, Н Хренова, Е. Яковлева),
исследования в сфере культурных дискурсов (И Хейзинга, Ф Шлейермахер, М Малкольм, И.Кондаков, Л Абрамян, К Жигульский, Н Иониной, И Морозов)
Методологическая основа исследования обусловлена комплексным характером исследования и опирается на системный, структурно-семиотический, герменевтический, сравнительно-аналитический, биографический методы, а также элементы психоанализа, дискурсивного анализа и реконструкции при обращении к мемуарным источникам
Научная новизна диссертационного исследования определяется ма-лоизученностью избранной проблемы и заключается в целостном осмыслении повседневной культуры русской эмиграции «первой волны» в контексте мифосознания, что позволило впервые
представить опыт комплексного исследования морфологии повседневности в аспекте ее мифологической составляющей;
с опорой на мемуарные источники и обширный документальный материал охарактеризовать основные мифологемы повседневности и их репрезентацию в разных сферах жизни эмигрантов,
проанализировать фундаментальные пространственно-временные характеристики повседневного сознания русской диаспоры. »
Основные положения, выносимые на защиту
-
Культура русской эмиграции «первой волны» представляет собой совокупность взаимосвязанных текстов, знаково-символический комплекс которых позволяет восстановить картину мира диаспоры В рамках этой культуры первичным, безусловным, базовым является текст повседневности, сопряженный в своем функционировании с текстами искусства, религии, идеологии, науки и пр. Кардинальные сдвиги в сфере повседневности, связанные с изгнанием, привели к изменению диалога между текстами культуры русского зарубежья, разрушению и смещению границ повседневного и «внеповседневного» Характерной чертой быта/бытия русской диаспоры стала жизнь в «мутированной» (И Касавин) обыденности
-
В ситуации изгнания актуализировались мифологизированные типы самоидентификации творческой интеллигенции, отраженные в четырёх составляющих «эмигрантского мифа», эмигрант как Теург, созидающий мир по законам прекрасного, эмигрант как Мессия; эмигрант как последний Представитель, Хранитель и Продолжатель русской культуры, эмигрант как «страдающий гений», творящий «вопреки мучительному быту» (3 Шаховская) Реализация мифологизированных представлений на бытовом уровне приобретала искаженные черты конфликт идеальных устремлений творческой элиты и «возможностей» эмигрантской повседневности носил трагическое звучание
3. Процесс болезненного разрушения-распада повседневности и стремление к ее гармонизации и выходу за ее границы определили обращение эмигрантов к иррациональным или «масковым» формам сознания (сно-видческому, галлюцинирующему, празднично-игровому), что нашло отражение в мифологизации «образа страдающего тела» (знаки болезни, телесных мучений и др )
-
Локусом обыденной жизни диаспоры стала дестабилизирующая и дезориентирующая маргинальная зона «непринадлежности» и окраинности, сфера между Россией и не-Россией - Своим и Чужим миром Маргинальное сознание эмиграции определило особое - мифологизированное - восприятие пространства, что в знаково-смысловом поле мемуаристики выражалось в виде повышенного интереса к знакам-символам «пограничья», «рубежья», «распутья», «перекрестка», порога между пространством и «не-пространст-вом» (В Топоров), мифологизации обыденных реалий, связанных с местом и средствами передвижения (вокзала, корабля, поезда, такси).
-
Переживание изгнания как потери дома способствовало повышению семиотического статуса этой пространственной мифологемы: за рубежом, с одной стороны, актуализировались архетипические представления о доме, приобретая новое звучание (дом как защита, крепость, дом как семья/биологический род, дом как храм, дом как Родина), а с другой - формировались новые пространственные модели (кафе, клубы, редакции, общественные организации как символы «домашнего космоса»)
-
Повседневное восприятие времени в среде русской диаспоры отличалось от времени «привычной нормативной повседневности» (В Лелеко) В ретроспективном дискурсе мемуаров нашли отражение три (условно выделяемых) мифологизированных темпоральных модели циклическая (В. и И Бунины, 3 Гиппиус, А Гречанинов, Д. Мережковский, В. Ходасевич, М Цветаева), модель «остановившегося» времени (Б Божнев, Г Газданов, Б Закович, Д Кнут, А Ладинский, А Несмелое, Б. Поплавский, Г. Раевский, В Смоленский, Ю Софиев, Ю. Фельзен, Л. Червинская, А Штейгер, В Яновский) и «время апологии мгновения» (Н Берберова, А Дон Аминадо) Изменение временной оси координат способствовало закреплению в эмигрантском сознании представлений о значимости собственного личного существования и в то же время свидетельствовало о болезненном состоянии русского рассеяния
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в расширении концептуально-методологического ракурса изучения культуры в обращении к повседневной культуре как системе, а также в построении мифосемиотической модели восприятия, интерпретации и анализа текста повседневности.
Практическая значимость работы обусловлена её междисциплинарным характером и состоит в том, что результаты исследования могут быть полезными для историков, социологов, психологов, филологов и других специалистов, изучающих функционирование русской диаспоры в различных странах мира и на разных исторических этапах Отдельные наблюдения могут быть использованы для изучения эмиграционных и миграционно-адаптацион-ных процессов в их повседневном проявлении. Материалы диссертации могут быть положены в основу учебного курса «История повседневности», разделов курсов по истории и теории культуры и литературы, философской и культурной антропологии, перспективной видится разработка междисциплинарных спецкурсов по проблематике диссертационного исследования.
Апробация работы Основные положения диссертационного исследования были представлены на научных конференциях в Москве («На рубеже эпох, стиль жизни и парадигмы культуры» - 2005 г, 2006 г; «Ценности общества и ценности интеллигенции» — 2006 г.), Кирове («Повседневность как текст культуры» - 2005 г , «Культурологические штудии» - 2005 г, 2006 г ) и изложены в 7 научных публикациях Текст диссертации обсуждался в Вятском государственном гуманитарном университете на кафедре культурологии и рекламы
Структура и объём диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии, включающей 328 наименований Общий объём работы - 175 страниц
Культура эмиграции как совокупность текстов: теоретические предпосылки исследования
Методологическая основа настоящего исследования базируется на положении о том, что культура эмиграции «первой волны» - это текст, «спектр текстов» (Ю.Лотман), совокупность текстов, интерпретация знаково-символических составляющих которых позволяет восстановить картину мира, формирующуюся в границах этой культуры. Подход к культуре диаспоры как к тексту соответствует методологическим тенденциям современного «текстоцентричного» гуманитарного знания1 и базируется преимущественно на теории текста семиотико-культурологического уровня обобщения .
Культура эмиграции определяется нами как текст в силу объединения системой культурных кодов. В соответствии с концепцией тартуско-московской школы понятие «текст культуры» используется для обозначения «корпуса смыслосодержащих артефактов, выраженных как в вербальной, так и в иной форме, важнейшим свойством которых является принципиальная возможность их интерпретации (распредмечивания смыслов)»1. Иными словами, признаком, условием текста культуры является его закодированность - наличие кода или «некоторого множественного пространства кодов»2. Код понимается нами, вслед за Ю. Лотманом, как знаковая система, то, что по смыслу близко термину «язык» и отличается от него лишь тем, что «"код" психологически ориентирует нас на искусственный язык, ... идеальную модель языка вообще», тогда как «"язык" бессознательно вызывает у нас представление об исторической протяженности существования»3; «если код не предполагает истории, то язык, напротив, можно интерпретировать как "код плюс его история"» . Код и текст культуры соотносятся так, как язык и речь друг с другом; при этом «язык есть нечто вполне определённое в разнородном множестве фактов речевой деятельности», язык - это «социальное» в отличие от «индивидуального» речи, «существенное» - в отличие от «побочного и более или менее случайного»5.
Текст культуры эмиграции «зашифрован» с помощью целой серии взаимозаменяемых кодов, обусловленных онтологией изгнания. По мнению Н.Осиповой, текст культуры эмиграции представлен «системой культурных кодов ... - пространственных, предметно-функциональных, чувственных и т.д.» . На более узком уровне они могут реализовываться в таких культурных оппозициях, как «своё/чужое, звук/беззвучие, слепота/зрение, дом/бездомье, дорога/бездорожье, знаки телесного кода (боль, мучения, раны), «минус-пространства» (лабиринт, пустота), «минус-времени» (в том числе и времени года), одористические характеристики» и пр.
Пространство единого текста культуры русского зарубежья складывается из целого спектра взаимосвязанных текстов, представляющих собой различные сферы человеческого бытия. В рамках этого пространства первичным и безусловным для всех людей является текст повседневности, сопряженный в своем функционировании с текстами искусства, религии, идеологии, науки и пр. Иными словами, повседневность выступает базовой формой мира человека, преобладающей сферой реальности, в которой человек находится большую часть времени, и необходимой предпосылкой всех над-, вне-, сверхповседневных форм людской жизнедеятельности1. В. Лелеко объясняет это тем, что «повседневная жизнь непосредственно дана человеку как единственная среда его обитания, по поводу которой не возникают вопросы, сомнения, которая, как правило, не создаёт для него каких-либо проблем» . Повседневность как фундаментальная категория человеческого мира рассматривается нами, вслед за западными (Ф. Арьесом, Ф. Броделем, Ж. Ле Гофф и др.3) и отечественными (И. Касавиным, Г. Кнабе, Ю. Лотманом, А. Магомедовой, С. Щавелем4) исследователями, как совокупность повседневной реальности (относительно неизменного и привычного целесообразного мира практической деятельности, в котором правит здравый смысл) и повседневного сознания (сознания, подчиненного коллективным социально-психологическим структурам - архетипам). Таким образом, под повседневностью в диссертации понимается всё каждодневное, повторяемое, в основном привычное, хорошо знакомое, обычное, традиционное, ожидаемое, «естественное», единственно возможное, самоочевидное, вполне понятное (на уровне здравого смысла и личного опыта) и поэтому совершаемое полу- и даже вовсе бессознательно, на уровне автоматизированного навыка, стереотипа сознания или интуиции. Причем, вслед за И. Касавиным и С. Щавелем, в диссертационном исследовании разводятся родственные понятия «повседневность» и «быт», под которым понимается уклад жизни, «с преимущественным вниманием к её материально-телесной стороне»1. Повседневная культура осмысляется как культурно-психологический фактор, связанный с ощущением человека себя в быту.
Другие культурные тексты эмиграции (искусство, религию, идеологию, науку и пр.) мы рассматриваем и как результат творчества Homo trivialis (человека обыденного), и одновременно как выход за границы вседневного.
Являясь предпосылкой и перспективой внеповседневных событий жизни, обыденность не оказывается замкнутой в себе. Повседневность, искусство, религия, идеология, наука и другие формы человеческого бытия вступают друг с другом в диалог2. Взаимопроникновение и взаимовлияние повседневности и обозначенных сфер бытия происходит из-за неспособности человека существовать в рамках одной реальности. Живя в мире повседневности, «мире человеческом» (М. Бахтин), индивид, как правило, ощущает себя «недостаточным существом» (А. Гелен). Он жаждет обретения счастья, которое связывает со сверхповседневным миром идеала, высоких идей, «миром божественным» (М. Бахтин), миром, воссоздающим желаемое единство личности. Причем, отмечает И. Хейзинга, «чем глубже отчаяние и разочарование в неурядицах настоящего, тем более сокровенна жажда ... некоего более прекрасного мира»1. М. Бахтин добавляет, что чем гениальнее художник, тем больше пропасть между «божественным» и «человеческим». А чем выше градус противоречий между мирами, тем необходимее становится потребность вырваться из быта в истинное бытие.
Результатом поиска «целостной самости» (И. Касавин) являются разные направления повседневной ориентации. Обустраивание и совершенствование бытового пространства как вариант контакта жизнедеятельности и идеала часто неспособно в полной мере воплотить высокие идеи. «Опрокидывание» идеала в быт во многих случаях сопровождается его снижением, искажением, даже уничтожением. В результате конфликт «прекрасного мира» и «человеческого» не снимается.
Другой путь вынуждает человека выходить за рамки обыденного и обращаться к «неординарным состояниям ума и души» . Художественное творчество, религия, наука и многие другие виды деятельности и коммуникации - вот те сферы, которые, «будучи часто незаметно вкрапленными в структуры повседневности, образуют возможность выхода за её пределы» , являются окнами в «божественные миры». Повседневность при этом «поднимается» к идеалу, мифологизируется, семиотизируется («мутирует»4) и преодолевается. Таким образом, диалог текстов культуры за счет «информационно-энергетического обмена»5 способствует восстановлению желаемой гармонии в сознании, делает обыденность значимой, осмысленной, одухотворенной и предотвращает окостенение и вырождение данной культуры.
Стоит отметить, что кардинальная ломка повседневности в ситуации изгнания привела к усилению и изменению диалога между текстами культуры. Границы между повседневностью и творчеством, повседневностью и религией, религией и искусством и пр. разрушались или происходило их смещение. Например, судя по воспоминаниям рассеяния, каждодневное бытие эмигрировавших художников сводилось к постоянному творческому процессу (диффузия сфер человеческого бытия); религия, в культуре Серебряного века «переплетённая» с бытовой повседневностью, в эмиграции стала переживаться как сфера праздника (сдвиг в диалоге текстов культуры) и т.д.
В изучении повседневности, её диалогового взаимодействия с небудничным большое значение имеет использование мемуарных источников. Так, по мнению А. Николюкина, мемуары являются «незаменимым источником», «важным подспорьем и импульсом» исследований каждодневного, «реалий ушедшего времени, вкусов, нравов, обычаев»1. По словам Г. Елизаветиной - произведениями, ярко раскрывающими «дух и понятия» вспоминаемого времени. В связи с тем, что настоящая диссертация связана с анализом мемуарной литературы, а мемуаристика разными исследователями определяется неоднозначно, представляется необходимым уточнить смысловое наполнение этого термина.
По мнению источниковедов, мемуары являются разновидностью документальной литературы, наряду с дневниками, записными книжками, личной перепиской, автобиографиями, исповедью . В отдельных работах мемуары рассматриваются как родовое понятие всех документальных источников личного происхождения4.
Русская эмиграция: между праздником и повседневностью
Анализ мемуаристики - воспоминаний Дон Аминадо, И. Бунина, Ю. Терапиано, Н. Берберовой, И. Одоевцевой, К. Парчевского, Е. Менегальдо, А. Седых, А. Князева, Е. Медведевой, В. Андреева, Р. Гуля, А. Ремизова и др. -свидетельствует о том, что характерной чертой быта/бытия русской диаспоры было стремление преодолеть рутину повседневности, в том числе через обращение к праздничному сознанию. А. Ремизов метафорически отметил это уже в первой половине XX века: «Кроме такого "схватило за сердце", - писал он Н. Кодрянской, - есть еще ... "веселость духа", радость жизни, несмотря ни на что. И про это я знаю»2. А. Алфёров признавался, что «прячась от себя всё дальше и глубже, мы приучились жить одним лишь уголком души: где можно забыть - забудем, где можно порадоваться - порадуемся (даже где и нельзя)» . Ориентация индивида в повседневности на праздник - неотъемлемая черта человеческого бытия. И. Хейзинга, М. Бахтин отмечали, что человек в поисках «целостной самости» (И. Касавин), как правило, выходит за рамки обыденного и обращается к неординарным состояниям ума и души. Одним из возможных окон в «божественные миры» и является праздник - феномен, способный разрывать бытовое пространство и прорываться сквозь привычное время. В возникающем праздничном отрезке, свободном от обыденного, человек вступает в «пространство Высоких Смыслов»4, «утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия»5, утверждает собственные ценности и через все это «обретает желаемые возможности самого себя»1. В подобном диалоге повседневности и праздника в отграниченном пространстве у эмиграции возникли собственные, отличные от стран-реципиентов и Советской России, формы праздничного сознания: привычные отношения между праздничным и обыденным разрушились. «Я» рассеяния выстроило нужный для осуществления «блокированных» обыденностью желаний и переживаний праздничный мир, нередко придавая и категориям быта настроение праздничности.
В рамках нового повседневного пространства отдушиной для эмигрантского сознания стали, прежде всего, торжества-чествования классиков русской литературы, искусства и науки. В связи со значительным количеством исследовательской литературы о праздновании на чужбине знаменательных дат из жизни и творчества «корифеев» русской культуры2 лишь отметим, что начавшая складываться с дореволюционных времен культура чествования русских классиков обрела в эмиграции новое звучание. По мнению М. Раева, в эмиграции пробудилось «живое чувство Пушкина и живая любовь к нему» . См. у Е. Сергеева: «Всё в нас заглушает чувство необычайного торжества и гордости: у нас был, у нас есть Пушкин, он у на есть уже 100 лет!»4. По словам Е. Менегальдо, в то время как большая часть эмиграции самозабвенно предавалась культивированию пушкинских дат, «парнасцы» особо почитали Дни Достоевского и Лермонтова5. Кроме того, празднично отмечались в изгнании торжества, посвященные В. Жуковскому, Л. Толстому, Н. Гоголю, И. Тургеневу, Ф. Тютчеву и А. Фету, А. Чехову. К празднованиям повсеместно устраивались пушкинские, лермонтовские, тютчевские и прочие собрания, выставки, вечера и концерты, создавались и ставились балеты на сюжеты чествуемых художников, писались и исполнялись музыкальные произведения на их слова, издавались произведения, в том числе и не издававшиеся никогда рукописи и портреты. Например, 19 ноября 1920 г. в Обществе русских артистов на литературном вечере, посвященном памяти Л. Толстого, звучали отрывки из произведений писателя в исполнении Т. Оксинской, Л. Гурно, В. Белоусова, г-на Дена и др.; 21 мая 1933 г. в Союзе русских писателей и журналистов на литературном вечере к 50-летию И. Тургенева праздничная программа включала вступительное слово Б. Зайцева и А. Ремизова, сообщения Ю. Сазоновой «Тургенев и мы», И. Сургучева «Что слышал я о Тургеневе от Савиной», выступление К. Бальмонта, чтение произведений Ивана Сергеевича А. Ремизовым («Живые мощи»), кн. С. Волконским («Стихотворения в прозе»), Н. Берберовой (отрывки из «Клары Миличи»)1. Газета «Последние новости» за 1921 г. сообщала о ежемесячно устраиваемых редакцией сборников «Дети -детям» литературных утренниках для детей на темы «А. С. Пушкин» (13 февраля), «М. Ю. Лермонтов» (13 марта), «Н. В. Гоголь» (10 апреля), «И. С. Тургенев» (8 мая) и пр. С. Лифарь писал, что ко Дню русской культуры и столетию со дня смерти поэта в изгнании было образовано 166 Пушкинских Комитетов, возглавляемых Центральным парижским. Атмосфера возвышенной праздничности, которую изгнанники испытывали во время чествования классиков, была вызвана, на наш взгляд, возможностью творить в них идеально-желаемый образ самих себя как Наследников, Хранителей и Продолжателей лучших традиций многовековой русской культуры. В ситуации праздника фактом эмигрантского времени становились сюжеты признания, а не трагического и бессмысленного времяпрепровождения. И. Шмелев на собрании Пушкинского Комитета в столетний юбилей смерти Александра Сергеевича торжественно заявил по этому поводу: «Пушкин во мраке нашем свет озаряющий, и вековая с ним встреча наша, заветная. ... И.. .мы - снова мы, на заре жизни нашей»1.
Ещё одной значимой формой праздника для эмигрировавшей интеллигенции стали важные события собственной юбилеи творческой деятельности, банкеты издательств, концерты, поэтические вечера, дни премьер, спектакли, балеты, выступления, художественные выставки. С каждым годом потребность в подобных празднествах увеличивалась. По нашим наблюдениям, если в начале эмиграции - в 1920 г. -в газете «Последние новости» сообщалось о более ста таких «выпадениях» из повседневной традиции, то в 1933 г. их количество возросло в шесть раз. Как свидетельствуют воспоминания диаспоры, наиболее репрезентативными праздниками были дни присуждения И. Бунину Нобелевской премии, чествования его в театре Шан-з-Элизе и приема в редакции «Последних новостей» 15 ноября 1933 г.; 25-летие литературной деятельности Б. Зайцева; 70-летиие А. Ремизова; 20-летие сценической деятельности популярного артиста М. Максина (Пфейффера); 60-летие со дня рождения и 40-летие творческой и артистической деятельности С. Рахманинова; 75-летие журналиста и театрального критика А. Плещеева; концерты Парижского симфонического оркестра, Русского симфонического оркестра, Русской консерватории, Русской нормальной консерватории, Русской консерватории РМОЗ, Российского музыкального общества, ансамбля «Домра», украинского вокального дубль-квартета, трио «Маринель», Ф. Шаляпина, А. Вертинского, С. Рахманинова, С. Лифаря, А. Рубинштейна, М. Спиридович, О. Бодалева, А. Браиловского, А. Боровского, камерной певицы В. Жанакопулос, певца В. Браминова, композитора-пианиста В. Вред єна, пианиста М. Левицкого, скрипача А. Белоусова, баса Л. Сибирякова, баритона К. Балашова многих других. Кроме того - спектакли Русского драматического театра, «Летучей мыши» Н. Балиева, детской студии А. Смоленской «Снежинка», Еврейского театра Лахтигера, Интимного театра Д. Н. Кировой, Русской камерной оперы, Русского артистического кружка, театра Мютюалите, Пражской группы МХТа, Балета 1933, Театра Г. Питоева, Виленской труппы; литературные собрания - вечера молодых поэтов Б. Божнева, Б. Поплавского и А. Ладинского, Д. Кнута, вечера В. Ходасевича, М. Цветаевой, И. Бунина, А. Ремизова, К. Бальмонта, А. Штейгера, В. Смоленского, Армянского литературного общества, «Вечер поэзии», устраиваемый «Числами», Вечер философской поэзии и философской повести Б. Гуревича, Вечер писательницы кн. О. Бебутовой, собрания Союза русских писателей и журналистов, Вечера чтения и разбора стихов Объединения поэтов и писателей и т.п. Среди балетов особенно празднично переживались балеты студии А. Смоленской, Русского балета Монте-Карло, Детской балетной студии И. Вырубовой; среди утренников и вечеров - вечера в домах Цетлиных, Мережковских, Буниных; ежегодные артистические «утра» кн. В. Барятинского; Вечер Древней Руси (IX - XII вв.); литературно-артистический вечер, устраиваемый артисткой В. Костровой; вечера сказительницы Ю. Кутыриной, редактора-издателя детского журнала «Огоньки»; вечера композитора и гусляра А. Котомкина. Среди вернисажей выставок художников - выставки А. Ириса, Г. Шильтяна, В. Констан, К. Редько, И. Рыбака, И. Пуни, Л. Манд ель, А. Дивова, В. Бобермана, А. Грищенко, Н. Глущенко, X. Грановского, А. Чеко-Потоцкой. Кроме того -премьеры фильмов («Дон Кихота», в главной роли Ф. Шаляпин); базар-выставка произведений прикладного искусства русской эмиграции во Франции, устраиваемый кн. В. Мещерской; торжественные акты к началу занятий в русских университетах, школах и детских садах. Наконец - банкеты «Иллюстрированной России», «Последних новостей», «Возрождения», «Часового» и особенно самый многолюдный и самый торжественный из всех праздников - банкет «Современных записок» 30 ноября 1932 года, куда было приглашено несколько сот человек.
Семантика границы в системе пространственных координат русской диаспоры
Наблюдения над знаковым восприятием повседневного пространства русской диаспоры показывают, что творческая интеллигенция за рубежом бытовала/бытийствовала в состоянии «пограничья», «рубежья», «распутья», «перекрёстка», на стыке пространства и не-пространства (В. Топоров). Изгнанные из родных просторов и нежелающие ассимилироваться в культурный ландшафт стран-реципиентов, художники-эмигранты оказались на грани перехода между Своим и Чужим, то есть между «нашим», «культурным», «безопасным», «гармонически организованным» пространством и «их-пространством», «враждебным», «опасным», «хаотическим». Пограничная, переходная, маргинальная сфера, зона непринадлежности, окраинности стали локусом обыденной жизни. Если в древней мифологической традиции мировой культуры одним из свойств пространства была его отдалённость от Хаоса1, то в изгнании повседневным пространством стал некий порог между Этим и Иным миром, между Космосом и Хаосом, Верхом и Низом, жизнью и смертью. По словам В. Ходасевича, изгнанники оказались неприкаянными скитальцами: они, как Каин около моря и поездов - нигде не могущий найти приют, «раскаиновение», вынуждены были мытарствовать, «как мул с поклажей, слоняться по нашим дням», дрожать, «как муха на бумаге липкой», слоняться за бездомным псом, который вскоре затеряется в приморском мраке2. Б. Поплавский признавался, что на чужбине испытывал чувство «моральной дихотомии»: «Я чувствую (в) себе не смешение тьмы и света, добра со злом, но две равные и обе совершенно абсолютные бездны морали и аморальности, из глубины каждой из коих ... вылетает готовое обоснованное суждение, оправдывающее всякое моё достоинство»3. В культурном сознании интеллигенции в эмиграции востребованными стали древнейшие смыслы архетипа границы и её разновидностей - перекрёстка и распутья, то есть развилки дорог.
Граница в традиционных представлениях - это пространственный рубеж, разделяющий «свой» и «чужой» мир4; этап перехода из одного мира в другой; межа, отделяющая нечто от иного и в то же время объединяющая их, становящая основой их связи5. По словам Д. Пивоварова, граница по своей природе парадоксальна: она всегда неопределённа и амбивалентна: «Эта существенная, истинно диалектическая двойственность указывает на то, что именно неопределённость и есть то, что составляет качественную определённость пограничного бытия»1. По мнению Гегеля, любая граница изначально противоречива, так как в ней «рефлектированное в себя отрицание (данного) нечто содержит в себе идеально моменты нечто и иного, и в то же время они как различенные моменты положены в сфере наличного бытия, как реально, качественно различные», в ней одновременно содержится «внутри-себя-бытие» и «бытие-для-иного» . Жизнь в рамках онтологически противоречивой границы, в пограничном пространстве приводит к маргинализации сознания, формирует маргинала (лат. margo - край, граница) -«иммигранта, полукровку, живущего "в двух мирах"» , «путешественника, скитающегося по ничейной земле и ищущего места для остановки» , «неполноправного участника»5 социальных миров, между которыми он находится. Положение маргинала, человека в промежуточном, окраинном пространстве, по мнению исследователей, исключительно напряженное состояние и потенциально является источником невротических симптомов, тяжелых депрессий.
Перекрёсток в древнейших представлениях осмыслялся как место пересечения дорог, как одна из границ вне своего родного пространства. Распутье ассоциировалось с разъединением и выпроваживанием за рамки обжитого локуса. Причем мифологическая семантика перепутья амбивалентна6. Традиционно считается, что пересечение дорог - сакральное место, но в то же время и наиболее опасное место, средоточие демонических сил, связующее звено с потусторонним светом, место душ умерших некрещеных младенцев, висельников, утопленников, ведьм, колдунов, территория господства русалок-«мавок», демонов и прочей нечистой силы, которая сбивает с пути путника, заставляет его настороженно блуждать-мучаться и даже - приводит к порогу смерти.
В мемуаристике рассеяния, актуализировавшей смыслы границы и перекрёстка, востребованными стали такие символы-знаки пространственного рубежа, распутья, переправы, как вокзал, корабль, поезд, такси.
«Чемоданный» образ жизни интеллигенции за рубежом способствовал тому, что вокзал на чужбине стал повседневным пространством эмиграции. Вокзальное пространство - фактор, формирующий «вокзальное существование» интеллигенции: чувство «пересадочной станции», «зала ожидания» не покидало беженцев. «Всё это остановка на пересадочной станции в ожидании нужного поезда, не больше»1, - писал по этому поводу Ф. Завада в статье «Русский Париж». Б. В. в №31 газеты «Возрождение» за 1926 г. свидетельствовал, что вокзал - это «этап почти всех русских, приезжающих в Париж» , Ф. Завада в №50 - что «Рено... Ситроэн... Вокзалы... Это, обыкновенно, три кита, на которые ... опираются новички»3.
Вокзал, по мнению исследователей, - это новая мифологема, появившаяся в XX веке в результате «ассоциативных смещений» и являющаяся «наследником традиционных культурно-мифологических символов» . Н. Осипова отмечает, что «ёмкий культурный символ» вокзал означает «некую грань, за которой - разлука, смена пространства, окружения, перенесение в иной мир», антихрам, «анти-центр, вариант земного хаоса, гибельности, безнадёжности»: «И храм, и вокзал предполагают наличие толпы, но если храм призван управлять этой разрозненной толпой и гармонизировать её, то хаос вокзала с его смешением концов и начал, какофонией звуков и непрерывного беспорядочного движения приводит к дисгармонии и психологическому ощущению близости конца и катастрофы»1.
Анализ вокзальной символики в воспоминаниях русской диаспоры показывает, что в сознании изгнанников актуализировалась «цепь» смыслов:
1) вокзал - опасное и дезориентирующее, деструктурирующее, разрушающее психику маргинальное, пограничное пространство - «ядовитая и нездоровая атмосфера»2 (темнота, духота и теснота, грязь, шум и гам, суета, пошлость и невежество коренных жителей, жестокие убийства, изощрённое воровство, мучительные пытки, безвкусие, искусственность, ложь в повседневной жизни);
2) вокзал-перекрёсток - крест - скрещенные кости - «конец пути». Так, Н.Вернадская при описании небольшого американского университетского городка Нью-Хэйвена, С. Бертенсон - Голливуда, Л. Нелидова-Фивейская -«неумолчного» Нью-Йорка, Ф. Завада, Е. Ратнер - Парижа, Н. Берберова -Берлина подчеркивали царящие в этих городах шум, гам и суету, отсутствие спокойствия, панику, ощущение вокзального хаоса и верховодья злых сил. Подобные характеристики-знаки повседневного пространства отсылают к символике границы и перекрёстка, на которых, по славянским поверьям, происходят сезонные сборища-шабаши ведьм, чертей, леших, «танцует» вихрь3, а Соловей-разбойник преграждает дорогу Илье Муромцу .
Манящий блеск заграничных столиц мира показан эмигрантами в мемуарах как «поддельный и бутафорский, как в фильмах» , как обман нечистой силы, пытающей завести путников на бездорожье. Мировые столицы воспринимались диаспорой как места ложных, фальшивых, неистинных ценностей. Даже если у кого-то из эмигрантов возникало «влечение к Парижу», разочарование не заставляло себя ждать: Париж оказывался «чужим, нудным, холодным и бездушным» . Например, анализ воспоминаний свидетельствует о том, что заграничные города произвели первое впечатление на И. Одоевцеву, М. Германову, В. Павлову, А. Ремизова и его жену С. Ремизову-Довгелло как райские места изобилия, переполненные едой, модной одеждой, изысканным парфюмом, завораживающими яркими витринами бесчисленных магазинчиков. В. Павлова, например, писала: «И вот, наконец, Эйдкумен - Германия! Все формальности закончены, мы вышли в буфет и сели за круглый деревянный, ничем не покрытый стол. Довольно угрюмый кельнер принёс сосиски и пиво. Вот он, тот момент, о котором как о недостижимом счастье мечтал Саша в Темис-Су. Сосиски были чудные, пиво тоже» . Однако первоначальное наслаждение вскоре было оценено русскими художниками как мимолётное, эфемерное, словно вышедшая из могилы ведьма или русалка на перепутье сбили их с пути. Так, для А. и С. Ремизовых ожидаемый «санаторий для восстановления сил» обернулся на чужбине местом нищеты, холода и голода. Уже в октябре 1921 г. Алексей Михайлович писал Л. Шестову из Берлина, что ему тут всех жалко («Все, как нищие без надежды поправиться»). Кроме того, восприятию чужих стран как мест обмана и верховодья злых духов способствовали многочисленные случаи воровства и шулерства за границей. В русских эмигрантских газетах того времени почти в каждой «Хронике» появлялись сообщения о мошенниках и кражах типа «Пойман 18-летний вор-маляр в ванной Рене Бенуа» (16 июня 1925 г.), «Грабежи 1)на улице Шово-Лагардь, 2)у г-жи Пах, 3)на авеню В. Гюго у торговца шляпами Дюбюиссона» (26 июня 1925 г.), «Ради 30 франков ограблена г-жа Шарпантье» (29 сентября 1926 г.) .
Модели повседневного времени русской диаспоры
Воспоминания творческой постоктябрьской эмиграции свидетельствуют о том, что российская диаспора не пожелала жить временем Европы и противопоставила историческому времени время своего собственного сознания. Потребность в изменении временных значений вызвана, на наш взгляд, ситуацией изгнанничества как выключенности из жизни: отсутствие привычного пространственно-временного континуума России и нежелание ассимилироваться с европейским, лишенным идеала, компенсируется созданием временной оси координат, в которой личностное время обретало бы смысл.
Наблюдения показывают, что во временной изоляции в мемуаристике рассеяния актуализировались три основные концепции повседневного времени. Условно можно обозначить их как 1) циклическая модель времени; 2) концепция «остановившегося» времени; 3) «время мгновения». Условны не только названия временных моделей, но и их выделение: четкой, однозначной границы между концепциями хроноса не существовало. Исторические, культурные, возрастные изменения влекли за собой изменение темпорального сознания эмигрантов. Кроме того, всю русскую диаспору отличало общее особое ощущение времени: в эмигрантской среде актуализировалось «мутированное» (И. Касавин, С. Щавелев) чувство времени, отличное от времени «привычной нормативной повседневности» (В. Лелеко). В. Лелеко, исследуя западноевропейский обыденный хронотоп, отмечает, что время повседневности - это настоящее, ориентированное на ближайшее - исчисляемое днями - прошлое и будущее (вчера, позавчера, завтра, послезавтра). «Своеобразие повседневной темпоральности в том, -пишет он, - что повседневность есть развитое, себедовлеющее, самоценное настоящее. ... Находящееся рядом прошлое и будущее осмысляется с точки зрения настоящего ... . В тенденции имеет место редукция ближайшего прошлого и будущего к настоящему, превращение настоящего в постоянно длящееся» .
В изгнании на временной оси «прошлое - настоящее - будущее» произошло смещение актуальности времен. Связь времени разрушилась: у большинства эмигрантов в воспоминаниях, дневниках и письмах присутствует мотив бунта против настоящего исторического, сопротивление его ходу и, как следствие - мотив предпочтения прошлого и будущего времен сегодняшнему дню. Показательны в этом отношении воспоминания Н. Берберовой. О многих представителях своего поколения она писала как об «ушибленных» настоящим временем: «У всех у них была великая способность плыть против течения при полном отсутствии таланта жить в меняющемся времени» . М. Цветаева в письмах и воспоминаниях также неоднократно подчеркивала собственную несовременность: «Я ненавижу свой век и благословляю Бога ... , что родилась еще в прошлом веке» , «СВОЕГО времени я не люблю, не признаю его своим»4. Или: «Эпоха против меня не лично, а ПАССИВНО, я - против нее - АКТИВНО. Я ее ненавижу, она меня - не видит»5, «ибо мимо родилась времени»6.
Эмигрантскому сознанию преимущественно «старшего поколения» импонировала циклическая модель времени. Как свидетельствует мемуаристика, в рамках циклической концепции времени для сознания диаспоры значимой была архаическая абсолютная обращённость в прошлое, правда, в прошлое своей собственной жизни. В. Набоков в воспоминаниях «Другие берега» отмечал: «Безграничное, на первый взгляд время, есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы - моего младенчества»1. Континуум за рубежом оказался разорван, образована пропасть между существующим «до изгнания», «в дооктябрьской России» и существующим ныне «в эмиграции». Соотношение временных плоскостей оказалось равным формуле: дореволюционное прошлое - прекрасно, гармонично, идеально; настоящее -жизнь внутри свершившейся катастрофы; будущее - перевоплощенное прошлое, движение назад. Так, по мнению Н. Лапаевой, прошлое для М. Осоргина - это «идиллическое время» (И. Роднянская), «концентрирующее в себе теплоту, доброту, которые рождаются от общения с прекрасной природой Урала (очерк "В юности"), от атмосферы дружбы и любви, царящих в доме Ильиных ("Портрет матери"), от встреч с милыми его провинциальными чудаками»2. Сам писатель признавался, что образ русской провинции «рождает у него определённый эстетический тон, в котором преобладает гармоничное, ассонансное звучание»3. «Далёкое прошлое всегда - сказочная страна, - вспоминал он во "Временах". - Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать; но я беру не палитру и кисти, а набор цветных детских карандашей и приступаю к работе» . Непостижимость, непреодолимость настоящего исторического времени обусловили ценностное преобладание прошлого в обыденной жизни рассеяния. Показательно, что, по мнению многих эмигрантов, М. Цветаева «производила впечатление человека, не созревшего для осознания своих настоящих и будущих реакций»5; 3. Гиппиус «считала, что мы все (но не она с Дмитрием Сергеевичем) попали в щель истории, что свидетельствовало о её собственной глухоте к своему веку»1.
Акцентирование прошлого приводило вынужденных изгнанников к постоянным воспоминаниям о пережитом в дореволюционной России, к стремлению сохранить на чужбине свой ценный русский мир, с русской культурой и русским бытом, что, в свою очередь, породило феномен русских городов в Европе.
К будущему русская диаспора, ориентированная на циклическое времяощущение, обращалась, главным образом, в связи с раздумьями о судьбе России и о своей личной судьбе, что можно объяснить естественной духовной потребностью человека в познании далекого - в масштабе человеческой жизни - будущего. Однако, как было отмечено, движение вперед виделось эмигрантам «старшего поколения» в возвращении к дооктябрьскому прошлому. Будущее было направлено в значимое минувшее. Например, М. Цветаева часто говорила Ю. Иваску: «ЗНАЙТЕ одно: мне в современности и в будущем - места нет» , «я против нее (эпохи - Е. В.), я ее действительно ненавижу, все царство будущего, на нее наступаю - не только в смысле военном, но - нагой: пятой на главу змия» . В письме В. Буниной Марина Ивановна, графически выделив слова крупным шрифтом, подчеркивала неразрывную связь будущего с прошлым: «СЕГОДНЯ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ВЧЕРА, НЕ ИМЕЕТ ЗАВТРА»4.
Не принимая сегодняшнего дня, эмигранты с циклическим восприятием времени активно обращались к вечности. В. Набоков, пытаясь соединить личное с вечностью, «отказывался от своего лица», «мирился с унизительным соседством романисток», «терпел отчеты о медиумистических переживаниях», «рылся в своих самых ранних снах», «готов был стать единоверцем последнего шамана» - то есть, «кроме самоубийства, ... перепробовал все» . О «повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности» он писал следующее: «Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы ... , только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что я себя не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь» .
Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Ю. Терапиано считали, что только приобщение к непреходящим ценностям дает ощущение своей причастности к вечному. Потому многие «властители умов» пытались освободиться от оков настоящего времени повседневности и обрести бессмертие в памяти потомков через религиозно-мистическую практику, творчество, участие в масонских организациях.
Н. Бердяев в «Самопознании» философское осознание себя понимал как творческий акт, совершаемый в мгновение настоящего, но актуализирующий эпизоды или идеи прошлого для осознания в настоящем. Таким образом, полагал философ, преодолевается зависимость от времени и самопознание совершается во времени идеальном, т.е. вне времени - в вечности. Иными словами, в философской автобиографии мыслитель процесс самопознания трактовал как экзистенциональное прозрение, освобождающее личность от временного и обращающего ее к всеобщности и вечности. «Я решаюсь заняться собой, - писал он по этому поводу, - не только потому, что испытываю потребность себя выразить, но и потому, что это может способствовать постановке и решению проблем человека и человеческой судьбы, а также пониманию нашей эпохи»4.