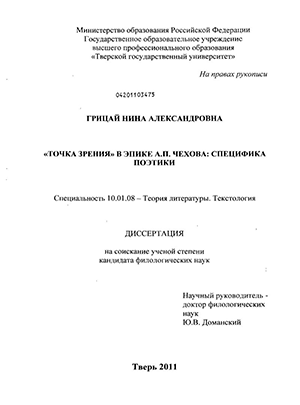Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Элементы художественного произведения и повествовательные категории 9
1. Автор и мир художественного произведения 9
2. Повествование 17
3. Событие как центральная категория повествования 25
4. Способы передачи чужой речи. Явление текстовой интерференции 31
5. Классификация «точек зрения» 53
6. Субъектно-объектные отношения в эпике А.П. Чехова 59
Глава 2. Способы выражения «точки зрения» в эпике А.П. Чехова 68
1. «Спутники» А.П. Чехова: приемы повествования 68
2. Заглавия в чеховской эпике и проблема «точек зрения» 86
3. Заглавие рассказа «Скрипка Ротшильда» в системе «точек зрения» 94
4. Система «точек зрения» в рассказе «Ведьма» 102
5. Традиция и новаторство повествования в рассказе А.П. Чехова «Палата №6» 109
6. Несобственно-авторское повествование в рассказе «Невеста» 122
7. Специфика «детских» рассказов А.П. Чехова 133
8. Пространственно-временной континуум пейзажей «маленькой трилогии» А.П. Чехова 142
Заключение 148
Библиография 153
- Автор и мир художественного произведения
- Событие как центральная категория повествования
- «Спутники» А.П. Чехова: приемы повествования
- Заглавия в чеховской эпике и проблема «точек зрения»
Введение к работе
Проблема «точки зрения» напрямую связана со спецификой повествования, которое соотносится с проблемой автора в художественном произведении. Именно поэтому в работе эти проблемы рассматриваются в комплексе.
В современном отечественном и зарубежном литературоведении все большее внимание уделяется изучению проблем повествования. Категории современной теории повествования сформировались большей частью в рамках русского формализма и Московско-тартуской школы (В.Б. Шкловский, Б.В. Томашевский, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский). Теорию повествования разрабатывали такие ученые, как В.В. Виноградов, В.Я. Пропп, А.Н. Веселовский, М.М. Бахтин, О.М. Фрейденберг. В западном литературоведении существует довольно мощная традиция изучения проблемы повествования, получившая название нарратологии. Она сложилась в русле структурализма в 1960-е годы и связана с именами таких ученых, как В. Шмид, Л. Долежел, Н. Фридман, Ф. Штанцель. В отечественном же литературоведении исследование повествовательных форм долгое время происходило в основном на уровне сюжета и композиции, тогда как речевой уровень оставался менее изученным.
Понятие «точка зрение» было введено Г. Джеймсом в эссе «Искусство романа» (1884) и подробно описано П. Лаббоком в «Искусстве прозы» (1921). У данного понятия существуют контекстуальные синонимы: перспектива, повествовательная перспектива, фокализация. «Точка зрения» разделяется на внутреннюю и внешнюю в соответствии со способом изложения событий и не всегда зависит от типа нарратора. Так, повествователь может быть «всезнающим» и передавать внутренние монологи персонажей, а может ограничиться лишь кругозором кого-то из героев, либо занять позицию стороннего наблюдателя. Повествовательные возможности рассказчика ограничены его кругозором, тем не менее и он способен изложить историю по-разному: либо с позиции не вовлеченного в нее наблюдателя, либо как участник событий. В первом случае «точка зрения» будет внешней, во втором – внутренней. Б.А. Успенский выстроил типологию «точек зрения» независимо от типа нарратора по четырем планам: оценки, фразеологии, психологии и пространственно-временной характеристики. Это основные признаки, по которым устанавливается принадлежность той или иной «точки зрения» тому или иному субъекту сознания.
Установление субъекта сознания, которому принадлежит «точка зрения» в повествовании, является одним из необходимых условий понимания произведения. Ведь само наличие и способ выражения «точки зрения» персонажа в тексте нарратора объясняет не столько явления фиктивного мира, сколько раскрывает неуловимые в другой ситуации особенности личности персонажа. В связи с этим важно определить, чье сознание воспринимает изображаемые явления вымышленного мира и кто является субъектом речи. «В эпическом тексте разные субъективные и субъектно-речевые планы повествователя, рассказчика, персонажей, в соотношении которых проявляется художественное содержание произведения, могут играть решающую роль».
Аукториальное повествование в эпике А.П. Чехова строится предельно безлично. Повествователь лишь исполняет функцию соединения элементов рассказа в одно, сам при этом не дает комментарии и не выражает оценку со своей стороны. Однако текст нарратора представляет собой сложную структуру с многоплановой системой «точек зрений» персонажей. Так, А.П. Чехов создает такое повествование, где на языковом уровне совмещаются объективная позиция стороннего наблюдателя (повествователь) и субъективное восприятие персонажа, включенного в изображаемую действительность. Такая редукция оценочной позиции повествователя, а значит, и отсутствие некоего направляющего сознания в произведении удивляла многих читателей нечеткостью, неясностью позиций. Именно такой «принцип неопределенности» лежит в основе не только приема повествования, но и всей чеховской поэтики.
Все рассмотренные проблемы актуальны для поэтики А.П. Чехова, во многом предвосхитившей модернизм. Чехов использует повествовательные приемы литературы XIX в., но у него эти приемы выполняют несколько иную, чем у предшественников, функцию. Также осуществляется иной подход к самому нарратору. Нарратор оказывается предельно обезличен и выступает с разных позиций, становясь носителем субъективной «точки зрения» персонажей. Такому повествованию способствует введение несобственно-прямой речи в повествование, которая еще до Чехова использовалась как зарубежными (Г. Флобер, О. Бальзак и др.), так и русскими (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др.) классиками. Но только у Чехова несобственно-прямая речь перестает быть лишь особым способом передачи речи, мыслей, внутреннего монолога персонажей, а становится собственно повествованием. Происходит это за счет отсутствия маркеров, стирания границ между речью и сознаниями нарратора и персонажа. Персонаж наделяется особым восприятием, которое имплицитно передается в речи нарратора, что позволяет говорить о несобственно-авторском повествовании.
В связи с особым совмещением «точек зрения» в эпике Чехова меняется и понимание события, на которое отсутствует единый взгляд, а следовательно, актуализация его затрудняется. Таким образом, картина мира в чеховских произведениях представляется неоднозначной, что и порождает множество интерпретаций.
Актуальность работы связана с ростом научного интереса к проблеме автора и теории повествования, а также с открытием новых возможностей интерпретации творчества А.П. Чехова; отчасти это связано и с поиском адекватных методологий исследовании чеховских текстов. Так, например, активно реализуются разные подходы к изучению творчества писателя: с позиции мифологических и архетипических категорий, коммуникативной стратегии, нарративных инстанций и композиционных приемов. Исследуемая в работе проблема «точек зрения» показывает усложнение субъектно-объектных отношений в произведениях А.П. Чехова и раскрывает новаторские элементы поэтики русского писателя.
Степень изученности темы. Теория повествования изучена достаточно полно как отечественными, так и зарубежными учеными. Эпика, как особый род литературы, изучалась с античности. Работы по исторической поэтике содержат исчерпывающие описания развития этого рода литературы и, как главной его категории, повествования. Проблема автора также подробно исследовалась и не потеряла свою актуальность сейчас, что доказывает существование разных концепций – от утверждения присутствия авторского сознания в художественном тексте до полного его отрицания. Категория «точки зрения» в этом отношении изучена меньше, к ней обратились только в конце XIX - начале XX века. В настоящее время специфика взаимодействия повествовательных категорий в чеховской эпике представляет особый интерес для исследователей. Однако описание функционирования «точек зрения» в эпике А.П. Чехова требует комплексного подхода, который в современных работах реализуется недостаточно. Между тем именно такой подход дает возможность наиболее полно рассмотреть взаимодействие разных повествовательных категорий.
Новизна работы заключается в попытке комплексного подхода при анализе эпических произведений А.П. Чехова. При рассмотрении чеховского нарратива на предмет выявления «точек зрения» учитываются разные уровни текста: категория событийности, тип нарратора, способы передачи чужой речи, субъектно-объектные отношения в плане совпадения субъектов речи и субъектов сознания.
Объектом работы являются эпические произведения А.П. Чехова как одного из знаковых писателей рубежа XIX-XX веков. Заявленный объект работы релевантен ее предмету, которым является категория «точки зрения» в эпике и способы ее выражения.
Целью работы является рассмотрение эпических произведений А.П. Чехова в аспекте выражения «точки зрения» через анализ и описание способов взаимодействия разных повествовательных инстанций и выявление особенностей субъектно-объектных отношений.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
– описать теоретические понятия: автор, нарратор (повествователь, рассказчик);
– описать категории повествования: событие, «точка зрения»;
– описать явление текстовой интерференции и показать ее связь с субъектно-объектными отношениями в тексте;
– проанализировать способы «включения» «точки зрения» персонажа в текст нарратора.
Методологической основой работы является комплексный подход, сочетающий в себе исследования по исторической поэтике (С.Н. Бройтман), концепцию структуры текста (Ю.М. Лотман), концепцию автора (М. Фуко, Р. Барт, А. Компаньон, Б.О. Корман), исследования по теории повествования (Е.В Падучева, В. Шмид), типологию «точек зрения» (Б.А. Успенский), концепцию субъектно-объектных отношений (Б.О. Корман), концепцию парадигм художественности и, в частности, парадигмы неклассической художественности (В.И. Тюпа).
Практическая значимость заключается в возможности использования материалов и результатов исследования при подготовке курсов истории и теории литературы, специальных курсов по теории прозы и творчеству А.П. Чехова.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Автор в чеховской прозе как повествовательная инстанция находится вне времени и пространства действия и вне времени и пространства повествования (стоит за событиями произведения, за процессом рассказывания о них), персонаж – во времени и пространстве действия, нарратор – во времени и пространстве повествования и может быть непосредственным участником событий рассказываемой истории.
2. Суть повествования состоит в двоякой событийности: референтной и коммуникативной; последняя включает два события: событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания.
3. Формой и механизмом взаимодействия речи изображающей и речи изображенной в произведениях А.П. Чехова является текстовая интерференция, способствующая стиранию границы между речью нарратора и «чужой» речью персонажа, между речью изображенной и изображающей.
4. Текстовая интерференция способствует формированию многоплановового повествования и ослаблению роли нарратора как объективной инстанции; многоплановость повествования создается за счет смешения и совмещения различных «точек зрения» в повествовательном тексте.
5. «Точка зрения», актуализирующая событие, является центральной категорией повествования.
6. Смешение «точек зрения» в тексте нарратора в рассказах А.П. Чехова и прозе его современников реализует в чеховском тексте «принцип неопределенности», обусловливающий максимально глубокое проникновение сознания персонажа в речь нарратора, взаимообратимость позиций нарратора и персонажа.
7. В системе внутритекстовых дискурсов определяющую смысообразующую роль выполняют повествовательные фрагменты, содержащие позицию не только нарратора, но и персонажа.
Апробация. Отдельные части диссертации обсуждались на аспирантских семинарах кафедры теории литературы Тверского государственного университета, а также на международных конференциях: «Молодые исследователи Чехова» (Москва, 2005), «Чеховские чтения в Ялте: актуальные вопросы чеховедения» (Ялта, 2006), школа «История – политика – культура» (Варшава – Краков - Вроцлав, 2007), школа «Молодые исследователи Чехова» (Мелихово, 2008), «Чеховские чтения в Ялте» (Ялта, 2009), «Чеховские чтения в Ялте» (Ялта, 2011).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
Автор и мир художественного произведения
Произведение литературы, как и любое произведение искусства, является сложным образованием. Существуют разные подходы к его изучению. Так, например, Е. Фарыно утверждает, что «художественное произведение являет собой материальную вещь» и от автора «не требуется, чтобы он заранее создавал предмет искусства, - такое отношение к предмету требуется лишь от воспринимающего субъекта)/. Но существует и другое понимание природы художественного произведения. В.И. Тюпа называет его «плодом сверхиндивидуального и вневременного творчества». В художественном произведении воплощены «интенциональные намерения творческих актов автора или перцептивных актов, слушателей» . В соответствии с этими взглядами на художественный текст существуют и разные подходы к проблеме автора.
Ярким примером может служить спор, вызванный работами Р. Барта «Смерть автора» (1968) и М. Фуко «Что такое автор» (1969). Барт утверждает, что текст не несет в себе никаких авторских замыслов, намерений. Автор понимается им только как скриптор, субъект, создающий текст в грамматико-лингвистическом смысле и исчезающий после его создания. А смысл текста непосредственно связан с читательским восприятием и пониманием. Фуко придерживается более традиционной позиции в понимании автора: смысл произведения тождественен авторской интенции. А текст является способом постижения автора. Таким образом, данное противоречие в понимании роли автора в художественном произведении можно назвать конфликтом между сторонниками литературной интерпретации и сторонниками литературной экспликации .
Мысль Барта была революционной для своего времени и дала начало постструктуралистскому направлению литературоведения. Но и она имеет свои недостатки. Многие исследователи склоняются к такой концепции трактовки роли автора в художественном произведении, согласно которой" произведение содержит определенную авторскую позицию.
Итак, понятие «автор» употребляется в нескольких значениях. Прежде всего, оно обозначает писателя — реально существующего человека, создающего произведение. В этом случае речь идет об авторе биографическом. С другой стороны, понятие «автор» также означает некую концепцию, определенный взгляд на действительность, выражением которой является все произведение. Реальный биографический автор создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора как носителя концепции произведения. Так как биографический автор, создавая произведение для читателя, рассчитывает на его понимание концепции мира, созданного в произведении, то «процесс восприятия есть процесс превращения реального читателя в читателя концепированного»". В процессе формирования такого читателя принимают участие все уровни художественного произведения, все формы выражения авторского сознания. Автор как носитель концепции произведения непосредственно в него не входит: он всегда опосредован - субъектно и сюжетно. «Автора мы находим вне произведения как живущего своей биографической жизнью человека, но мы встречаемся с ним как с творцом и в самом произведении...»1, в котором представлены различные способы выражения авторского сознания, т.е. представлен автор во внутритекстовом воплощении, имплицитный автор". Согласно терминологии В.В. Виноградова, этот имплицитный автор обозначался как «образ автора» и представлял собой словесно-речевую . структуру определяющую взаимосвязь всех его элементов на композиционном уровне, и сводился к стилистическому средству. На данном этапе развития исследований в западном и отечественном литературоведении субъекта речи, организующего повествование, определяющего последовательность изложения, принято называть нарратором. Такое обозначение помогает избежать смешения понятий автор, образ автора, повествователь, что является принципиально важным для дальнейшего исследования.
Итак, понятие «автор» имеет три основных значения: автор понимается как конкретно-эмпирическая личность, автор-творец и автор в художественном тексте. Согласно Н.Д. Тамарченко, автор-творец — это создатель художественного произведения как целого. Автор-творец противопоставлен герою, писателю как историческому лицу и другим субъектам внутри произведения (образ автора, нарратор,1 или повествователь, рассказчик, в зависимости от произведения)4. Так, «автор должен находиться на границе создаваемого им мира как активный творец его, ибо вторжение его в этот мир разрушает его эстетическую устойчивость»5.
Автор создает художественный мир произведения, оставаясь за его пределами, являясь субъектом сознания, и в той или иной степени проявляет свое мировоззрение, однако система ценностей смоделированного художественного мира не тождественна той же системе автора биографического, несмотря на то, что он так или иначе использует свой эмпирический опыт при создании художественного произведения.
Историки литературы определяют художественный мир как уникальное и самодостаточное образование, созданное писателем и воплотившееся в его»творчестве и отдельном произведении. Лингвопоэтика осуществляет более узкий подход: «...все то, из чего состоит художественный мир, выражается в четких и ясных категориях — имена существительные, прилагательные, глаголы»1. Изучение художественного мира произведения помогает выявить мироощущение писателя, его-систему взглядов как осознанное, так, возможно, и неосознанное отношение к жизни. Так как само «создание художественного мира и есть стремление к адекватному воплощению мироощущения через комбинацию слов»", то его изучение может осуществляться через составления функциональных тезаурусов, то есть словарей, в которых представлена частотность употребления слов и их авторское значение; слова объединяются в группы по темам, которые и составляют определенную часть художественного мира произведения.
Событие как центральная категория повествования
Важной категорией нарратологии является категория события. Суть повествования состоит в двоякой, событийности: референтной и коммуникативной. Коммуникативная ситуации повествовательного дискурса включает два события: событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в нем участвует читатель)4. Это необходимо учитывать, говоря о событии.
Двоякую событийность литературного произведения еще называют как событием рассказывания и событием сюжетным5. Н.Д. Тамарченко дает определения этим двум событиям. і
Сюжетное событие - это «перемещение персонажа, внешнее или внутреннее (путешествие, поступок, духовный акт), через границу, разделяющую части или сферы изображенного пространства и моменты художественного времени, связанное с осуществлением его цели или, наоборот, отказом или отклонением от нее, а также преодолением препятствий. Такое определение, как видим, соотносится с мыслью Ю.М. Лотмана о том, что событие — это преодоление границы семантического поля. В этом смысле событие сюжетное представляет собой «обозначение динамического начала сюжета, т.е. выражение конфликта».
Событие рассказывания - это общение любого субъекта речи в литературном произведении, выступающего в роли посредника между миром-персонажей и действительностью читателя. В ходе или посредством такого общения осуществляетсяостетическое событие изображения и оценки героя и его мира автором-творцом.
Если в событии сюжетном участвуют персонажи, иногда рассказчик, то в событии рассказывания — слушатели-читатели, а не герой. Таким образом, событие сюжетное и событие рассказывания происходят в разном времени: Событие сюжетное локализовано хронотопом, а событие рассказывание обладает возможностью менять пространственно-временные позиции, которые позволяют по-разному рассматривать события сюжетные. В событии рассказывания важную роль играет «точка зрения».
Существуют разные подходы к определению «события», но так или иначе они сводятся к тезису об уникальности происходящего явления, осмысленного тем или иным сознанием. Остановимся подробнее на различных пониманиях «события» в художественном тексте некоторыми учеными. Таким образом, событие — один из вариантов развития действия (из множества фактов выбран один или несколько, которые преобразовались в событие путем осмысления). В. Шмид разделяет понятие происшествия и события (происшествие как совокупность ситуаций). Событие, по мнению ученого, это категория, позволяющая выявить контраст между последовательными по времени ситуациями. Он говорит о том, что «каждое событие является изменением состояния, но отнюдь не каждое изменение состояния является событием» . Для того чтобы стать событием, состояние должно удовлетворять определенным требованиям: событие должно быть реальным (фактичным) в рамках фиктивного мира произведения и результативным. Шмид выделяет пять критериев событийности, отмечая важность первых двух . Это:
1. Релевантность. Предполагает такие условия, при которых изменения рассматриваются как существенные в данном фиктивном мире. К этим условиям относятся тип картины мира в данной культуре, особенность переживающего изменения субъекта и оценка читателя.
2. Непредсказуемость. Соотносится с изменением состояния. Шмид отмечает, что любое событие должно быть несколько парадоксально. Оно должно в какой-то мере нарушать ожидания и персонажей, и читателей.
3. Консекутивность. Определяет изменения, которые привносит событие в мышление, поведение героев.
4. Необратимость. Событие становится значительнее, актуализируется по мере того, как (уменьшается возможность обратимости такого нового состояния,, т.е. изменения должны быть настолько существенны, чтобы вероятность возврата к прежнему состоянию свести к минимуму.
5. Неповторяемость. Событие по своей природе должно быть уникальным как «значимое уклонение от нормы»", которое выходит за пределы ожидаемого, иначе оно теряет свой статус и становится ситуацией, пусть даже и изменяющейся.
Важно отметить, что отнесение того или иного изменения состояния к статусу события зависит от разных факторов: это тип культуры, эпоха, менталитет, жанр и литературное направление.
«Спутники» А.П. Чехова: приемы повествования
Рассмотрение художественных произведений с позиции развития исторической поэтики открывает целый ряд аспектов исследования, начиная от специфики мировоззрения, самосознания личности в ту или иную эпоху, заканчивая вопросами, связанными непосредственно с вопросами композиции произведения1. Одним из основополагающих моментов различения эпох было отношение к авторству, степень включенности (опознаваемости) автора в тексте произведения. Так, выделяется три периода: эпоха синкретизма занимает временной промежуток до античности. Это период дорефлексивного творчества, фольклора и мифа. Вторая эпоха это время эйдетической поэтики, и длится она от античности до середины XVIII века. В эту эпоху на первый план выходит нормативность, следование канону и традиции. Третий период - это эпоха поэтики художественной модальности, складывающаяся с середины XVIII века и по наши дни, считается неканонической и нетрадиционалистской, она предлагает разные подходы к вопросу автор — герой — читатель. В этом смысле особый интерес представляет эпика А.П. Чехова, ее отнесенность к рубежу эпох придала ей переходный характер: с одной стороны, она сохранила определенные нарративные традиции XIX века, с другой — совершенно по-новому использует ее приемы, за счет чего и достигается особый эффект в чеховских рассказах, что относит ее к парадигме неклассической художественности".
Исследователями не раз отмечалось, что на рубеже ХГХ-ХХ века происходила трансформация повествовательных форм, роль нарратора изменяется. Нарратор не является уже носителем некой истины, заданной оценки, а, скорее, необходим для композиционного оформления произведения: «Путь русской литературы XIX-XX веков — путь от, субъективности автора к субъективности персонажа» . Такая тенденция в повествовании прослеживается у многих писателей рубежа веков. Нам представляется целесообразным обратиться к ряду рассказов, написанных приблизительно в один период (801е — первая половина 90-х годов XIX века) \ писателями - «спутниками» Чехова". Чехов жил и формировался как писатель в эпоху, когда происходили поиски новых героев, сюжетов, жанров, новой манеры повествования. Все это выразилось в творчестве целого литературного поколения. В 80-е годы зарождалось и оформлялось многое из того, что позже составило наиболее характерные черты русской литературы XX века.
Проанализируем повествовательные приемы некоторых писателей — современников А.П. Чехова, для того чтобы выделить общие для данной эпохи элементы повествовательной системы для анализа своеобразия чеховской манеры. Выбор писателей и рассказов для анализа будет достаточно условным, тем не менее основная задача заключается в сравнении повествовательных приемов на примере рассказов В.М. Гаршина «Красный цветок», «Художники», рассказа П.Д. Боборыкина «Последняя депеша», очерка В.Г. Короленко «Мгновение», рассказа И.И. Потапенко «Шестеро».
Предложенные к рассмотрению рассказы сближает выбор персонажа обычного, среднего человека в обыденной ситуации, что отвечает общей тенденции в литературе второй половины XIX века. Выявим и сопоставим некоторые приемы повествования на примере нескольких рассказов. Нас будут интересовать такие категории, связанные со способами выражения «точки зрения», как повествователь, рассказчик, виды передачи чужой речи (прямая, косвенная, несобственно-прямая).
Рассказ В.М. Гаршина «Красный цветок» опубликован в 1884 году, посвящен памяти И.С. Тургенева, о чем указано в подзаголовке. Повествование ведется от 3-го лица. По классификации В. Шмида, повествование в тексте нарраториальное, так как выражает собственную-точку зрения нарратора. Обратимся к фрагменту, описывающему внешний вид персонажа:
Он был страшен. Сверх изорванного во время припадка в клочья, серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были-завязаны сзади. Воспаленные широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском...1
В» данном случае нарратор описывает портрет персонажа в определенной ситуации повествования. Причем он выступает в качестве «всевидящего» повествователя, а не выражает «точку зрения» какого-либо персонажа. Об этом позволяют судить такие речевые обороты: «сверх изорванного во время припадка в клочья серого платья» (сторонний наблюдатель не может располагать подобной информацией), «воспаленные широко раскрытые глаза (он не спал десять суток)» (уточнение в скобках также предполагает большее знание о персонаже, нежели впечатление стороннего наблюдателя, рассказчика). Так, в данном фрагменте традиционное повествование от 3 лица, выполняющее, описательную функцию с «точки зрения» повествовательной вненаходимости или «всеведения», т.е. нарратор пространственно не закреплен в тексте, не дает оценки, его «взгляд» предельно объективен, а стиль нейтрален.
Однако в другом фрагменте, описывающем одну из комнат больницы, уже присутствует «точка зрения», не принадлежащая нарратору: ...все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачною физиономиею увеличивал впечатление .
Принадлежность этой «точки зрения» больным "оговаривается нарратором «для расстроенной головы», а описание сторожа служит подтверждением такой «точки зрения» («сторож ... увеличивал впечатление»). Сразу за этим описанием следует фраза: «И когда больного привели в эту страшную комнату...», - здесь уже само определение комнаты как «страшной» указывает на присутствие оценочной «точки зрения» в нарраториальном тексте.
Заглавия в чеховской эпике и проблема «точек зрения»
«Прогнозируя текст, который следует за заглавием, читатель опирается прежде всего на свой опыт. При этом заглавие играет особую роль в готовности читателя к пониманию, служа соединительным звеном между читателем и внетекстовой действительностью с одной стороны, между читателем и текстом - с другой» . Во многом именно от характера заглавия зависит восприятие всего произведения, т.е. заглавие литературного произведения формирует читательское предпонимание. К заглавию функционально примыкают имя автора, подзаголовок, эпиграф, посвящение, дата— все это составляет заголовочно-финальный комплекс. Подзаголовок уточняет и дополняет собственно заглавие как имя текста. Он представляет собой компонент «подчиняющийся заглавию и находящийся непосредственно после него перед текстом художественного произведения. В широком смысле подзаголовок входит в состав заглавия и выполняет функцию носителя уточняющей информации о художественном произведении; о его жанровых, тематических, стилистических1 и других особенностях. ... По своему семантическому и функциональному значению подзаголовок практически равен заглавию произведения (сенсемантичен и синфункционален)»1.
Наше внимание будет сосредоточено на заглавиях и подзаголовках некоторых рассказов А.П. Чехова, относящихся как к раннему периоду і творчества писателя, условно определенному с 1880 по 1886 гг., так и к позднему - с 1887 по 1904 гг. Исследователи, обращаясь к анализу заглавий чеховских рассказов, выстраивали типологии и выявляли систему заглавий, ориентируясь при этом на совершенно разные критерии: от хронологии- до» специфики порождаемых смыслов". Такая возможность разных подходов свидетельствует о многоуровневости изучаемого явления.
В ранних рассказах А.П. Чехова подзаголовки встречаются чаще, нежели в рассказах более поздних. Как правило, подзаголовок содержит указание на название того или иного жанра: например, «Торжество победителя. Рассказ отставного коллежского регистратора», «Шведская спичка. Уголовный рассказ», «Брожение умов. Из летописи одного города», «Брак по расчету. Роман в двух частях», «Господа обыватели. Пьеса в двух действиях», «Зеленая коса. Маленький роман», «Пропащее дело. Водевильное происшествие», «Пережитое. Психологический этюд», «Двадцать шесть. (Выписки из дневника)». Наряду с такими традиционными жанрами встречаются авторские номинации, которые, впрочем, тоже соотносимы с традицией: «С женой поссорился. Случай», «Много бумаги. Архивное изыскание», «О бренности. Масленичная тема для проповеди», «Мошенники поневоле. Новогодняя побрехушка», «О том, как я в законный брак вступил. Рассказец». Все эти подзаголовки задают читателю определенную стратегию чтения и восприятия последующего текста через так называемую «память жанра» (М.М. Бахтин). Но если ранее, особенно в литературе эпохи классицизма, характер произведения полностью отвечал жанру, указанному в подзаголовке, то в XIX веке писатели стали использовать принцип четкого разделения на жанры совершенно - по-другому, достаточно вспомнить «Евгения Онегина. Роман в стихах» А.С. Пушкина или «Мертвые души. Поэма» Н.В. Гоголя, где сами произведения далеко не в полной мере отвечали требованиям жанра, заявленного в подзаголовке, и такое противоречие рождало новые смыслы.
В заглавиях чеховских рассказов собственно авторская позиция напрямую не выражается. Отчасти это связано с тем, что в большинстве ранних чеховских рассказов повествование ведет рассказчик, чья точка зрения и выражается в заглавии; характерный пример: «О том, как я в законный брак вступил. Рассказец». Авторская же интенция заключается в минимализации проявления какого бы то ни было авторского отношения к персонажам и событиям рассказа уже в заглавии, что обуславливает активность читательской рефлексии. Автор, с одной стороны, отказывается направлять читательское восприятие, но, с другой стороны, сам факт отнесения того или иного рассказа к определенному жанру в подзаголовке можно трактовать как выявление именно авторской позиции. Так, в рассказах Чехова, где повествование ведется от третьего лица, заглавие и подзаголовок выражают внешнее отношение, но и его нельзя назвать в полном смысле авторским — скорее, это точка зрения кого-то из второстепенных персонажей, не участвующих в событии, но наблюдающих происходящее («Торжество победителя. Рассказ отставного коллежского регистратора», «Мошенники поневоле. Новогодняя побрехушка», «Свадьба с генералом. Рассказ»). Возможно, такой характер подзаголовков связан с именем автора, под которым публиковались рассказы, и с юмористической направленностью журналов, рассчитанной на определенный круг чтения. В этой связи необходимо отметить характер некоторых чеховских псевдонимов: Антоша Чехонте, Балдастов, Человек без Селезенки и др. Псевдоним создает определенный «образ автора». Это человек из той же среды, . что и персонажи рассказов, такой подход не предполагает контраста между оценкой событий «автором» и персонажами. Таким приемом автор еще больше отстраняется от художественной действительности, которая начинается для читателя уже с имени автора того или иного рассказа.
Таким образом, «автор» рассказов максимально приближен к персонажам и рассказчику, поэтому, говоря о заголовочном комплексе, следует учитывать, что отношение и оценка, выраженные в нем, принадлежат именно такого рода «автору», но никак не автору биографическому и не автору-творцу.
И, тем не менее, авторское отношение в той или иной степени присутствует в подзаголовках, содержащих название того или иного жанра, но затрагивает не столько сюжет или персонажей, сколько историко-литературный процесс в целом. Например, рассказ «Зеленая коса» назван в подзаголовке «маленьким романом», небольшой, рассказ «Дочь коммерции советника» также определен как роман, несмотря на отсутствие в обоих случаях основных признаков, жанра романа. В- таких рассказах, как «Мошенники поневоле. Новогодняя побрехушка», «Либерал. Новогодний рассказ», «Кривое зеркало. Святочный рассказ», «О бренности. Масленичная тема для проповеди», в подзаголовке дано указание на календарные праздники, к которым было принято специально писать произведения для периодических изданий. Кстати, подзаголовок «Святочный рассказ» дан нескольким рассказам: «Восклицательный знак», «Сон», «Ночь на кладбище», что по разному характеризует некий общепринятый тип святочного рассказа в литературе. Некоторые подзаголовки вместе со своеобразным указанием на жанр содержат в себе оценку сюжетной ситуации персонажами: например, «Случай», «Рассказец», «Водевильное происшествие».
Подзаголовки чеховских рассказов, на первый взгляд подчинены выработанной литературной традицией фиксации жанра, но при этом происходит полная редукция жанра, возникает комический эффект при соотнесении его названия непосредственно с текстом произведения, а в ряде случаев - уже в самом способе обозначения жанра: «Рассказец», «Новогодняя побрехушка», «Маленький роман».