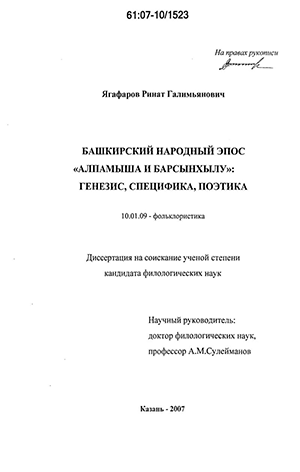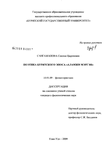Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Вопросы истории изучения и генезиса общетюркского эпического сказания об Алпамыше 11
1.1. История собирания и изучения эпоса «Алпамыш» в тюркской фольклористике 13
1.2. Общетюркские особенности эпоса «Алпамыш» 28
1.3. К вопросу о времени создания памятника 39
Глава II. Типологические и текстологические особенности вариантов башкирского народного эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» 56
2.1. «Алпамыша» в контексте башкирского фольклора 56
2.2. Сравнительное изучение вариантов эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» .76
2.3. Обоснование и принципы составления сводного текста башкирского народного эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» 109
Глава III. Поэтика эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» 113
3.1. Основные сюжетообразующие мотивы эпоса «Алпамыша и Барсынхылу»... 113
3.2. Художественные особенности эпоса 151
Заключение 178
Библиография 183
- Общетюркские особенности эпоса «Алпамыш»
- К вопросу о времени создания памятника
- Сравнительное изучение вариантов эпоса «Алпамыша и Барсынхылу»
- Художественные особенности эпоса
Введение к работе
Актуальность исследования. Общетюркское народное сказание «Алпамыша», по признанию многих отечественных и зарубежных ученых, является одним из лучших образцов мирового героического эпоса Известны его узбекская, каракалпакская, казахская, башкирская, алтайская, татарская, огузская, ногайская, туркменская, таджикская версии Изучение башкирского народного эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» составляет большой научный интерес с точки зрения определения корней, выявления специфики эпоса в сопоставлении с остальными национальными версиями
Среди других популярных эпических повествований башкир «Алпамыша и Барсынхылу» занимает одно из ведущих мест В настоящее время в научном архиве УНЦ РАН и в фольклорном фонде кафедры башкирской литературы и фольклора Башкирского государственного университета накоплен значительный рукописный фонд его вариантов В устном репертуаре башкирского народа до сих пор встречаются отдельные отрывки этого эпоса, которые фактически являются составной частью монументального произведения, утерявшего в какой-то момент истории свое единство Восстановление его целостности может способствовать составлению совершенно уникального творения сродни другим гениальным произведениям башкирского народа как «Урал-батыр» и «Акбузат»
Богатство форм социально-исторической жизни каждого народа требует всемерного изучения существующих фольклорных произведений во всем многообразии его вариантов и национальных версий Башкирскими фольклористами проанализированы проблемы взаимоотношения эпоса об Алпамыше с другими жанрами башкирского фольклора, особенно с топонимическими легендами, изучены некоторые башкирские варианты, отмечена их схожесть с «Одиссеей» Гомера; определены сюжет и отдельные мотивы сказания Однако неизученными доселе оставались проблемы сравнительно-исторического изучения башкирского народного эпоса об Алпамыше с другими национальными версиями, текстологические и поэтические особенности его вариантов В данном диссертационном исследовании предпринимается попытка восполнить этот пробел.
Тема исследования актуализируется еще и тем, что под влиянием социально-экономического развития общества эпическая среда, которая предполагает нерушимое единство певца и сознательно грамотно воспринимающих его слушателей, неизбежно утрачивает свою монолитность Феномен живого эпоса в конце XX - начале XXI
века сам по себе представляет факт исключительного значения для истории человеческой культуры Осознание этого факта в полной мере только начинается, что также подчеркивает актуальность темы данной работы
Целью нашего исследования является изучение генезиса, специфики и поэтики башкирского народного эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» в сопоставлении с другими национальными версиями и попытка составить сводный текст эпического памятника
В соответствии с целью, в данной диссертационной работе решаются следующие задачи
проследить историю собирания и изучения версий и вариантов эпоса об Алпамыше в фольклоре тюркских народов,
выявить общие и специфические особенности башкирского эпоса «Алпамыша» в сопоставлении с другими тюркскими версиями,
систематизировать и проанализировать башкирские варианты сказания в идейном, художественном, поэтическом аспектах,
текстологически изучить башкирские варианты эпоса и на этой основе попытаться составить сводный текст сказания.
Методологической основой исследования послужили фундаментальные труды отечественных ученых, посвященные жанровой природе произведений народного творчества В М Жирмунского, Е.М Мелетинского, А Н.Веселовского, В.Я Проппа, В.Е Гусева, Ф И Урманчеева, Т.ММирзаева, А С Мирбадалевой, С.С Суразакова, ММСагитова, АНКиреева, НТЗарипова, Г.Б Хусаинова, С.А Галина, А М Сулейманова, Ф.А Надршиной и др
В исследовании были применены сравнительно-типологический, структурно-описательный, комплексный методы анализа фольклорных текстов, а также метод статистического счета
Источниковедческую базу исследования составили материалы фольклорных экспедиций разных лет, осуществленных в ИИЯЛ УНЦ РАН и БашГУ, отдельные тома свода «Башкирского народного творчества» В качестве сравнительного и контрольного материалов были привлечены варианты инонациональных версий эпоса «Алпамыша», а также исторические, этнографические сведения
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые в башкирской фольклористике в полной мере в монографическом плане анализируется эпос «Алпамыша и Барсынхылу» с учетом всех известных вариантов и записей в сравнительном плане с остальными тюркскими версиями
Теоретическая значимость исследования в том, что на базе изучения одного эпического памятника вырабатывается система
комплексного анализа эпического произведения, на этой основе подготавливается почва для составления сводного текста эпоса, существующего в народе в разрозненном виде
Практическая значимость работы видится в том, что материалы и результаты исследования найдут применение при чтении лекций, при составлении учебников по башкирскому фольклору в средних и высших учебных заведениях, методы анализа текста будут использованы при изучении других эпических памятников народа Подготовленный сводный текст башкирского эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» может найти место в серии «Башкирское народное творчество».
Апробация работы. Основные положения и материалы диссертации докладывались на международных научно-практических конференциях «Россия и Башкортостан: история отношений, состояние и перспективы» (Уфа, 2007), «Этносоциальное взаимодействие воспитательных систем история и современность» (Стерлитамак, 2007), Всероссийских научных конференциях «Многомерность языка и науки о языке» (Бирск, 2001), «Эпос «Урал-батыр» и мифология» (Уфа, 2003), "Урал-Алтай через века в будущее" (Уфа, 2005), "Наука и образование-2005» (Нефтекамск, 2005), межрегиональной научно-практической конференции «Мать и дитя у народов Башкортостана» (Уфа, 2001), республиканских научно-практических конференциях «Изучение родных языков, культуры и истории Башкортостана в образовательных учреждениях республики» (Стерлитамак, 2001), «Вопросы филологии и журналистики» (Уфа, 2002), «Изучение и преподавание башкирского языка и литературы в средней и высшей школах» (Уфа, 2003), «Актуальные проблемы башкирского языка и литературы» (Стерлитамак, 2004), Межрегиональных научно-практических конференциях «Городские башкиры проблемы языка и культуры, здоровья и демографии» (Уфа, 2002, Стерлитамак, 2004), «Культурное наследие народов Башкортостана» (Уфа, 2003).
Структура работы Диссертационное исследование состоит из введения, 3-х глав, заключения, библиографии и 4-х приложений
Общетюркские особенности эпоса «Алпамыш»
Собирание основных национальных версий сказания и начало его научного изучения приходится на конец XIX - начало XX века. Именно в это время, как известно, усиливается внимание со стороны ученых к проблемам тюркских народов, в целом, к Востоку. История, быт, психологические особенности, география, духовная культура тюркских народов, в том числе их искусство слова становятся во главу угла многих русских и зарубежных исследований.
Первая запись эпоса «Алпамыша» встречается в дневнике ориенталиста Е.Ф.Каля: в 1890 году, «остановившись недалеко от Термеза в селении Салихабад, слушал эпос «Алпамыш» в исполнении сказителя Аманназара, узбека рода аинлы, певшего около трех часов подряд под аккомпанемент дутара»1. Далее краткие сведения об эпосе узнаем по записям известного башкирского этнографа и фольклориста А.А.Диваева . Этот же исследователь в 1896 году, заполучив от бывшего начальника Амударьинского отдела Сырдарьинской области генерал-майора К.И.Разгонова каракалпакскую версию дастана, записанную от каракалпакского сказителя Джиемурата Бекмухамедова из Турткульской
Таким образом, впервые один из вариантов каракалпакского «Алпамыс»а был издан в начале XX в. Затем различные варианты каракалпакских жыраучы издавались несколько раз: К.Айметов, записав в 1934 году вариант Хожамберегена Ниязовича, известного под именем Огуз жырау (1884-1955), публикует его в 1937 году в Москве, а в 1941 году - в Ташкенте. А.Каримов издает в 1957 году вариант Кияса жырау (1903-1974); Р.Хожамберегенов записывает в 1957 году самый объемный вариант сказания от Есесмурат жырау (1893-1979) и печатает его в 1961 году. Кроме этого, в рукописном фонде библиотеки Каракалпакского отделения Узбекской Академии наук хранятся доселе не опубликованные варианты, записанные от жырауов Карама, Арзымбэта, Таниберегена, Корбанбая.
Первое издание казахской версии эпоса «Алпамыс» впервые увидело свет в 1899 году в Казани под именем «Кисса-и Алфамыш» («Повесть об Алпамыше»), Составленная Джусупбеком Шейхулисламовым, эта версия неоднократно переиздавалась в Казани в 1901, 1905, 1907, 1910, 1912, 1914, 1916 гг. Прозаический вариант казахской версии эпоса был переведен на русский язык и опубликован А.А.Диваевым под названием «Великан Алпамыс» в 1916 году в «Туркестанских ведомостях». Следует подчеркнуть, что в тюркской фольклористике наибольшее внимание уделялось узбекской версии сказания. Даже один лишь текст переиздавался многократно в оригинале и в переводе на русский язык, причем перевод делался различными лингвистами . Это объясняется, прежде изданием узбекской версии эпических произведений об Алпамыше). всего, полнотой сюжета и композиционного строя, значительностью содержания узбекского «Алпамыш»а, самый объемный вариант которого, составляющий 13715 строк, записан от узбекского народного поэта Фазыла Юлдашева, исполнявшего его на протяжении всей своей жизни.
Впервые узбекский «Алпамыш» был зафиксирован на бумаге в 1922 году профессором Г.А.Юнусовым. Вариант принадлежал сказителям Фазылу Юлдашеву и Хамракулу. Однако эта запись не сохранилась. Известен лишь ее отрывок из публикации Г.А.Юнусова в журнале «Билим учоги»1. «С этого времени «Алпамыш» в виде полных текстов, а также фрагментов, пересказов зафиксирован в исполнении свыше тридцати узбекских бахши (сказителей) около сорока раз»2.
С 40-х годов XX века узбекские ученые начинают публикацию «Алпамыш»а в переводе на русский язык. Тем самым «начинается новый, в научном плане, этап изучения этого героического эпоса» . Сначала переводятся отдельные главы, затем полностью текст по изданию Хамида Алимджана4.
Также именно силами узбекских ученых-фольклористов были организованы региональное совещание и конференция по эпосу «Алпамыш», материалы которых были позже изданы отдельными сборниками5.
В 1956 и 1959 годах в Ташкенте состоялись научные конференции по вопросам изучения эпических сказаний об Алпамыше с участием ученых Москвы, Ленинграда, Средней Азии, Закавказья, Татарстана, Башкортостана. Участники конференции знакомятся с новыми научными исследованиями и наблюдениями по данному эпосу. Материалы конференции вошли в сборники «Тезисы докладов и сообщений регионального совещания по эпосу «Алпамыш» (Ташкент, 1956) и «Об эпосе «Алпамыш» (Ташкент, 1959). В конференции. - Термиз: Фан, 1999. сборнике «Об эпосе «Алпамыш» исследованию подвергаются 5 национальных версий: узбекская, казахская, каракалпакская, башкирская, алтайская. В свою очередь, итоги совещания становятся основой для дальнейшего изучения национальных версий и вариантов сказания. Вследствие этого, в 60-80-х годах возрастает интерес к данному эпосу.
Особенности узбекских вариантов дастана наиболее полно исследуются Т.М.Мирзаевым1. Казахскую версию освещают Н. Смирнова и Т.Сыдыков . Ж.Хошниязов в своей кандидатской диссертации раскрывает историко-фольклорные характеристики каракалпакской версии эпоса. Таджикские варианты сказания получают освещение в работе И.С.Брагинского4. Алтайскую версию эпоса «Алпамыш» изучили Н.Улагашев и СС.Суразаков5. Татарская версия сказания исследуется в статье А.А.Валитовой, работах Ф.И.Урманчеева и И.Г.Закировой6. В этих исследованиях всесторонне охарактеризованы история сложения и бытования дастана, основные мотивы, своеобразие национальных версий и вариантов.
В казахской и узбекской фольклористике особое внимание уделяется изучению языка, поэтики и лексики произведения7. Интересный философский анализ мотивов и образов произведения предлагает казахский ученый Таласбек Асемкулов. Он изучает казахский эпос с точки зрения отражения в нем духовности в ряду других эпических полотен, духовной насыщенности, придавая каждому образу определенный смысл. По мнению автора, в эпосе «Алпамыс» описан психический механизм трудного возвращения к жизни души, омертвевшей от горя самоуничтожения, которая просматривается в поэме «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Человеческий дух очнулся от депрессии, возродился. И теперь впереди сложная жизнь, выход во внешний мир, что и описано в эпосе «Кобланды», представляющем третий пласт древнетюркской мифологии.
Таким образом, ученые уделяют довольно пристальное внимание особенностям эпоса об Алпамыше. На основе изучения национальных версий и вариантов в 60-80-е годы были написаны и защищены две кандидатские диссертации, выпущены в свет одна монография, несколько сборников, опубликованы десятки статей, освещающих ту или иную сторону сказания. В каждой работе поднимаются новые проблемы, выявляются ранее не изученные особенности эпоса.
В 1999 году происходит выдающееся событие в истории изучения эпоса «Алпамыш»: Кабинет Министров Республики Узбекистан постановляет отметить 1000-летие эпоса. В связи с этим впервые публикуется академическое двуязычное издание узбекской версии эпоса2. Книгу предваряет большая вводная статья доктора филологических наук Т.М.Мирзаева, в которой он рассматривает место дастана среди остальных узбекских эпических произведений; приводит сведения о бахши-сказителях, сохранивших в памяти эпические произведения и донесших их до наших дней; описывает историю изучения, время и место создания, основные проблемы эпоса об Алпамыше, а также характеризует художественные особенности сказания3. Научно-литературный перевод академического тома «Алпомиш» осуществлен нашим земляком-башкиром, ставшим узбекским поэтом М.М.Абдурахимовым, который всю свою жизнь посвятил переводческой деятельности.
К вопросу о времени создания памятника
Возникновение каждого фольклорного жанра - не случайность, а исторически предопределенная закономерность, обусловленная рядом объективных и субъективных причин. Появлению эпоса способствовало множество факторов, которые условно можно разделить на два вида: 1) органическое развитие объемных произведений из малых жанров путем исторического и поэтического их переосмысления и 2) бытование в народе эпической традиции, на общераспространенные мотивы которой опирается сюжет нового произведения или перекладывается заимствованный сюжет. Рассмотрим изучаемый нами эпос об Алпамыше с этих аспектов.
Согласно концепции Е.М.Мелетинского относительно развития эпических жанров, главным источником формирования архаических эпосов послужили богатырские сказки-песни и в особенности мифы и сказки о первопредках - культурных героях - центральных персонажах первобытного фольклора,1 причем сказка сама первоначально возникла из мифа. Первопредки - демиурги - культурные герои становятся в архаическом («первобытном») фольклоре центром широкой циклизации, включающей наряду с мифами творения другие разновидности мифологического повествования, протогероические сказания о борьбе с чудовищами - силами хаоса, животные сказки, анекдоты и т.д. Такие циклы можно рассматривать как зародыш эпоса.2
Подобного мнения придерживается и исследователь нартовского эпоса осетин В.И. Абаев: «В науке установлено, что эпос в своем становлении проходит несколько фаз. Вначале мы имеем разрозненные, ничем между собой не связанные сказания, возникающие в разных центрах, в разное время, по разным поводам. Это — первая фаза становления эпоса. Об эпосе пока собственно и нет речи. Но для него подготавливается материал, который, при благоприятных условиях, начинает приобретать черты эпоса. Из массы героев и сюжетов выделяется несколько излюбленных имен, событий, мотивов, и сказания начинают кристаллизоваться вокруг них, как центров притяжения. Образуется несколько эпических узлов или циклов. Эпос переходит в фазу циклизации.
В некоторых случаях, далеко не всегда, эпос может достигнуть третьей фазы. Не связанные между собою дотоле циклы могут быть, более или менее искусно, соединены одной сюжетной нитью, сведены в одно последовательное повествование, в одну эпическую поэму. Происходит, если можно так выразиться, гиперциклизация. Она может явиться результатом не только соединения нескольких циклов, но и разбухания одного излюбленного цикла за счет других менее популярных. Это и есть завершающая фаза, фаза эпопеи.
Переход в эту фазу бывает нередко результатом индивидуального творческого усилия. Так, создание Илиады и Одиссеи из разрозненных до того эпических циклов греческая традиция приписывает слепому певцу Гомеру. Карело-финские руны были застигнуты во второй, многоциклической фазе, и только Ленрот придал им вид цельной поэмы "Калевал ы"».1
Возникновению сюжета эпоса «Алпамыша и Барсынхылу» также предшествовало существование отдельных видов народного творчества, в частности, мифов и легенд, характеризующих великанов-алыпов . Уже в путевых записях Ибн Фадлана упоминаются великаны-алыпы и рассказывается о связанных с ними событиях1. О них пишет и арабский путешественник ал-Гарнати: «Кладбище таких великанов на земле булгар и башкир»2. Эпические и героические мотивы эпоса созвучны с мотивами Орхоно-Енисейских надписей, особенно о Культегине и Тонъюкуке, созданными в VII-VIII вв. н.э.3 В словаре Махмуда Кашгари среди остального наследия есть и отрывки из сказаний об алыпах, совпадающие с образами башкирского фольклора.
В башкирском устном народном творчестве уже в ранних легендах, основанных на древнейших мифологических воззрениях человека, имеются образы альтов - мифических великанов исполинского телосложения. В космогенетической легенде «Большая медведица» великан Алып один съедает всю пищу, приготовленную для людей. Для него специально изготавливают ковш, который от его подбрасывания улетает в небо и, затерявшись среди звезд, становится созвездием «Большая медведица».4 Легенда «Алпамыша», записанная Ф.А.Надршиной в Альшеевском районе, повествует об огромных размерах великана, которому жена даже в 7 дней не могла сшить подходящие штаны, так как когда Алпамыша стоял, одна нога была на Куктимере, другая - на Нарстау, между которыми 10-15 км5. Ряд топонимических преданий башкир фиксирует образ великана-алыпа. Возникновение гор в народной традиции связывается с великанами. В топонимической легенде «Мусектау» горы образуются из глины, выпавшей с каблуков великана алыпа, а в легенде «Алпа комо айырытау» - из песка, набившегося в лапти великана. В отдельных случаях появление возвышенностей связывают с тем, что после смерти великана, который был святым, люди сами приносят и насыпают землю на его могилу (например, в легенде «Могила алпамыши», записанной А.М.Сулеймановым в Архангельском районе). В легенде «Камень Алпамыши» богатырь приходит из неведомых краев после многочисленных сражений и, присев на камень, застывает в виде скалы. Примечательно то, что в легендах, имеющих отношение к алыпам, герой иллюстрируется как одинокий странник. Одиночество же героя часто оказывается следствием того, что он первопредок или родоначальник, персонаж в генезисе мифологический.2
Как указывал Е.М.Мелетинский, «нынешнее состояние мира - рельеф, небесные светила, породы животных и виды растений, образ жизни, социальные группировки и религиозные установления, все природные и культурные объекты оказываются следствием событий давно прошедшего времени и действий мифических героев, предков или богов» . При этом на первое место в древнейших тотемистических мифах выступает устройство природы4.
Сравнительное изучение вариантов эпоса «Алпамыша и Барсынхылу»
В зачине также может прямо говориться о необычности батыра: «Бик нык, бик яман ауырытып, ир бала тыуа. Бикэ бала кендеген урак менэн кырка, уде аптырай, сенки бала харап gyp, аслы-вдле икешэр теше бар, ти. Эсэ баланы УЛСЭП карай — ете ярым карыш була. Бикэ баланы ташлап китмэксе булып, уны йедтубэн ьальа, теге бала телгэ килэ» (2) ( В больших мучениях рождается мальчик. Бика обрезает пуповину серпом, сама удивляется, насколько большим был ребенок, сверху и снизу у него было по два зуба. Мать измеряет ребенка - семь с половиной пядей. Бика решает оставить ребенка и ложит его лицом вниз, но он начинает говорить ). «Алты йэшэр Алпамышаньщ яурыны булган алты аршин, буйы 60 аршин булган» (10) ( У шестилетнего Алпамыши плечи были 6 аршин, рост 60 аршин ). Также могут описываться какие-либо действия: «Барсыньылыу уд майданына барып керэш иглан иткэн, ти» (11) ( Барсынхылу объявила о предстоящей борьбе ); «Борон Алпамыша исемле бер батыр егет бай кыдын ярата, ул Барсыньылыу исемле була» (12) ( В давние времена молодец по имени Алпамыша полюбил байскую дочь по имени Барсынхылу ); «Борон алты йэшэр Алпамыша донъя куреп кайтырга сыгып китэ» (19) ( В давние времена шестилетний Алпамыша отправился повидать свет ). Подобный зачин, присущий и бытовым сказкам, А.М.Сулейманов объясняет стремлением сказочников изобразить жизненные реалии1.
В отдельных вариантах повествование начинается с изображения героини (1, 5, 7, 11), при этом она иллюстрируется уже взрослой девушкой, ни в одном варианте нет сведений о ее детстве.
Мотив эпического детства в башкирском фольклоре связан исключительно с богатырем, так как он показывает особое проявление могущества героя: «Аккубэктец улы ъэлэк теремек булып тыуа. Ул, ай удэьен кон усеп, йыл усэьен ай УСЄП, бер квнлек сагында аяк атлап,
икенсе квнендэ ypaMFa cbiFbin, балалар менэн йугерешеп, бура hyFbin уйнай башланы, ти» (осн., 9) ( Сын Аккубяка оказался на редкость живым и бойким мальчиком. За день он рос, как за месяц, а за месяц - как за целый год. В однодневном возрасте встал он на ноги, а в двухдневном вышел на улицу, начал бегать и резвиться вместе с другими детьми, играть в городки ). «Малай бик теремек булып сыккан, ти, ее кендэ гэлэмэт удеп, дуртенсе кендэ депелдэтэ басып, бишенсе кендэ билен быуып, алтынсы кенде аягына атлап китеп тэ барган, ти» (6) ( Мальчик оказался очень резвым, за три дня сильно вырос, на четвертый день встал на ноги, на пятый день подпоясался, на шестой день начал ходить ).
В башкирском эпосе особо подчеркивается шестилетний возраст Алпамыши, который находит отражение и в названиях вариантов (1, 9, 10). В этом проявляется национальное своеобразие башкирских вариантов сказания. Только в них делается особый акцент на подобный возраст героя, чем, на наш взгляд, еще раз подчеркиваются необычные способности, и через это гиперболизируется образ Алпамыши. Вообще, шестилетний возраст в башкирском фольклоре имеет особое исключительное значение: «Алты йэшендэ инмэгэн алтмыш йэштэ килмэй» ( То, что не вошло в шесть лет, не войдет в шестьдесят ), «алтылаБы алтмышта» ( что в шесть, то и в шестьдесят ), утверждают пословицы и поговорки, то есть шесть лет - это уже тот возраст, когда должны сложиться все основные понятия, как физические, так и моральные. «Алты йэшэр юлдан кайтъа, алтмыш йэшэр хэл белешергэ килер» ( Если шестилетний вернется с дороги, шестидесятилетний придет повидать ), то есть и шестилетний, повидавший другие края, а, следовательно, гораздо больше видевший и узнавший, достоин уважения.
Образ героя-малолетки принадлежит мировому фольклору и соответствует определенному историческому периоду. У многих народов обрядовое посвящение мальчика в воины-конники производили в очень раннем возрасте, а в 12 лет он уже считался взрослым. Профессиональная выучка в эпоху военной демократии, готовившая высоквалифицированных, тренированных воинов, должна была начинаться с детства. Но эпос гиперболизировал данный обычай, и в нем это историко-типологическое явление отразилось повсеместно в более или менее сходных формах.
Далее идет мотив имянаречения героя: прорицатель (осн.), мулла (9), какой-то старик (14), в некоторых вариантах - сам отец (2, 20) называют его Алпамышой, объяснение чему находим во втором варианте: «Балуан тыуган! Атайым балуан булды, ул да шулай булырга тейеш... Алпамыша бульын! — тип исем кушып, кыуанып алып кайтып китэ» ( Исполин родился! И отец мой был исполином, он тоже должен быть таким... Пусть будет Алпамышой! - нарек его отец и с радостью отнес домой ).
Таким образом, мотив рождения ребенка-богатыря наряду с мотивами о бездетности старика и старухи, об уходе мужа от беременной жены и др. относятся к мотивам сверхъестественного рождения. Они выполняют функцию завязки и служат прологом к основной части. Идеализация главного героя также начинается именно с описания данных мотивов, так как тем самым слушатель подготавливается к необычным подвигам героя.
Основная часть обычно начинается с момента ухода героя из родительского дома по собственной инициативе. В эпосе «Алпамыша» - в поисках невесты либо чтобы повидать свет.
В основном, 2, 8, 9, 17-ом вариантах герой просит разрешения на отъезд из дома и получает отказ матери или отца, что является одним из основных эпических элементов.
В фольклоре запреты всегда нарушаются, а предсказания сбываются, тем самым предопределяя будущие события. Алпамыша просит у матери или отца благословения на выезд из дома. Мать или отец благословляют сына, но чаще делают это помимо воли. Благословение и согласие на выезд героя обычно даются только при условии соблюдения запрета. Здесь же отец (2, 8, 9) или мать (осн.) соглашаются благодаря настойчивости сына: он трижды обращается к отцу-матери.
Говоря о бытовой сказке, проф. А.М.Сулейманов отмечал, что в ней мотив благословения отца - очень древний. В его основе лежит вера в защиту героя фантастическими силами рода (предками и тотемистическими животными), поскольку он сохраняет верность патриархальным принципам и интересам большой семьи.1 В эпосе «Алпамыша» в основном варианте благословение герой получает у матери (отец героя умирает). Учитывая то, что мотив благословения матери можно трактовать как отголосок матриархата, протест матери против ухода сына из дому объясняется А.Н.Киреевым на материале эпоса «Кузыйкурпяс и Маянхылу» отголоском матриархальных порядков прошлого. Любопытна трансформация данного мотива в 15-м варианте, где разрешение выехать на гору получает не герой, а героиня.
Вера в магическую силу родительского благословления сама базируется на древнем представлении о чудодейственной силе слова. Сюда примыкают и мотивы благопожелания собирающемуся в дорогу: «Алпамышанын, юлы изге бульын!» (2) ( Пусть удачным будет путь Алпамыши! ), и эпизоды обращения Барсынхылу к матери и отцу (братьям) с просьбой принять Алпамышу, и эпизод сомнений Барсынхылу: «Барсыньылыу, атам кэьэре теште, елкэндэр ьузен тыцламаным, тип шомлана башлай» (1) ( Барсынхылу начинает сомневаться, думая, что проклял ее отец, не послушала она слов старших ). Этот древний элемент мифологических воззрений об антропоморфности слова находит отражение в мотиве непременной важности заставить отказаться от обещанных даров дядю Колтабу.
Художественные особенности эпоса
Алпамыша осенсэ тапкыр а KOPOFOH колдората, йугэнен сылдырдата, теге тай таия карай. «Ярай, у?емэ я?ган мал ошолор»,-тип, уны тотоп ала» (16) ( Иди к лошадям, короком потряси, уздечкой позвени, которая на тебя оглянется, ту и бери, - говорит Култаб Алпамыше. Алпамыша благодарит и делает, как велит Култаб. 3 раза оглядывается захудалый жеребенок ). «ИУГЭН шылтыратканга кайьы ат караьа, шул ат уныкы була икон. Иугэнде шылтырата был. Бер наса-а-ар илна корсангаї ат карай. — Мицэ тура карагас, бэхетем шунандыр, — тип, ошо бэлэкэй генэ тулакты тотоп алып cbiFa. Бик ьэйбэт итеп тороп эйэрлэй. ... Алпамыша кайтыу ягына бара. Ат узенэн-у е зурая килэ, зурая килэ, бактаьын коя килэ. Бара торгас, ат бик якшы бер толпарга эйлэнэ» ( Позвенел уздечкой: какой конь оглянется, того он и должен оседлать. На него оглянулся плохонький коростливый жеребенок.
Если оглянулся, значит мне и сужден, - промолвил Алпамыша и вывел жеребенка из стойла. Хорошенько его оседлал... Алпамыша долго вел жеребенка за собой. Конь рос на глазах, короста осыпалась со спины. В конце концов он превратился в превосходного скакуна-тулпара ) (20).
В дальнейшем в вариантах чаще встречается описание укрощения (усмирения) коня, тем самым события приобретают более реальную окраску: «Алпамыша Карлугас ишкэн ебэк аркан менэн Колйерэнде тоторга китте, ти. 0йоргэ килеп, Колйерэнгэ аркан ташлап, муйынынан быуып алган икэн, Колйерэн, урле-кырлы ьикереп, тирэ-яктагы агастарзы УЛЭНДЭЙ идеп, Алпамышаны КУККЭ сорготоп, ергэ hyFa башланы, ти. Бик озак алышкандан ьуц, Алпамыша Колйерэнго ЙУГЭН ьалып, ауыдлыклап алды, ти» ( Алпамыша отправился ловить коня арканом, который свила ему Карлугас. Стоило ему подойти к табуну и поймать рыжего коня, как тот стал метаться из стороны в сторону, сшибая и сминая деревья, как траву, и бросая Алпамышу то в небо, то оземь. Долго они боролись так, пока Алпамыша не накинул на коня поводья с уздой ) (осн.).
В вариантах устойчива формула признания ошибки Колтабом: «Белэгемдэ KOPOFOM, кай?а минец боронном, - тип ат котеуе ягына йугереп китэ» ( Зажат корок у меня в ладони, где ремесло мое прошлое -кони? ) (осн., 16). И несколько переиначенное «Кунэгем дэ KOPOFOM, кай а барьам, коллогом!» ( Ведро да корок мои, куда ни иди, везде рабство! ) (2), отражающее неравные социальные отношения.
Традиционная стилистическая формула башкирских сказок «посмотрит на землю - и плачет, посмотрит на небо - и смеется» выражает душевные переживания героев в своеобразной форме. «Теге котеусе ургэ карай а илай, тубэн карай да келэ. — ЭССЭЛЭМЭРЭЛЭЙКУМ, кустым! Нишлэпулайтан? — Ургэ караьам, Алпамышаныц улек кэудэьен курэм, HiyFa илайым. Тубэн караьам, Алпамыша килэ яткан кеуек, niyFa колом, — ти» ( Тот пастух посмотрит на небо - плачет, посмотрит на землю -смеется. - Здравствуй, брат мой! Почему так делаешь? - Посмотрю на небо -вижу мертвое тело Алпамыши, поэтому плачу, посмотрю на землю, вроде, идет Алпамыша, поэтому смеюсь ) (2).
Формула немного трансформирована в 6-ом варианте: «Курмэйьенме ни, бысак уткерлэйем,— тип эйтте, ти, теге,— бысагымдыц йоденэ карайым да шатланам, ьыртына карайым да кейонэм»,— тип эйтте, ти. «Ницэ улай?» — тип hopaFac, теге: «Был Алпамыша батыр бысагы ине, хэ?ер уныц башы олакты, бысагы мицэ калды, шуга шатланам,— тип эйтте, ти.— Э бына Колттбэ уныц Барьыньылыуына кул ьалырга эдерлэнэ, тидэр, уньщ есон койонэм»,— тип эйтте, ти» (6). Как известно, эпосу не свойственен психологизм. Тем не менее, существует необходимость в проявлении чувств, эмоций героев, для чего и используется данная формула.
Эпические сказания через века дошли до нас в различных композиционных формах: это и прозаические повествования, и полностью стихотворные поэмы, и смесь прозы и стиха. Проф. С.А.Галин относит «Алпамышу» к иртякам, так как в нем сочетаются проза и стихи и поднимаются семейно-бытовые проблемы.1 Действительно, во всех вариантах произведения стихи и проза чередуются, причем в различных пропорциях. В варианте Х.Бурангулова превалирует стихотворная форма, а в 3, 19, 20-х вариантах - проза. Но в любом случае сохраняется такая закономерность: стихи усиливают прозаическую часть сюжета, увеличивают эмоционально-экспрессивную окраску произведения, придают ему драматизм и динамику. Стихи даются в форме диалогов героев. Эпос сохранил такие стихи диалогического характера, частично совпадающие между собой в различных его вариантах: диалог Алпамыши с отцом, когда он просит разрешения поехать на майдан Барсынхылу, диалог между Барсынхылу и снохой, диалог Алпамыши с дядей Колтабом, диалог Барсынхылу с отцом и матерью, обращение Алпамыши к гусям, диалог Барсынхылу с Алпамышем, со свекровью и др. Лишь в отдельных сказочных вариантах (варианты А.Г.Бессонова, Л. и Г.Юлдашевых) использована полностью прозаическая форма, хотя их существование объяснимо. Например, Бессонов оставил русский перевод услышанного им варианта. Возможно, некогда и его информатор сообщил ему стихотворные части повествования, но из-за сложностей перевода они выпали из оборота. Для собирателя важнее было зафиксировать содержание произведения. А вариант, предложенный Юлдашевыми, и по содержанию очень короток. Здесь описывается лишь один эпизод единоборства Алпамыши с Барсынхылу, поэтому стихотворная часть также не сохранилась.