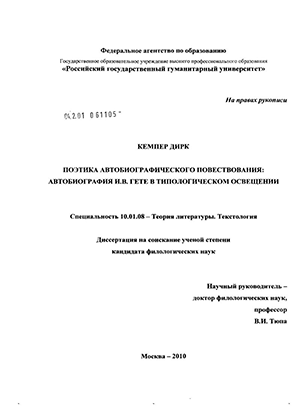Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Нарративные схемы и концепция индивидуальности 12
1.1. Автобиографическая наррация: типология и схемы повествования 12
1.1.1. История «anima» 12
1.1.2. История «ego» 66
1.1.3. История «psyche» 77
1.2. Теория индивидуальности и проблема оформления автобиографии 93
1.2.1: Контингенти ость - когерентность- смысл — исходная цель 93
1.2.2. «Origo» - порождающий принцип нарративной структуры 99
1.2.3.1 Узнаваемость структуры 106
1.2.4. «Ineffabile» 114
Глава 2. Автобиографический проект И. В. Гете «Из моей жизни» 134
2.1. Творческая история. Стадия 1811-1814 годов 137
2.1.1. Личность и эпоха 137
2.1.2. Полиперспективизм нарративных схем 149
2.2. Творческая история. Стадия 1814-1817 годов 157
2.2.1. Вторая молодость и строительство башни 158
2.2.2. Второе рождение как нарративная схема 170
2.3. Творческая история. Стадия 1817-1831 годов 181
2.3.1. Демоническое - «ineffabile» в новом измерении 181
2.3.2. Нарративная схема «уток и основа» ..188
Заключение 195
Библиография 197
- История «anima»
- Контингенти ость - когерентность- смысл — исходная цель
- Полиперспективизм нарративных схем
- Демоническое - «ineffabile» в новом измерении
Введение к работе
Целью настоящей работы является типологическое изучение автобиографического повествования на примере произведений Гете «Поэзия и правда. Из моей жизни» (1811–1831) и «Итальянское путешествие» (1816–1817). Предметом исследования служат принципы сюжетообразования и нарративная структура автобиографических произведений Гете, его современников и предшественников, воплощенная в них концепция индивидуальности, творческая история «Поэзии и правды», ее жанровый и культурно-эстетический контекст. Материал анализа образуют автобиографические тексты Гете: «Поэзия и правда», «Итальянское путешествие» и книга 6 романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» («Признания прекрасной души»), жизнеописание современника и друга юности Гете И.Г. Юнг-Штиллинга («Юность Генриха Штиллинга», «Странствия Генриха Штиллинга» и др.), автобиографический роман К.Ф. Морица «Антон Рейзер», автобиографии немецких пиетистов XVII–XVIII вв. (А.Г. Франке, Ф.Я. Шпенер и др.), «Опыты» Монтеня, «Исповедь» Аврелия Августина.
Задачи исследования заключаются в том, чтобы:
-
обосновать новую типологию автобиографических текстов;
-
создать терминологический аппарат для описания автобиографической наррации;
-
выявить ключевые нарративные схемы, характеризующие автобиографическое повествование в творчестве Гете и различный характер их применения в «Поэзии и правде» и в «Итальянском путешествии»;
-
проследить эволюцию концепции индивидуальности в автобиографических произведениях Гете;
-
прояснить некоторые эпизоды творческой истории автобиографических сочинений Гете в культурно-историческом контексте его эпохи.
Актуальность темы и направления исследования. Изучение автобиографического повествования вводит в самый центр той проблематики, которая, начиная с Канта, определяет самосознание модернистской культуры. Существо этой проблематики заключается в том, что и образ своего «Я», и картина мира, которую создает себе современный человек в различных областях культурной деятельности, представляют собой субъективную конструкцию, не поддающуюся верификации и требующую все новых оправданий. Жанр автобиографии интересен и актуален потому, что позволяет выявить механизмы и условия создания этой конструкции в наиболее чистой и доступной форме.
Научная новизна исследования определяется постановкой вопроса о глубинной связи между историей автобиографического жанра и культурно-историческими дискурсами. Конструируя концепцию личности и мира, автобиография всегда опиралась на господствующий дискурс. Для Августина или немецких пиетистов таким дискурсом служила теология; Гете перестает наивно доверять теологическому дискурсу и оказывается перед необходимостью легитимировать концептуализацию своего «Я» и своего мира при свете скептического знания о непрочности и сомнительности любой дискурсивной формации. Исследование истории жанра автобиографии в тесном переплетении с историей идей и дискурсов позволяет рассматривать автобиографические тексты Гете как яркое свидетельство модернистского сознания.
Теоретико-методологическую основу исследования образует принцип «перманентной мутации» жанровых образований, противопоставленный статическому и вневременному пониманию жанра. Сфера действия этого принципа не ограничивается рамками литературного ряда (в смысле автоматизации – деавтоматизации), а захватывает и дискурсивный контекст жанровой эволюции. Последнее влечет за собой необходимость переосмысления терминологии и языка описания. Если имманентные мутации поддаются описанию в сравнительно устойчивых терминах, то изучение жанра на переломе культурно-исторических эпох, в контексте больших стадиальных сдвигов требует переоценки традиционного терминологического аппарата, что и является одной из задач настоящей работы.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Гете опирался на широкую европейскую традицию автобиографического жанра от Аврелия Августина до XVIII в. В диссертации предлагается классификация текстов, образующих эту традицию. Они поддаются разделению на три группы: история anima в теологическом смысле этого понятия (Августин, пиетизм, «Признания прекрасной души» Гете, Юнг-Штиллинг), история ego, либо рефлектирующего, либо действующего «Я» (Монтень) и история psyche как предмета эмпирической психологии XVIII века (К.Ф. Мориц).
2. Анализ автобиографического повествования макроэпохи модерна требует новой терминологии. Для решения проблемы сюжетного оформления автобиографического материала мы предлагаем ввести категории контингентности, когерентности, конечного смысла и исходной цели (как жизни, так и жизнеописания). Каждая из них выражает определенный принцип связи, позволяющей преобразовать сырой материал жизни (закрепленный в памяти или в документальных источниках) в сюжетную конструкцию.
3. В качестве еще одной инновативной категории мы вводим понятие «порождающий принцип нарративной структуры», которое позволяет точнее разграничить «Я» повествующее и «Я» повествуемое. Это важно потому, что при длительном периоде работы над текстом модус изображения автором своей жизни претерпевает, как правило, существенные изменения, так что автобиография (как мы видим это на примере Юнг-Штиллинга) объединяет в себе несколько различных образов и концепций личности.
4. Гете разрабатывает новые нарративные схемы автобиографического повествования. Уже в первых трех частях «Поэзии и правды» он значительно усложняет (по сравнению с традицией жанра) нарративную концепцию своего «Я», вводя полиперспективизм нарративных схем и пользуясь децентрированной моделью индивидуальности, проистекающей из сознания множественности «Я».
5. В «Итальянском путешествии» сознание множественности «Я» получает выражение в переходе от эгоцентрической к децетрированной наррации. Образы «Я», из которых каждый соответствует особому этапу жизненного пути и сконструирован с применением своего порождающего принципа и своей нарративной схемы образуют здесь два текстовых уровня, которые презентируются уже не в модусе повествования, но в модусе демонстрации.
6. Если в предисловии к «Поэзии и правде» Гете заявляет о своей претензии на логическое толкование своей жизни, то в последней, четвертой части автобиографии он сознательно отказывается от этой претензии. Включая в концепцию своего «Я» и в свою картину мира категорию «демонического», он переходит к нарративной схеме, развертывающей метафору ткацкого станка и выражающей специфику модернистского сознания.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные научные результаты позволяют уточнить сложившиеся представления об основных жанровых разновидностях автобиографии в европейской литературе и обосновать ключевую роль автобиографического проекта Гете «Из моей жизни» в становлении концепции человека модерна.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что предложенная концепция философской прозы дает науке и практике преподавания новое представление о функционировании философского пласта в автобиографической литературе. Полученные результаты могут быть использованы в вузовских курсах истории и теории западноевропейских литератур, сравнительного литературоведения, а также при разработке спецкурсов, учебных и учебно-методических пособий, посвященных проблемам философской прозы.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования изложены в докладах на межвузовских и международных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, а также в Мюнхене, Веймаре, Фрейбурге, на заседаниях Российского союза германистов и Санкт-Петербургской комиссии по изучению творчества Гете и его эпохи, в ряде публикаций на немецком и русском языке. Материал диссертации использовался на лекциях в РГГУ и МГУ.
Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
История «anima»
В «Исповеди» Августин задает себе вопрос о том, перед кем и с какой целью он делает свои признания, и почему он их обнародует: «Кому рассказываю я это? Не Тебе, Господи, но пред Тобою рассказываю семье моей, семье людской, как бы ничтожно ни было число тех, кому попадется в руки эта книга. И зачем? Конечно, чтобы я и всякий читающий подумали, «из какой бездны приходится взывать к Тебе». А что ближе ушей Твоих к сердцу, которое исповедуется Тебе и живет по вере Твоей?»2 Отсюда ясно, что в «Исповеди» мы имеем дело с особой коммуникативной ситуацией, где Я выступает в трех лицах — пишущее Я, изображаемое Я и — здесь особый случай — Я-адресат, поскольку Августин пишет: «Конечно, чтобы я и всякий читающий подумали...»3 Терминологически эту ситуацию, характерную в ее неопределенности для применения понятия Я до Декарта 1, проясняет различение между «homo interior» и «homo exterion : «Тогда я обратился к себе и сказал; „Ты кто?" И ответил: „Человек". Вот у меня тело и душа, готовые служить мне; одно находится во внешнем мире, другая — внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о Котором я уже спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только мог послать за вестями лучи глаз своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня. Все телесные вестники возвестили душе моей, судье и председательнице, об ответах неба, земли и всего, что на них; они гласили: „Мы не боги; Творец наш, вот Он". Внутреннему человеку сообщил об этом состоявший у него в услужении внешний; я, внутренний, узнал об этом, — я, я душа, через свои телесные чувства»5.
Фоном и исходной точкой для постановки вопроса о своем Я выступают поиски такого места, где Я удостоверяется в самом себе, но прежде всего в Боге, из которого оно вышло и к которому оно — в контексте учения о памяти, развернутого в книге десятой, — снова стремится. В тсолого-антропологическом плане Я определяет себя как существо, отмеченное дуализмом души и тела. Но этот дуализм включен в особую перспективу, заметно отличающуюся от учения апостола Павла, у которого дуализм берется преимущественно в аспекте греховности. Напротив, у Августина акцент сделан на способности и возможности богопознания.
Уже внешний человек постоянно находится в поисках своего Бога, «per corpus а terra usque ad caelum», как о том свидетельствуют первые книги Исповеди. «Телесный способ» означает, несомненно, сенсуализм («per sensus corporis mei»), ибо Августин подробно рассказывает о своей приверженности манихейству и занятиях манихейской космологией. Под внешним человеком понимается тот, кто ищет своего Бога во внешнем мире, — в этом смысле мы будем в дальнейшем говорить о «человеке, обращенном вовне». Результатом этой «службы чувств» становится весть о том, что вещи внешнего мира, хотя и сотворены Богом, но ему не тождественны, и понять эту весть дано лишь Я внутреннему, душе.
Такова in mice нарративная схема «Исповеди», если рассматривать ее как автобиографию. Credo ее автора звучит так: «Sed melius quod- interius». Изображаемое внешнее Я проходит две фазы становления и в каждой из них характеризуется особыми свойствами: рассказ о том, чем было его Я, когда искало Бога во внентем мире, явственно отличается от рассказа, который — в момент деиктическои речи — ведется от лица Я внутреннего, души, готовой воспарить к Богу6.
Это имеет важные последствия для изображения жизни в «Исповеди». Внешняя vita, хотя и изображается, сознательно рассматривается автором во вторую очередь, как бы на периферии сюжета. Значение она приобретает лишь постольку, поскольку то, что кажется случайностью или заблуждением, наделяется смыслом как свидетельство благого божественного руководства7. Но главный предмет повествования образует жизнь души, жизнь «anima» — как в предыстории, так и в собственном сюжете. Героем предыстории является человек, обращенный вовне: его усилия освободиться от оков эротического вожделения и его искание истины, его пребывание в мире манихейства, его увлечение скептицизмом, а затем неоплатонизмом, наконец, его интерес к учению апостола
Павла — все это переходные, подготовительные ступени к вступлению в сферу центрального переживания, в котором герой, размышляя над одним отрывком из послания к римлянам, испытывает духовный переворот: «Не в пирах и пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти; облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти» . Собственное событие рассказа заключается, однако, в вознесении души к Богу в пассажах книги десятой, где развернута тема memoria; повествуемая здесь «pioc» есть жизнь души, жизнь сущностного Я, которое Августин терминологиически выражает с помощью риторической фигуры гендиадуса — «ego anima». Но в чем же состоит эта единственно достойная описания душевная жизнь, эта «vita anima»?9 О грозящей душе опасности, как и о смысле душевной жизни, Августин пишет очень кратко, в нескольких фрагментах, эксплицитно обосновывающих его обращение к автобиографии10. В начале пятой книги говорится: «Да хвалит Тебя душа моя, чтобы возлюбить Тебя".
Выраженное здесь причинно-следственное отношение дает ключ к пониманию «vita animae»: душа призвана славить Бога не потому, что она его любит, а — ut finale — чтобы его возлюбить. Это значит, что душа и ее любовь к Господу не самостоятельный принцип, а потенциальность, зависимая от импульсов и вызываемой ими деятельности. Душа есть часть человеческого существа, призванная к активности, точнее, к преображению, и потому величайшая опасность для нее заключается в грехе «acedia», косной бездеятельности. Соответственно и «Исповедь» Августин пишет с намерением:
Контингенти ость - когерентность- смысл — исходная цель
До сих пор мы рассматривали историю автобиографии с точки зрения представленных в ней нарративных моделей, оставивших ту традицию, на которую Гете опирался в ходе работы над «Поэзией и правдой». Насколько сомнительными представлялись ему эти образцы, станет ясно после того, как будут рассмотрены принципы их сюжетного оформления.
Проблема сюжетного оформления автобиографического произведения может решаться на различных уровнях. Для их описания мы предлагаем ввести категории контингентности, когерентности, смысла и исходной цели. Каждая из категорий выражает определенный принцип связи, на основе которого сырой материал жизни, закрепленный в памяти или в документах, преобразуется в сюжетные конструкции или, возможно, в единый сюжет. При всем разнообразии и сложности форм, закрепляющих исходный материал жизни, ни одна из них не обладает изначальным внутренним единством. Сохраненные памятью поступки, чувства, размышления и т. д., медиальные способы их фиксации, такие, например, как письмо, дневник, портрет, произведение искусства, а также различные формы и способы передачи чужих воспоминаний, хотя все они и могут быть расположены по хронологическому или тематическому принципу, остаются все же в конечном счете грудой разрозненных элементов, и их простое нагнетание или группировка еще не дают историю челопеческой жизни. Последняя выстраивается лишь при условии, если этот сырой материал связан по определенному конструктивному принципу и ему придано внутреннее единство.
Простейшим принципом связи являсгся контингентность. Контингентной мы называем связь между двумя элементами, которая, обладая достаточной обоснованностью, не является тем не менее необходимой. В рамках оппозиции «необходимость — коитингснтность» последняя означает случайное, точнее, случившееся по определенным причинам, но не как их необходимое следствие. В своей традиционной форме контингентная связь между разрозненными фактами жизни устанавливается на основе факторов субъективного характера, когда в качестве причины выступают мотивы, намерения, желания, страхи, ощущение подневольности или вынужденности поступка. Именно в этом смысле определяет в 1737 году цель автобиографии автор «Универсального лексикона» Цедлер: «Извлечь пользу из общения с другими людьми я не могу иначе, чем ознакомившись с их намерениями. Этому учит разумно составленное жизнеописание. [...] каковы свойства их рассудка и воли [...] Разумное сопряжение этих обстоятельств и есть наивернейший ключ к речам других»1 Такого рода причинно-следственные отношения должны, однако, устанавливаться в каждом отдельном случае заново, и они не образуют общую смысловую структуру, организованную единством цели или созданную на основе общей парадигматической картины мира.
Контингентный тип связи характерен для процессуально-синхронных свидетельств о жизни, таких, например, как дневник, но не соответствует ретроспективно-конструктивным формам, одной из которых является автобиография.
Значительно сложнее организация фактов по принципу когерентности, который означает сквозную взаимозависимость теоретически между всеми установленными отношениями. Связующим принципом выступают здесь не субъективные мотивы автора и персонажей, а постоянные отсылки к внеположной им концепции миропорядка. Создать когерентную (в указанном смысле) историю человеческой жизни, значит установить внутреннюю связь между образом Я и образом мира. В обобщенной формулировке когерентность истории жизни возникает тогда, когда образ мира строится на основе идеи порядка, способной служить инструментом, обеспечивающим всестороннюю взаимообусловленность жизненных фактов. Эта идея порядка (prdo) может иметь метафизическую природу, но может быть представлена и какой-либо научной или, например, психологической парадигмой.
Однако из этого не следует, что история жизни, сконструированная по принципу когерентности, автоматически обретает смысл. Представим себе кости домино, правильно составленные в ряд: структура ряда когерентна, но он не заключает в себе смысла. В системе элементов, конституирующих историю жизни, «смысл» — понятие соотносительное, оно связано с изначально сформулированной или поставленной целью всей жизни в общем или жизни индивидуальной с ее «предназначением». Лишь эта фундаментальная телеологическая структура придает когерентной истории жизни внутреннюю направленность, которая дает возможность конструировать связь между фактами не только осмысленно, истолковывая их в соответствии с предпосланной картиной мира, но и оценивать ее по дифференциальной шкале «целесообразно / нецелесообразно», или «отвечает внутреннему предназначению / не отвечает внутреннему предназначению». Именно в таком ракурсе возникает и столь важная для построения истории жизни аксиологическая категория, как девиация, ибо судить о том, означал ли тот или иной поступок или отрезок жизни движение в обход, отклонение или заблуждение, можно лишь тогда, когда установлена цель жизни.
Жизненные цели могут, однако, меняться. Мы чувствуем — и, соответственно, выражаем это в нашей речи, — что обладаем принципиальной свободой «начать» новый «этап жизни», выбрав другую «цель жизни», и мы верим, что эта перемена откроет перед нами новую «жизненную перспективу», что означает и новый критерий самооценки.
От подобного целеполагания, темпорального и совершаемого в силу принципа автономии личности под ее собственную ответственность, следует отличать постановку исходной цели, которая не допускает свободного выбора, но представляет собою изначально установленное предназначение личности. Представление об исходной цели тесно связано с концептом «ineffabile», основой современной теории личности, которая утверждается в эпоху Гете. Вместе с тем истоки этого столь характерного для модернизма представления восходят к древности, и прежде всего К А врелию Августину. Его «Исповедь» дает достаточно оснований для того, чтобы пояснить на ее примере не только понятие исходной цели, но и все другие (представленные выше в теоретическом аспекте) принципы связи.
Полиперспективизм нарративных схем
Гердер усматривает в этом отношении дуализм между «res extensa» и «res cogitans» по типу Декарта и пытается преодолеть этот дуализм, выдвигая собственный концепт «органических сил». «Благодаря этому, кажется мне, сама система Спинозы приобрела бы большее единство. Если в его понимании божество заключает в себе бесконечные свойства, из коих каждое выражает вечную и бесконечную сущность бесчисленным количеством разных способов, то недостаточно постулировать лишь два свойства — мышление и протяженность —, которые к тому же не имеют между собою ничего общего. Мы отказываемся от неподходящего слова «свойство» (атрибут), ибо полагаем, что божество открывает себя бесконечным множеством способов в бесконечной игре сил. [...] во всем могут действовать лишь органические силы, и каждая из них позволяет нам познать свойства бесконечной мощи»64. То, что у Спинозы именуется субстанцией, Гердер называет «силой», «мощью», «органом», подразумевая некую величину, которая равным образом господствует и в физическом, и в духовном мире: «Слова органические силы обозначают и внутреннее, и внешнее, и духовное, и телесное одновременно: ибо так же, как ни одна сила не существует без органа, так и никакой дух не существует и не дейсгвует в отрыве от тела»65. Бог станозится «первосилой всех сил, органом всех органов [...], первичной и всеобщей силой (Vr-und Ailkraft)».
Мысль Спинозы подвергается здесь значительной трансформации, т. к. понятие органического включает аспекты организованной, замкнутой или функционирующей системы. Но если все силы состоят на службе у такой системы, то значит, они имеют конечную причину, они стоят в отношении к целому высшего порядка: «Все силы природы действуют органически. Каждая организация есть система живых сил, которые служат главной силе согласно вечным правилами мудрости, добра и красоты»67. Также и вся органическая система рассматривается в аспекте конечной причины, состоящей именно в том, что Бог «открывает себя органически [и] дает нам узнать свойства своей бесконечной мощи».
Второе принципиальное изменение, проистекающее из подмены понятия субстанции понятием органического, заключается в динамизации и темпорализации. В письме к Якоби Гердер замечает, что Спиноза «не знает понятий становления и не-ставшего, возникновения и не-возникнувшего. [...] Бытие выступает у него началом и концом всего» . Гердеровское понятие органического предполагает аспект закономерного развития, вследствие чего божественное совершенство открывается не только в полноте бытия, но также и в бытии как завершенном становлении и в становлении как процессе.
Вторая, присущая мышлению Гете особенность восприятия Спинозы заключается в том, что он устанавливает связь между спинозистским относительным детерминизмом и своими собственными концептами отречения и резиньяции, — или, в переводе на нашу терминологию, в том, что он вписывает образ Я в санкционированный проект мира.
В рамках общей системы аргументации, развернутой в «Поэзии и правде», отмеченная связь занимает особое место, указанием на которое служит разбор философии Спинозы, открывающий шестнадцатую книгу. Глубинная тема этой книги, если назвать ее одним словом, может быть обозначена как «внешняя определенность». Ее характер выявляется в сюжете пятнадцатой книги: желание матери, чтобы сын обзавелся семьей, желание отца, чтобы он занял достойное общественное положение, но не при дворе (такую возможность намечает встреча с Карлом Августом), а в мире бюргерства, наконец, предлагаемые ему с разных сторон планы итальянского путешествия, которые все нацелены на то, чтобы отвлечь его от чрезмерного увлечения литературой. Иными словами: Гете описывает здесь ситуацию социального давления, оказываемого на индивида с целью его инклюзии, ситуацию, в которой ему извне навязывается то или иное жизненное поведение, та или иная социальная роль. В связи с Лили Шенеман — история отношений с ней подробно излагается затем в книге семнадцатой — эта проблематика настолько заостряется, что задача шестнадцатой книги состоит в том, чтобы дать, наконец, ее разрешение. Путем к этому разрешению и становится повторное обращение к Спинозе, о котором говорится в начале шестнадцатой книги.
Характерным для всего данного тематического комплекса образом Гете начинает не прямо с учения Спинозы, а с его рецепции. Упоминая бурную полемику с кажущимся атеизмом Спинозы (книгу Иоганнеса Колеруса «Жизнь Бенедикта Спинозы», энциклопедическую статью Бейля «Спиноза», спор Якоби и Мендельсона), Гете отвергает ее потому, что она не столько дает представление о Спинозе, сколько содержит чужие рекомендации по поводу того, как должна была бы выглядеть его философия с точки зрения его интерпретаторов. Верить им Гете отказывается, ибо предпочитает «узнавать, что думает человек, а не слышать от другого, что должен был бы думать»69. Лишь затем он осторожно намечает собствешгую позицию в рамках современных дебатов: «Наша физическая, равно как и общественная жизнь, наши обычаи, привычки, житейская мудрость, философия, религия, даже многие случайные события — все призывает нас к самоотречению. Многое из того, что внутренне от нас неотъемлемо, нам возбраняется обнаруживать вовне; то же, в чем мы нуждаемся извне для пополнения своей внутренней сущности, у нас отнимается; взамен нам навязывают многое нам чуждое, даже тягостное. У нас крадут то, что было добыто с великим трудом, и то, что нам было благосклонно даровано, и прежде чем мы успеваем отдать себе отчет в этом хищении, как уже оказываемся вынужденными поступиться своей личностью, сперва частично, а затем и полностью. При этом еще вошло в обычай пренебрежительно относиться к тем, кто позволяет себе артачиться. Словом, чем горше питье, тем более сладкая мина требуется от тебя, чтобы, боже упаси, не обидеть спокойного наблюдателя какой-нибудь неподобающей гримасой» [Г. 3. С. 567].
Как видим, факторы, на которые Гете возлагает ответственность за внешнее определение личности, весьма разнообразны: ограниченность и временность наших физических возможностей, нормативная власть социальных ожиданий, наконец, требования философии и религии — «все призывает нас к отречению». В данном контексте понятие «отречение» окрашено отрицательно, ибо отказ от себя, который оно предполагает, обуслозлен чужой волей, навязан извне. Исходя из логики эксклюзионной индивидуальности, Гете все эти требования отвергает, даже не входя в их содержание, формально, так как они в любом случае ставят под угрозу то, «что внутренне от нас неотъемлемо», «нашу личность». Тот факт, что при этом от нас еще требуется и «сладкая мина», объясняется принципами действия вышеописанного социального механизма, ответственного за распространение господствующих культурных идеалов и т. д.: всякое приобщение к идеалу санкционируется социокультурным механизмом подтверждения для того, чтобы желание быть причастным к этой системе подтверждений было сильнее, чем возможное сопротивление привилегированному культурному идеалу. Именно о таких механизмах идет речь у Гете: «Однако природа для разрешения сей трудной задачи щедро одарила человека силой, энергией и упорством, хотя, скорей всего, ему приходит на помощь легкомыслие, в полной мере ему отпущенное.
Демоническое - «ineffabile» в новом измерении
На последней фазе создания автобиографического проекта программный отказ от претензии на объяснение своей жизни, от доминирующей позиции всезнающего толкователя влечет за собой, как бы парадоксально это ни звучало, появление нового концепта для конкретизации смыслового потенциала. В период работы над последней реализованной частью проекта «Из моей жизни», т. е. над четвертой частью «Поэзии и правды», в центр внимания Гете выдвигается идея демонического.
Представляется, что придать этому понятию четкие очертания в ходе литературоведческого анализа — задача изначально трудновыполнимая и даже сомнительная. «Демоническое» выступает у Гете не в качестве понятия, участвующего в самоописании разума, а представляет собою некий шифр, обозначающий нечто, воспринимаемое per definitionem как непостижимое начало, противопоставленное рационалистическому дискурсу и ни разуму, рассудку не доступное.
Такой характер демонического Гете не устает подчеркивать в своих разговорах с Эккерманом: «Демоническое, — сказал он, — есть то, чего ни рассудок, ни разум постичь не могут»1.
В связи с этим возникает вопрос, почему Гете вообще пускается в разговоры о демоническом, тем более в такие, которые предназначались для потомков. Смысл они обретают лишь постольку, поскольку все его высказывания по поводу демонического так или иначе отсылают к литературным текстам, в которых демоническое уже получило или должно получить образное воплощение. К их числу относится прежде всего четвертая часть «Поэзии и правды», но также и стихотворение «Иервоглаголы. Орфическое». Высказывания Гете на тему демонического не образуют, таким образом, изолированного теоретического дискурса, а представляют собой размышления о том, что ему удалось хотя бы приблизительно выразить в ином, литературном модусе. Дистиллировать из этих размышлений некий теоретический концепт можно лишь с большой осторожностью, с пониманием того, что высказывания Гете на эту тему противоречивы по самой их природе.
Все высказывания Гете о демоническом распадаются на два уровня, образующие нарративный концепт, представленный в предисловии к «Поэзии и правде», — уровень индивида и уровень эпохи.
Относительно индивида демоническое проявляется как мгновенный взрыв действующей энергии, переключающей человека в состояние «озарения»: «Судьба человека определяется сменой помрачений и озарений! Хорошо бы, если бы наш демон всегда водил нас на помочах и подсказывал нам, толкал нас к тому, что следует делать. Но добрый дух нас покидает, и мы обмякаем и ощупью бродим во тьме. Наполеон — вот был человек! Всегда озарен, всегда просветлен и решителен, и каждый час наделен достаточной энергией, чтобы тотчас же осуществить то, что он считал правильным и необходимым. Всю свою жизнь он как полубог шел от битвы к битве, от победы к победе. О нем с полным правом можно было бы сказать, что он пребывал в состоянии негаснущего озарения»2.
Слово «озарение» несет в себе многочисленные коннотации, отсылающие к христианскому словоупотреблению, но на первом плане Гете пользуется им в другом значении. Постоянная смена озарений и помрачений предполагает, что демоническое обнаруживает себя в мгновенном возрастании действующей силы и энергии, т. е. повышении энтелехии. Как явствует из параллельных высказываний, касающихся герцога, «озарение» означает здесь не столько сопричастность к высшей истине с коннотацией ясности, сколько саму вспышку действующей энергии как таковую, которая словно «lumen ex luminc» придает демоническому индивиду особую «притягательность», способность привлекать к себе (attrativa) других. Но все, что индивид в этом состоянии делает и совершает, он совершает как бы «инстинктивно» , отчасти даже «бессознательно», становясь своего рода «исполнителем воли высшего мирового правительства», «достойным сосудом, вобравшим в себя божественное влияние» 1.
Демоническое выступает в этом контексте как нечто индивиду чуждое, им извне овладевающее. Оно творит человеческую судьбу благодаря своему присутствию, как и своему отсутствию, когда оно оставляет человека в состоянии вялости и помрачения. В такой трактовке дискурс о демоническом отсылает к представлению о некоей картине мира, миропорядке, в который индивид может себя вписать. Тот факт, что с субъективной точки зрения этот порядок кажется антипорядком, ничего по существу не меняет. Именно в этом значении, применительно к миропорядку, употребляет Гете понятие демонического в письме к Коте: «Абсолютное, моральный миропорядок, systole и diastole! Он не должен ничего в себе разъяснять. В следующий раз, когда мы встретимся, я дам тебе представление о демоническом, тогда больше уже ничего не нужно»5.
Не следует, однако, забывать о том, что ни здесь, ни в других случаях Гете не стремился дать логическое определение демонического и не считал себя на это способным; он лишь пытается приблизительно обозначить в различных образах и аспектах то, что невыразимо на языке понятий. Один из его стратегических подходов заключается в использовании морфологических вариантов обозначаемого: следует различать «демоническое», о котором до сих пор шла речь, от «демонов», а их от «демона». В последнем случае демоническое начало является по отношению к индивиду уже чем-то чуждым, не принадлежащим ему самому и служит не созданию картины мира, а созданию образа своего Я, объяснению индивидуальности и индивидуального предназначения.
С особой ясностью мы видим это в стихотворении «Первоглаголы. Орфическое». Здесь «AAIMQN» употребляется как одно из священных слов из учения орфиков, с которым Гете познакомился в 1817 году по ученому спору между Иоганном Якобом Германом, Георгом Фридрихом Крейцером и Георгом Цоегой. В качестве священных слов или первоглаголов AAIMQN TUXH, EPQZ, ANAFK/f, а также ЕЛШ являются не инструментальными порождениями разума, а носителями первичного знания, предшествующего или лежащего вне рационалистического дискурса, и, соответственно, в смысле низших познавательных способностей, изначально данного предчувствия.