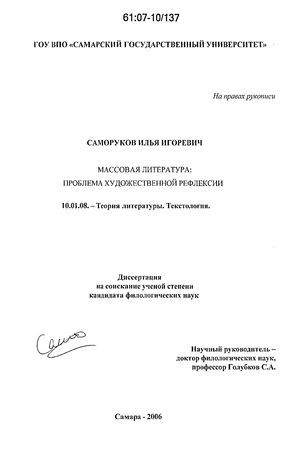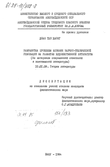Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Массовая литература: поэтика и функционирование .
1.1 Определение массовой литературы 17
а) Массовая литература как искусство среднего или даже низкого вкуса 23
б) Массовая литература как использующая отработанные темы и приемы 26
в) Массовая литература как репрезентация социальных и культурных стереотипов 29
г) Массовая литература как коммерческое искусство 34
д) Массовая литература как традиционный тип творчества 37
1.2 Массовая литература и массовая культура 47
1.3 Жанры массовой литературы 52
ГЛАВА ВТОРАЯ. Массовая литература и литературная классика. Знаки канона в массовой литературе
2.1 «Легенда о литературе» 63
2.2. Классика и массовая литература, существует ли конфликт? 74
2.3, Способы взаимодействия массовой литературы с каноном, или репрезентация массовой словесностью «идеи культуры» 81
а) Знаковые имена 85
б) Цитаты и топосы 101
в) Тема творчества в массовой словесности 115
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Массовая литература как материал для поэтических инноваций 125
3.1. Массовая литература как мышление формулами, «Проект» массовой литературы Б. Кенжеева 129
3.2. Жанровая форма массового романа как материал инновационного творчества 155
3.3. Художественное исследование массовой культуры:
символы масскульта в инновационной литературе 164
Заключение 173
Список источников и использованной литературы 180
- Массовая литература как использующая отработанные темы и приемы
- Классика и массовая литература, существует ли конфликт?
- Тема творчества в массовой словесности
- Массовая литература как мышление формулами, «Проект» массовой литературы Б. Кенжеева
Введение к работе
Актуальность исследования определяется недостаточной
теоретической проработанностью проблем массовой литературы, необходимостью корректировки представлений о поэтике и
функционировании литературы в современной культурной ситуации, накопившимся художественным материалом, в котором так или иначе осмысляется место массовой словесности в «системе литературы».
Материалом диссертации послужили в основном произведения русской литературы 1990-2000 гг. Среди них 30 романов различных жанров отечественной массовой литературы. При этом мы старались следовать логике рядового потребителя литературной продукции, т. е. рассматривали востребованные жанры популярных авторов. Среди текстов, подвергающих рефлексии проблематику и поэтику массовой литературы, мы выбрали такие (Б. Кенжеев, Б. Ширянов, П. Пепперштейн), в которых работа с ее жанрами и мотивами наиболее очевидна.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней теоретически осмысливается система современной литературы как пространство взаимодействия «высокой» и «массовой» словесности.
Поэтика современной отечественной массовой литературы
обстоятельно и подробно была исследована к докторской диссертации М.А. Черняк «Массовая литература XX века: проблемы генезиса и поэтики» (2005), а также в ее монографии «Феномен массовой литературы XX века». Однако теория взаимодействия высокой и массовой литературы не составляла специального предмета исследования литературоведа, хотя эта проблема затрагивалась.
Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы диссертации могут способствовать разработке теории массовой литературы и использоваться в различных теоретических и историко-литературных вузовских курсах, а также в практике школьного преподавании литературы, поскольку способствуют обогащению контекста изучения классических и современных произведений.
Апробация. Положения диссертации изложены в 5 научных
публикациях. Содержание диссертационного исследования излагалось на
7 научных конференциях, среди которых международная научная
конференция «Граница как механизм смыслопорождения» (Самара, июнь
2003 ), вторая международная научная конференция «Литература в
контексте современности» (Челябинск, февраль 2005), Всероссийская
научно-методическая конференция «Движение художественных форм XX-
XXI веков» в рамках проекта «Самарская филологическая школа»
(Самара, июнь 2005), Международная конференция «Морфология страха»
(Самара, апрель 2005), Всероссийская конференция «Литература и кино:
парадоксы диалога» (Самара, октябрь 2005). Концепция диссертации и ее
основные положения обсуждались на специальном семинаре в Институте
немецкой культуры им. Гете (Самарский государственный университет,
Самарская гуманитарная академия, февраль 2006). Материалы
диссертации были использованы для проведения семинарских занятий по курсу «История зарубежной литературы XX века», а также в курсе «История русской литературы 1950-2000-х годов». Идеи диссертации популяризировались в газетах «Волжский комсомолец» и «Волжская коммуна».
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка источников и использованной литературы, насчитывающего 217 наименований. Общий объем исследования 198 страниц.
Массовая литература как использующая отработанные темы и приемы
В литературоведении весьма распространенным считается мнение, что массовая литература черпает из классики и из высокой литературы различные художественные приемы, темы, проблематику. Эта особенность массовой литературы часто становится предметом жесткой критики и основанием для того, чтобы назвать ее «вторичной», «эпигонской». «Вторичность» в искусстве нового времени всегда считается признаком отрицательным. Ценным считается только новое , и как ведущий оценочный принцип выступает отличие вновь появившегося произведения от предшествующего. Понимание массовой литературы как эпигонской словесности, тиражирующей приемы уже отработанные «высокой литературой», можно было бы схематично свести к оппозиции ремесло / искусство.
Массовая литература это профессиональное литературное творчество. Авторы массовой литературы - писатели- профессионалы. Они регулярно делятся с коллегами и читателями «технологией» своего ремесла, учатся друг у друга. Ниже нами будет показано, как в текстах массовой литературы в рамках темы художника и творчества осуществляется «диалог», а точнее - конструируется система отсылок к различным жанрам и наиболее популярным и успешным авторам - коллегам по литературному полю. Профессионализм массовых авторов выражается в их продуктивности, ведь эти писатели работают по четко выверенным алгоритмам. Количество романов массовых авторов исчисляется десятками. Это может быть даже своеобразным критерием, позволяющим отличить массового автора от «немассового». Так, по данным С. Чупринина, автора справочника « Русская литература сегодня.
Путеводитель» (М, 2003), один из самых популярных авторов в жанре «мужского боевика» Виктор Доценко с 1993 по 2003 год выпустил 25 романов о Бешеном; самая востребованная публикой писательница Дарья Донцова, работающая в жанре женского иронического детектива, до 2003 года включительно создала и опубликовала 47 произведений, Дмитрий Емец, скандально прославившийся историей с подражанием романам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, работающий в жанре научной фантастики и сказочно-фантастических триллеров для детей, с 1994 по 2003 годы, написал 40 произведений. Цифры впечатляют, особенно, если сравнить их с количеством произведений, написанных за это время инновационными авторами. Так, Виктор Пелевин - один из самых популярных таких писателей - с 1992 по 2003 год выпустил всего 9 книг, из них только 5 романов, остальное - рассказы и повести, причем они нередко повторяются в разных изданиях. Это обстоятельство особенно важно, если учесть, что Пелевин в полном смысле слова профессиональный писатель, то есть живет только на доходы от своих произведений, большинство же инновационных авторов не являются в социальном смысле профессионалами, так как в основном зарабатывают не художественными текстами. Таким образом, можно ввести еще одну оппозицию, описывающую место массовой словесности в системе литературы - тиражируемое /уникальное. Эта дихотомия проявляется и в позиции исследователей: « массовую словесность» изучают « всю сразу», или по жанрам, как фольклор, в центре внимания исследователей редко оказываются отдельные тексты, а о всестороннем анализе конкретного произведения можно лишь мечтать. В то время как инновационную, высокую литературу изучают именно как уникальный объект, состоящий из отдельных шедевров. Здесь как раз не хватает «общей картины» системы литературы, на что обращали внимание формалисты. М. Бондаренко предлагает схему, структурирующую различные области современной русской литературы по принципу профессионализма, который включает в себя в данном случае владение литературными конвенциями. В этой схеме непротиворечиво объединяются социологический и спецификаторскиЙ (обращающий внимание на поэтику произведения) подходы. Схема Бондаренко представляет текущий литературный процесс следующим образом. Выделяются два главных субполя: 1) профессиональная словесность (художественная литература); 2) непрофессиональная (дилетантская) словесность.
1) Здесь отмечаются три основных субполя «второго порядка»:
«профессиональная "массовая" литература», «актуальная (ориентированная на инновацию)» литература во всем многообразии конкурирующих стратегий, «неактуальная», «ориентирующаяся на отработанные каноны архива» литература.
2) Здесь выделяются: «наив» ( = «примитив»), «детское творчество» и литература «секундарная (медиальная)», т. е. «неумелая, клишированная, ориентированная на воспроизведение профанированных канонов»23.
Классика и массовая литература, существует ли конфликт?
Распространенное мнение, что массовая литература в современной культурной ситуации вступает в конфликт системой ценностей классики, на наш взгляд, не соответствует действительности. Массовая литература продукт современности, классика, ее образ в виде «легенды о литературе» также конструируется с позиций современных носителей культуры. Если и можно говорить здесь о каком-либо конфликте, то точнее было бы констатировать столкновение ценностей, интересов и символов различных социальных групп, пытающихся означить «наследие прошлого». В этом смысле классике противостоит и инновационное творчество. Но, в отличие от массовых писателей, авторы новаторских произведений подвергают рефлексии (и в художественных текстах, и в манифестах) свое отношение к традиции и устанавливающим эту традицию культурным институтам (академиям, университетам, школам, консервативным авторам).
Массовая литература, как и инновационная, генетически так или иначе восходит к так называемой классической литературе, к канону. В каноне закладываются литературные конвенции, влияния которых избежать в творчестве, тем более в профессиональном, практически невозможно. Социологи литературы полагают, что литература в современном ее виде, то есть как социальный институт, включающий в себя общественные формы создания, восприятия и оценки, циркуляции художественных текстов, с самого начала включала в себя и «корпус писателей» ( В.А. Конев), имеющий характер образца, и массовую литературу, и инновационные художественные стратегии. Подчеркивая это единство литературного развития, Б. Дубин пишет: «Было бы перспективно увидеть в массовой культуре и в классике разные групповые проекции, соотнесенные друг с другом развертки одного «современного» представления о человеке и обществе, быте, истории и мире, наконец - о самой литературе»64.
«Высокая классика», - отмечает один авторитетный исследователь, -является центральным компонентом актуальной литературной культуры, задавая ей на каждый данный момент общую для участников взаимодействия систему координат и обеспечивая их тем самым сознанием принадлежности к социальному институту литературы»65.
Дифференциация литературного потока ( то есть разделение его на классику, массовую литературу и инновационное творчество) происходит в середине 19 века и является частным случаем проявления «функциональной дифференциации» (Н. Луман) современного общества. Под «функциональной дифференциацией» понимается разделение различных видов и родов деятельности, их автономизация в зависимости от выполняемой ими общественной функции. Идеологией высокой литературы, включая классику, стало «не быть развлечением», критически осмысливать актуальные проблемы общества и человека. Массовая литература, как мы уже писали, осталась приверженной старинному принципу «развлекая поучать». Но со временем принцип «поучения» трансформировался в набор тривиальных истин, которые сообщают читателю герои (реже повествователи) массовых романов. Массовая литература сама эти ценности не вырабатывает, а репрезентирует их как готовые. Виды и функции этой репрезентации мы рассмотрим ниже.
Функциональная дифференциация нашла отражение в поэтике произведений. Дж. Кавелти предполагал, что в прошлом литературные формы содержали в себе миметический и формульный компоненты в такой пропорции, что в специальной эскапистской ( то есть массовой) литературе попросту не было нужды66.
Думается, что литературная классика, как она конструируется в актуальном литературном поле, как раз и является таким сбалансированным совмещением «формульного» (развлекательного, стереотипного) и «миметического» ( серьезного, воссоздающего мир во всей его сложности) компонентов. Классика играет в литературной культуре роль своеобразного горизонта, к которому устремлены взгляды писателей и массовой, и инновационной литературы, и произведений, ориентирующихся на «продолжение традиций», или на «отработанные каноны архива» ( в классификации М. Бондаренко «профессиональная неактуальная литература»). Например, известный критик П. Басинский, который по своим эстетическим пристрастиям является консерватором, в статье «Моветриетика» сетует на современное разделение высокой и массовой литературы, сомневается в «законности» этого разделения и пытается, заручившись авторитетом истории, доказать, что русская литература едина и что «ее единство и есть ее единственный «патент на благородство». В доказательство своего утверждения Басинский перечисляет популярных массовых писателей конца XVIII- начала XIX века (Ф. Эмин, М. Комаров, Ф. Булгарин, В. Нарежный), кратко характеризует их творчество и делает довольно смелый вывод: «Но именно от этих функций (объединяющей и просветительской) и отказались сегодня обе части современной литературы. Первая (серьезная) замкнулась сама в себе и превратилась в маленькую катакомбную церковь, которая и не церковь даже - но секта, культовый кружок со своими раздорами и разборками. Вторая (массовая) подчинена исключительно законам рынка, который в России пока не рынок, а грабеж среди белого дня. И обе -незаконны „. Выходит, нужен третий путь? Да не третий и не пятый, а единственный! Пиши о людях, для людей, по-людски!». 7
Тема творчества в массовой словесности
В этом пункте мы рассмотрим, как в массовом романе репрезентируется тема творчества, как массовые писатели в своих вымышленных повествованиях говорят о художнике, творческом процессе. Тема творчества весьма распространена в массовой литературе и массовой культуре в целом. Как справедливо, указывает Б. Дубин, законам массовой словесности является постоянное тематическое обновление, поиск новых сюжетных ходов. При этом различные жанры выступают особыми условными средствами «разведки и колонизации тематических пространств современности». Тема творчества в массовой словесности особенно важна для нас, так как она полностью заимствована из инновационной высокой литературы, где возникает в предромантическую эпоху. Возникновение темы творчества можно рассматривать как поэтический показатель автономизации искусства слова от других видов речевой деятельности. В искусстве возникает мотив внеположенности художника быту, который массовый роман превращает в общее место.
Присутствие темы творчества призвано усложнить концептуальную и поэтическую структуру массового романа. Она часто ретардирует интригу, нарушает линейность повествования, удваивает романный мир путем использования приема «текст-в-тексте», усложняют систему персонажей, вводя фигуру писателя. Писатель нередко является в массовом произведении рупором эстетических воззрений автора, а иногда выполняет роль стороннего наблюдателя изображаемых событий, который в своих высказываниях эти события «завершает», «означивает», расшифровывает их смысл. Этот наблюдатель во многих текстах является автором детективных романов. Так, в романе В. Платовой «Смерть на кончике хвоста» популярный автор детективов Воронов помогает главной героине и следователю в разгадке тайны исчезновения и убийства фотомодели. Воронов интерпретирует загадочные факты, строит версии случившегося, параллельно используя эти находки в качестве элементов интриги нового детектива. Заглавие детективного романа Воронова совпадает с заглавием романа В. Платовой - «Смерть на кончике хвоста». Так реализуется прием «текст-в-тексте», характерный для поэтологического романа. В какой-то степени сочинение В. Платовой и есть поэтологический роман, поскольку здесь не только обсуждается поэтика детектива ( в диалогах героев), но сочинение литературного произведения становится важным моментом сюжета. Формула тайны, характерная для детектива, метафорически реализуется и как «тайна творчества». Расследование преступления становится материалом романа. Детективная интрига характерна и для поэтологического романа высокого модернизма. Ярчайшим примером здесь являются романы В. Набокова («Отчаяние», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»). Наличие детективной интриги позволяет критике говорить о массовых стратегиях элитарных писателей. Однако в инновационной литературе не преступление является толчком к созданию романа, а роман становится материалом преступления ( или по крайней мере, загадки, которую необходимо разрешить).
Известно, что детективный жанр родился в недрах романтизма. Можно сказать, что он был изначально связан с темой творчества в форме интеллектуального поиска. Герой-детектив читал мир как текст, обращая внимание на коннотации очевидных значений предметов. Такие сыщики, как Шерлок Холмс, часто разгадывали тайну, интерпретируя рассказы жертв и свидетелей. Таким образом, детективная схема с самого начала содержит в себе необходимость параллельного событийной интриге сюжета ее словесной интерпретации, со своими драматическими коллизиями, ложными ходами и счастливой развязкой. Как показал Ю. Щеглов, для классического детектива характерны два события: одно, касающееся факта преступления ( «внутренняя новелла»), становится предметом второго события - события его интерпретации -«расследования и анализа завершенного дела» («основная новелла»). Со временем, в массовом детективе «внутренняя новелла» разрослась, а «основная» утратила свою особую выделенность в композиции. В жанре боевика тайна, нуждающаяся в разгадке, приключения самой разгадки практически исчезают. Весь читательский интерес сосредоточивается на перипетиях самого события преступления. Классическая модель «двух новелл» сохраняется в женском детективе, хотя «основная новелла» здесь встраивается в картины быта и нравов. Сюжет расследования становится своеобразным механизмом включения в мир массового детектива новых социальных тем, среди которых оказывается и изучаемая нами тема творчества.
В некоторых изученных нами романах в расследовании участвуют люди так или иначе связанные со словом, с литературной культурой. Например, Каменская у Марининой выросла в с семье филологов, прекрасно знает несколько языков, разбирается в литературе; героиня П. Дашковой («Кровь нерожденных») - журналистка; Даша Васильева Д. Донцовой -переводчица; о том, что к расследованию героев часто подвигает чтение детективных романов, мы уже писали. Даже в романе Дэна Брауна в разгадывании тайны участвует человек профессионально связанный с толкованием текстов. Навыки работы со словом, его интерпретации помогают ведущим расследование героям мыслить нестандартно.
Как мы уже говорили, авторы массовых романов во многих случаях -люди достаточно высокой литературной культуры, создающие произведения, согласуясь с коммерческими требованиями. Так, Полина Дашкова (настоящее имя - Поляченко Татьяна Викторовна) окончила Литинститут (семинар поэзии Л.И. Ошанина), работала в отделе литературы журнала «Сельская молодежь», заведующей отделом литературы и искусства «Русский курьер». Дарья Донцова ( Агриппина Аркадьевна Васильева) родилась в семье писателя А.Н. Васильева, окончила факультет журналистики МГУ. Известно, что многие массовые серийные романы создаются литературными группами («литературные негры»), а имя автора, вынесенное на обложку - вымышленное. Эти писатели выносят на страницы своих произведений проблемы, связанные с нелегкой для «художника слова» жизнью в условиях тиражирования литературной продукции. В массовых романах можно встретить образы издателей-хищников, способных даже на преступление ради получения прибыли от выпуска романов (А. Маринина «Стилист», Л. Гурский «Перемена мест»), образы писателей-неудачников и писателей -конъюнктурщиков:
Массовая литература как мышление формулами, «Проект» массовой литературы Б. Кенжеева
Итак, в нашу задачу входит поиск в романе Б.Кенжеева «Иван Безуглов» схем и элементов массовой литературы. Прямым знаком игры с определенным литературным жанром служит название романа. В заголовочный комплекс произведения помимо имени главного героя, Ивана Безуглова, входит также обозначение жанра, в котором пишет Кенжеев - мещтіский роман. Обозначение жанра, в котором писатель будет работать, пусть в некоторой степени и ироническое, настраивает читателя на определенное, конвенционально обусловленное восприятие.
На примере романа Кенжеева мы выявляем один из возможных способов работы «немассового» писателя с массовой литературой. Что дает нам право рассматривать то или иное произведение как массовое или как игру, как рефлексию над массовым литературным продуктом? Разумеется, автор сам пытается подать знаки, указывающие на то, что здесь пародия, или же игра, или же эксперимент. Иногда индексом выступает лишь название произведения. Так, американский писатель Чарльз Буковски озаглавливает свой роман, написанный по жесткой формуле боевика, негативным в литературном контексте словом «Макулатура» (Pulp), а поляк Тадеуш Конвицкий в 1992-м пишет роман со столь же подчеркнуто пренебрежительным названием: "Czytado" ("Чтиво"). Подобные названия создают так называемую «ироническую раму». Часто эта рама, позволяющая воспринимать текст и как прямое, и как переосмысленное высказывание, держится только на заглавии. Крайняя степень «эксплуатации» элементов массовой литературы проявляется в тех произведениях, где игра с жанром эксплицитно не выражена. Тогда граница между массовой (конвенциональной) и инновационной литературой не может быть выявлена путем традиционного анализа поэтики, необходимо включить контекстуальный момент.
Подобные радикальные жесты обычно свойственны авторам авангардистского толка. В авангардистскую стратегию входит не только поиск абсолютно новых форм, но и использование самых банальных штампов, где возможность инновации равна нулю, и именно этот «минус-прием» становится творчески продуктивным. Например, Владимир Сорокин в своих интервью говорил, что мечтает написать «настоящий» канонический производственный роман. В случае Б. Кенжеева обозначение жанра - мещанский роман - не является единственным знаком игры с конвенциями массовой литературы, но он - первый фактор в организации процесса восприятия.
При анализе романа мы должны выделить элементы, которые позволяют причислить нам это произведение к массовой литературе, и прежде всего формулы, т.к. именно формула является основной единицей поэтики массового романа. Затем нам необходимо найти «знаки сомнения», т.е. те элементы, благодаря которым мы можем определить, что мы имеем дело с пародией на массовое произведение или же со стилизацией, или же с заимствованием формул для построения нового жанра - одним словом, с рефлексией. Границу между массовой и «серьезной» литературой можно искать не только на примере двух произведений, где одно - однозначно массовое, например, «Иван Выжигин» Ф.Булгарина или «Золото Бешеного» В.Доценко, а другое - подлинный шедевр, например, «Мертвые души» Н.Гоголя или «Москва-Петушки» В.Ерофеева, но и внутри отдельных текстов. Таким текстом можно назвать роман Б. Кенжеева «Иван Безуглов», где мы видим и характерное для массовой беллетристики использование формул, и художественную рефлексию этих формул.
В начале необходимо обозначить, какие именно формулы мы будем рассматривать. За исходную точку целесообразно, на наш взгляд, принять классификацию Дж. Кавелти. Среди базовых формул он называет приключение, историю, тайну, мелодраму и чуждые состояния. Последнюю формулу в нашем случае следует исключить, т.к. ни о чем фантастическом в романе речи не идет.
Несмотря на то, что Кавелти пытается свести весь корпус массовой литературы к пяти базовым формулам, возможность для выделения еще одной или нескольких более «частных» формул всегда остается, поскольку появляются новые сферы жизни, и осмысление каждой из этих сфер актуализирует свои формулы. Так, критик Виктор Мясников, проанализировав несколько популярных американских и российских текстов (А.Хейли «Отель», «Аэропорт»; А.Рыбин «Фирма», О.Андреев «Отель», «Вокзал», «Казино»), выделяет формулу «технотриллера». «Технотриллер - остросюжетное прозаическое произведение (роман, повесть), в основе которого лежит документально точный и подробный рассказ о технологии производства или оказания услуг, функционировании государственных, общественных, частно-предпринимательских структур и отраслей теневой экономики, о жизни социальных групп, содержащий значительную долю новой для большинства читателей информации. Персонажи технотриллера, как правило, выполняют вспомогательную роль в раскрытии темы» . Ближайшим предшественником этой формулы является распространенный в советской литературе так называемый «производственный роман». Сюжет анализируемого нами романа развивается на фоне предпринимательской деятельности главного героя, поэтому отнесение произведения к жанру (формуле) технотриллера выглядит вполне правомерным.
В романе Кенжеева можно выделить элементы пяти формул массовой литературы: приключения, любовной истории, тайны, мелодрамы и «технотриллера». Из комбинации их и возникает синтетическая форма, которую сам автор называет «мещанским романом». Роман Кенжеева был опубликован в 1993 году. Тогда российская массовая литература еще не имела четкого жанрового репертуара, как сейчас, поэтому, создавая проект нового «мещанского романа», автор не мог на нее ориентироваться. Предметом художественной рефлексии Кенжеева, эмигрировавшего в начале 80-х годов в Канаду, на наш взгляд, могла стать американская формульная литература, соцреалистическиЙ роман, а также русская массовая литература начала XIX века. Именно на основе дискурсов трех указанных литератур Кенжеев пытается создать модель жанра, адекватного сознанию массового человека постперестроечной эпохи. Эту попытку можно рассматривать как литературный эксперимент, который входит в «авторское задание». Текст Кенжеева публиковался только в журнале «Знамя» и отдельным, а тем более массовым изданием, не вышел. Он функционирует лишь в поле актуальной инновационной литературы. Кенжеев, опубликовав «Ивана Безуглова», как бы предложил другим писателям один из способов художественного осмысления современности, и способ этот заключался в заимствовании приемов западной массовой литературы или отечественной массовой литературы прошлых эпох.