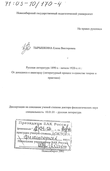Содержание к диссертации
Введение
РАЗДЕЛ 1. Писатель в теоретико-методологическом освещении (с. 18)
Глава 1. Концепция писателя в теориях литературы: историко-теоретический подход, (с. 18)
Глава 2. Мир реальный и мир глазами писателя: действительность в документах и в литературе , (с. 42)
Глава 3. Самоидентификация писателя как теоретическая проблема, (с. 78)
РАЗДЕЛ 2. Тезаурус писателя: опыт самоидентификации , (с. 87)
Глава 1. Писатель: личность и образ жизни, (с. 87)
1. Общий взгляд (с. 87)
2. Автомифология (с. 107)
3. Писатель (с. 112)
4. Старый писатель (с. 129)
5. Мастерская. Приемы и методы (с. 136)
6. Писатель как психолог (с. 159)
7. О таланте (с. 165) Глава 2. Писатель и литература, (с. 173)
1. Общий взгляд на литературу (с. 173)
2. Реализм и модернизм (с. 186)
3. Слово (с. 198)
4. Стиль (с. 209)
5. Язык (с. 222)
6. Сюжет (с. 232)
7. Рассказ (с. 237)
8. Роман (с. 246)
9. Пьеса (с. 272)
10. Дневники и мемуары (с. 283)
11. Писатель и критика (с. 302) Глава 3. Писатель и общество, (с. 311)
1. Литература и общество (с. 311)
2. Цензура и писатель (с. 322)
3. Учителя и ученики (с. 330)
РАЗДЕЛ 3. Самонаблюдение писателя за литературной работой, (с. 339)
Глава 1. Автор — литература — жизнь, (с. 339) Глава 2. Романы. Отблески времени, (с. 369)
Глава 3. Писатель как сочинитель в жизненных контактах: авто-микронаблюдение, (с. 391)
Заключение, (с. 448)
Список использованной литературы, (с. 452)
- Мир реальный и мир глазами писателя: действительность в документах и в литературе
- Автомифология
- Реализм и модернизм
- Цензура и писатель
Введение к работе
В характере писателя (имеются в виду его профессиональные
свойства) есть желание что-то узнать о себе. Как это делается? Что нахо
дится за закрытой дверью, как возникает мир, который писатель, как гу
сеница шелкопряда, выдавливающая шелковую нить, вынимает из себя?
Наверное, уже не требует доказательств, что писатель не просто «списы
вает» мир и окружающее, ведь практически и списать-то невозможно,
потому что прикосновение к слову, расстановка слов в определенном
порядке уже несут некий субъективный момент. Творчество писателя —
это как бы микс из его собственных сновидений и обрывков той объек
тивной реальности, которую писателю удалось охватить, та самая реаль
ность, прошитая фантазиями. Обычно писатель остро прозревает фено
менологию собственного творчества, позывы к нему и мотивы, которые
он сам не всегда может обосновать. ^ ^^'*
Почему так или иначе? Что диктует тот или иной эпитет: компьютерный подсчет или некий внутренний импульс? Писатель рано задает себе вопрос: как это все получается? Существует хрестоматийное замечание Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как подорожник у забора, как лопухи и лебеда». Но ведь не только из сора. В строительство идет и философия, и последние достижения филологии, и отголоски политических дискуссий, и художественных мнений, наконец, даже ошибки и оговорки жизни могут стать определенными ходами и ступенями творчества. По своему характеру и образу деятельности писатель, как, впрочем, и любой деятель искусств, склонен к рефлексии, к «дрожанию» выбора, к излишним вопросам не только относительно самой материи, не только относительно словесной данности, но и по поводу того, из чего эта данность состоит и как она трансформируется в процессе творчества. Художник слишком часто за-
5 дает себе вопрос: почему я творю, как это получается, каким образом мои действия приводят именно к этому результату? Художник — почти всегда, возможно, и неосознанный, но теоретик. Иногда, не формулируя этого, он из опыта понимает, что лучше всего ему пишется весной или осенью, а еще точнее — весною, но всегда на заре. Если переводить все это на сугубо конкретный язык, то проще всего сказать: писатель — это еще всегда и теоретик собственного творчества. Но ведь, не правда ли, законы своего маленького собственного творчества ведут к познанию законов более обобщенных, законов всеобщих, и именно поэтому каждый писатель почти всегда, в той или иной степени — исследователь, он всегда открывает теоретический мир, литературно отстроенный заново? И каждое такое новое знание — особое знание каждого писателя-теоретика имеет определенное значение и для науки, и для литературы.
Актуальность исследования фигуры писателя в избранном ключе определяется как значимостью ее для существования феномена литературы, так и необычайно малой исследованностью в рамках такой фундаментальной для литературоведения науки, как теория литературы.
Несомненно, «автор» занимал определенное место в работах теоретиков.
В диссертации будет прослежен процесс формирования концепции писателя как автора, выступающего в разных ипостасях, будут изложены взгляды на этот предмет Платона и Аристотеля, классицистов, романтиков, Ш. О. Сент-Бёва и других мыслителей вплоть до Р. Барта, Ю. Кри-стевой, М. Фуко, выдвинувших идею «смерти автора», и литературоведов 1990-х годов, подвергших эту идею критике.
Мы обратимся и к трудам отечественных теоретиков литературы.
Характерен в этом смысле путь эволюции научной школы теории литературы Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, на протяжении многих лет возглавляемой крупнейшим нашим теоретиком академиком РАН П. А. Николаевым. На более
ранних этапах основное внимание ученого было сосредоточено на разработке проблем творческого метода (причем следует особо отметить, что исследователь, в противовес многим авторам того времени, искал не абстрактно-логическое, а историко-теоретические разрешение этих проблем1). Тогда же его интерес к историческому аспекту теории литературы проявился в создании истории литературоведения как научной дисциплины2 и в выделении в системе литературоведческих категорий принципа историзма для монографического изучения3. Но со временем П. А. Николаев все большее внимание стал уделять собственно писателям (очевидно, в этом направлении развивались его теоретико-литературные взгляды), и своеобразным итогом этого движения стал выпуск биобиблиографических словарей о русских писателях под его редакцией4.
См.: Николаев П. А. Реализм как творческий метод (историко-теоретические очерки). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975.
2 См.: Николаев П. А. Возникновение марксистского литературоведения
в России (Методология, проблемы реализма). — М.: Изд-во Моск. ун-та,
1970; Академические школы в русском литературоведении / Отв. ред.
П. А. Николаев. — М.: Наука, 1975; Возникновение русской науки о ли
тературе / Отв. ред. П. А. Николаев. — М.: Наука, 1975; Николаев П. А.,
Курилов А. С, Гришунин А. Л. История русского литературоведения /
Под ред. П. А. Николаева. — М.: Высшая школа, 1980; Николаев П. А.
Марксистско-ленинское литературоведение. — М.: Просвещение, 1983;
и др.
3 См.: Николаев П. А. Историзм в художественном творчестве и в лите
ратуроведении. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.
4 Русские писатели: 1800-1917. Биографический словарь / Гл. ред.
П. А. Николаев. М.: Сов. энциклопедия, 1989. — Т. 1; Русские писатели:
Подробно остановимся на идеях и трудах Пуришевской научной школы кафедры всемирной литературы Московского педагогического государственного университета, в которой фигуре писателя неизменно уделялось большое внимание как в трудах ее основателей Б. И. Пурише-ва и М. Е. Елизаровой5, так и нынешних ее представителей. Примером может служить книга Н. П. Михальской «Десять английских романи-, стов» . Под ее же редакцией вышел обширный биобиблиографический словарь «Зарубежные писатели»7 — своего рода итог деятельности кафедры в этом направлении (статьи самой Н. П. Михальской, а также В. Н. Ганина, Вл. А. Лукова, М. И. Николы, Н. И. Соколовой, В. П. Трыко-ва, Г. Н. Храповицкой, Е. Н. Черноземовой, И. О. Шайтанова и др.).
Уже не итогом, а возможной перспективой можно считать выпущенный в 2003 г. коллективом авторов под редакцией Н. П. Михальской
вузовский учебник «Зарубежная литература. XX век» , где чуть ли не впервые на моей памяти при изложении литературного процесса новейшего периода материал представлен не по направлениям (экспрессио-
Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Гл. ред. П. А. Николаев. — М.: Просвещение, 1990.
5 См., напр.: Пуришев Б. И. Гёте. — М.: ГИЗ, 1931; Елизарова М. Е.
Бальзак. — М.: Гослитиздат, 1951.
6 Михальская Н. П. Десять английских романистов: Моногр. — М.:
Прометей, 2003.
Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н. П. Михальской. — М.: Просвещение, 1997; 2-е, перераб. и расширенное изд.: Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н. П. Михальской. — М.: Дрофа, 2003. 8 Зарубежная литература. XX век / Н. П. Михальская, В. А. Пронин, Е. В. Жаринов и др.; под общ. ред. Н. П. Михальской. — М.: Дрофа, 2003.
8 низм, сюрреализм, постмодернизм и т. д.), а по авторам (Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Бертольт Брехт, Габриель Гарсиа Маркес и т. д.). Кому-то это может показаться старомодным, мне же представляется это самым настоящим новаторством, за которым просматривается какая-то новая концепция, учитывающая принципиальное значение авторской индивидуальности в литературе.
Контуры этой концепции можно обнаружить в книге одного из лидеров той же научной школы Вл. А. Лукова «История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней»9, где впервые вводится понятие персональных моделей10. Однако автор справедливо замечает: «Мы выделяем авторов, создавших плодотворные персональные модели, но не перестраиваем изложения истории литературы в этом ключе, так как устоявшейся теории здесь пока не существует»11.
И все же работы Николаевской, Пуришевской и других научных школ остаются в основном в рамках истории литературы (и теории этой истории). Даже если будет разработана теория персональных моделей, это не решит вопроса о теории автора как составной части собственно теории литературы.
Внести вклад в решение этой последней задачи и призвана данная диссертация.
Объектом исследования становится писатель как творческая личность, предметом — его самоидентификация.
Цель диссертации, таким образом, достаточно амбициозна: обозначить место, которое в теории литературы должна занимать фигура
9 Луков Вл. А. История литературы: Зарубежная литература от истоков
до наших дней. — М.: Академия, 2003.
10 Там же. — С. 13-14, а также раздел «Примеры персональных моделей
в литературе XX века» (с. 456-483) и др.
11 Там же. —С. 14.
9 писателя в том ее ракурсе, который образует проблема авторской самоидентификации.
Из цели вытекают более конкретные задачи работы:
представить фигуру писателя в теоретико-методологическом освещении;
на основе самоидентификации раскрыть особенности тезауруса писателя;
проанализировать самонаблюдение писателя за литературной работой.
Задачи, так сформулированные, влекут за собой выбор определенной структуры диссертации: она состоит из Введения, трех разделов, соответствующих по содержанию трем поставленным задачам и последовательно из раскрывающих (с внутренними подразделами: главами и параграфами, посвященными анализу конкретных вопросов и аспектов), Заключения и Списка использованной литературы.
Методология исследования. Это было камнем преткновения. Марксистско-ленинская методология, многие десятилетия определявшая отечественное литературоведение, вдруг стала настолько немодной, что от нее не отказались — нет, ее просто перестали упоминать, выплеснув с водой и ребенка. Это имело двоякие последствия: с одной стороны, пропала какая-то надежная, апробированная опора, с другой — появилась невиданная свобода методологических поисков. Второе, конечно, замечательно, однако ничего дельного взамен устаревших методологических представлений так и не было придумано. И ниша методологии оказалась заполненной западным постмодернизмом. Теперь редко встретишь работы, в которых не ссылались бы на Ж. Деррида, Р. Барта, Ж. Делёза, М. Фуко, Ж. Бодрийяра, Ю. Кристеву и примерно десяток других модных имен. Ни один из этих прославленных авторов не пытался создать новую теорию литературы, напротив, пафос постмодернизма — в разрушении («деконструкции») и теории, и истории литературы (если гово-
10 рить о литературоведении), а задача — в обнажении сугубо философских проблем нередко через посредство литературоведческой «призмы». В этом отношении постмодернизм мало что дает в области методологии литературоведческого исследования, ходя может быть привлечен для выработки нового способа изложения материала (о чем ниже). Постмодернизм заставляет думать, где же изыскать методы, методологическую опору в период кризиса методологии, — ив этом его огромное достоинство. Другое достоинство, которое нельзя не отметить, — освобождение старых, сложившихся, «академических» систем гуманитарного знания от уже выработавшей свой ресурс тематики. Как можно было прежде назвать фундаментальный философский труд «О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только»? А Деррида это делает . Или «Забота о себе»? Или «Использование удовольствий»? А Фуко это делает13.
Заметим: генезис этой философской традиции трудно проследить раньше работ Ф. Ницше, объявившего в «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом»1 и других своих трудах о «смерти Бога», «переоценке всех ценностей». Ну, разве что «Мир как воля и представление» А. Шопенгау-
12 См.: Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не
только: Пер. с фр. — Мн.: Современный литератор, 1999. — (Классиче
ская философская мысль).
13 См.: Фуко М. История сексуальности-Ш: Забота о себе: Пер. с фр. —
Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. — (Astrum Sapientiale);
Его же. Использование удовольствий: Введение // Фуко М. Воля к исти
не: По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет:
Пер. с фр. — М.: Касталь, 1996. — С. 269-306.
14 Названные работы — в изд.: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т.: Пер. с нем.
— М.: Мысль, 1990. — Т. 2.
эра15, «Единственный и его собственность» М. Штирнера , еще несколько исходных для самого Ницше работ можно вспомнить. Отсюда, очевидно, — названия работ «Смерть автора» Р. Барта, «Воля к знанию» М. Фуко и т. д., сама замена философии философствованием17.
Но избранная в диссертации тема плохо поддается трактовке в рамках этой методологической линии, которая лишь подсказывает, что нужно разрушить сложившиеся стереотипы.
И тогда на помощь пришла полуторатысячелетняя традиция, лежащая в основе европейской культуры — традиция самоанализа (Августин Блаженный, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, 3. Фрейд), которая трансформирована и конкретизирована в диссертационном исследовании, где ведущим методом становится писательская самоидентификация. Ниже, в главах работы, эта позиция будет подробно обоснована.
Точно так же в главах будет обоснован второй центральный метод диссертационного исследования — тезаурусный анализ. Это достаточно новый и перспективный научный подход, придающий обширному материалу самоанализа целостность и теоретический смысл. Здесь ориенти-ром стали работы Вал. и Вл. Луковых и ряда других исследователей, осуществивших тезаурусный анализ явлений в области литературоведе-
15 См.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: Пер. с нем. // Шо
пенгауэр А. Собр. соч.: В 5 т. — М.: Московский клуб, 1992. — Т. 1.
16 Штирнер М. Единственный и его собственность: Пер. с нем. — Харь
ков: Основа, 1994.
17 Термин, примененный К. Ясперсом к трудам Ф. Ницше. См.: Яс-
перс К. Ницше: Введение в понимание его философствования: Пер. с
нем. — СПб.: Владимир Даль, 2004. — (Мировая Ницшеана).
18 См.: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход в гуманитарных
науках // Знание. Понимание. Умение. — 2004. — № 1. — С. 93-100.
12 ния, социологии, психологии, о чем также речь пойдет в главах диссертации.
Что касается других методов — сравнительно-исторического, типологического, историко-теоретического и других, — они также используются в работе по мере необходимости.
Специально следует оговорить стиль изложения материала диссертации. Так как автором диссертации является действующий писатель, и в этом заключается специфика защищаемой работы, академический стиль здесь не подходит. Стиль подсказан прежде всего опытом Марселя Пруста. Разоблачая слабости «биографического метода» Ш. О. Сент-Бёва, Пруст широко использовал не академический, а художественный, художественно-публицистический способ доказательства своей правоты. Уже в предисловии к задуманной им книги «Против Сент-Бёва» в первом же абзаце, начинающемся с вполне теоретического заявления «С каждым днем я все меньше значения придаю интеллекту»19, Пруст вдруг пишет: «Однажды зимним вечером, продрогнув на морозе, я вернулся домой и устроился у себя в спальне под лампой с книгой в руках, но все не мог согреться; старая моя кухарка предложила мне чаю, хотя обычно я чай не пью. И случилось так, что к чаю она подала гренки. Я обмакнул гренок в чай, положил его на язык, и в тот миг, когда ощутил его вкус — вкус размоченного в чае черствого хлеба, со мной что-то произошло: я услышал запах герани и апельсиновых деревьев, меня затопил поток чего-то ослепительного, поток счастья; я оставался недвижим, боясь хотя бы единым жестом нарушить совершающееся во мне таинство, и все цеплялся за вкус хлеба, пропитанного чаем, от которого, казалось, исходило это чудесное воздействие, как вдруг потрясенные перегородки моей памяти подались, и летние месяцы, проведенные в загородном доме, с
19 Пруст М. Против Сент-Бёва. Статьи и эссе: Пер. с фр. — М.: ЧеРо, 1999. —С. 25.
13 их утрами, влекущими за собой череду, нескончаемое бремя упоитель-
ных часов, хлынули в мое сознание» . Мы с удивлением узнаем контуры знаменитого эпизода с пирожным мадлен из первого тома романа «В поисках утраченного времени». Из теоретической статьи рождалось художественное повествование. Так как я полностью разделяю основную идею Пруста в книге «Против Сент-Бёва», имеющую прямое отношение к теме диссертации, то использую, что вполне естественно, и его способ изложения, сочетающий теоретические положения и их обоснование в художественной, художественно-публицистической форме. Единственное отличие заключается в том, что у Пруста из теоретической работы рождался роман, а у меня из художественно-публицистического материала формируется теоретическая работа.
Собственно, я здесь не первооткрыватель. Благодаря постмодернистам этот способ изложения стал в последнее время общепринятым на Западе. Меня в свое время поразила книга «Жак Деррида в Москве», опубликованная в 1993 г.21 Как писал в предисловии М. Рыклин: «Эта небольшая книга создает прецедент: впервые оригинал текста такого крупного современного философа, как Жак Деррида, выходит в свет на русском языке» . Каков же стиль философского теоретизирования крупнейшего постмодерниста? Опубликованная в книге работа Ж. Деррида «Back from Moscow, in the USSR» открывается словами: «Данное заглавие, «Back from Moscow, in the USSR», представляет собой целое созвездие цитат. Их расшифровка не потребует от вас много времени.
А то, что я хочу преподнести вам под этим псевдозаголовком, — будет ли само оно чем-то вроде повествования? Рассказом о путешест-
zu Там же. — С. 25-26.
у 1
Жак Деррида в Москве: Деконструкция путешествия: Пер. с фр. и англ. — М.: РИК «Культура», 1993. — (Ad Marginem). 22 Рыклин М. Предисловие // Там же. — С. 7.
14 вий в Москву, которое я совершил с 26 февраля по 6 марта 1990 года по приглашению Института философии Академии наук СССР, обстоятельным рассказом о путешествии?
Ответ: и да, и нет» .
Еще дальше от академического изложения — главная книга Ж. Деррида, даже в названии которой обнаруживается спор с академической традицией: «О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только». Вот ее начало: «17 ноября 1979 года. Ты читаешь немного старомодное любовное письмо, последнее в этой истории. Но ты его еще не получила. Да, по недосмотру или из-за чрезмерного старания оно может попасть в чьи угодно руки: открытка, открытое письмо, в котором секрет угадывается, но не поддается расшифровке. Ты можешь воспринимать его или выдавать, к примеру, за послание Сократа к Фрейду»24. Это теоретический трактат или роман в письмах? У специалистов никаких возражений художественное начало в текстах Деррида не вызывает, не случайно этот труд опубликован в серии «Классическая философская мысль». Значит, не только по содержанию, но и по форме изложения подобного рода работы воспринимаются уже как классические. Я этим и хочу воспользоваться в диссертации.
Однако, конечно, не стилем изложения определяется научная новизна работы, а прежде всего — ее основной идеей. В диссертации обосновывается необходимость обновить, а частично разработать заново в теории литературы проблематику, связанную с фигурой писателя, его тезауруса, и предложены на основе самоанализа, самоидентификации
Деррида Ж. Back from Moscow, in the USSR II Там же. — С. 13. 24 Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только: Пер. с фр. — Мн.: Современный литератор, 1999. — С. 5. — (Классическая философская мысль).
15 автора (действующего писателя, работающего в различных жанрах прозы, драматургии, публицистики) возможные пути решения этой задачи.
На защиту выносятся следующие положения диссертации: '
— Писатель остро прозревает феноменологию собственного твор
чества, позывы к нему и мотивы, которые он сам не всегда может обос
новать.
\| — Писатель — почти всегда, возможно, и неосознанный, но теоретик, при этом еще всегда и теоретик собственного творчества. Особое знание каждого писателя-теоретика имеет определенное значение и для науки, и для литературы.
Историко-теоретический подход позволяет охарактеризовать историческую изменчивость содержания, которое на протяжении веков вкладывалось в понятие «писателя», «автора», выделить этапы и типологию его развития от Платона до наших дней.
Воображение — основа индивидуального в писателе, которая раскрывается или через реконструкцию ученого-филолога, или через писательскую самоидентификацию — зафиксированную в тексте рефлексию писателя над своей особостью. При этом каждый писатель реализует свое воображение не только в творчестве, но и в «автомифе», что отражается на процессе самоидентификации.
Мировосприятие осуществляется субъектом через посредство тезауруса — субъективной системы идей, представлений, образов, знания той части мировой культуры, которую он освоил. Применительно к писателю тезаурус выступает как персональная картина мира, предназначенная для перевода в слово, в произведение. Она складывается как из собственных представлений, так и из цитат, придающих стройность собственным идеям, намерениям, ценностям.
Писательский тезаурус — некая самостоятельная структура в общем тезаурусе, причем структурируется не по общей модели, а исключительно по индивидуальному раскладу предпочтений, и характери-
етика писателя как важнейшей части литературного процесса в теории литературы должна выстраиваться с учетом этого обстоятельства, структура же писательского тезауруса может быть определена только в результате тщательного тезаурусного анализа.
— Изучение собственного писательского тезауруса позволяет
осуществить процедуру самоидентификации, а осуществление процеду
ры писательской самоидентификации дает познание собственного тезау
руса.
— Писатель, воспринятый через его самоидентификацию, должен
стать предметом особого внимания теории литературы, которая в на
стоящее время отходит от недавно столь популярной концепции «смерти
автора». \ * ,
В диссертации сформулирован также ряд позиций по вопросам,
рассматриваемым теорией литературы: писатель — литература — обще
ство, действительность в документах и в литературе, писатель как пси
холог, талант и мастерство писателя, реализм и модернизм, слово, стиль,
язык, сюжет, жанровая специфика рассказа, романа, пьесы, дневника и
мемуаров, писатель и критика, цензура и писатель, литературное учени
чество. В совокупности высказанные положения могут рассматриваться
как определенная система теоретико-литературного знания._]_ \\/
Научно-теоретические значение диссертации видится в обогащении теоретико-литературного знания, модификации структуры теории литературы, в которой, по мысли диссертанта, видное место должна занять разработка теории автора литературного произведения, что неизбежно должно привести к трансформации в указанном направлении конкретных литературоведческих исследований.
Практическое значение диссертации определяется возможностью использовать ее материалы и выводы в вузовском преподавании теории и истории литературы, в учебниках и учебных пособиях по филологическим дисциплинам (эта работа уже успешно ведется на протя-
17 жении ряда лет в Литературном институте им. А. М. Горького и других вузах России).
Научная апробация диссертации зафиксирована в публикациях диссертанта (свыше 300 публикаций теоретических, публицистических, художественных произведений, в том числе обобщающих материалы диссертации книг «Власть слова. Филологические тетради» , «Власть слова. Практика»26), его выступлениях на международных и российских конференциях (Марбург, 1997, 2002; Пекин, 2003; Париж, 2005 и т.д.), симпозиумах, съездах Союза писателей, на заседаниях Ученого совета и кафедр Литературного института им. А. М. Горького, в работе со студентами, аспирантами, докторантами этого вуза.
25 Есин С. Н. Власть слова. Филологические тетради. — М.: ЛГ, 2004.
367 с.
26 Есин С. Н. Власть слова. Практика. — М.: ЛГ, 2005. — 287 с.
Мир реальный и мир глазами писателя: действительность в документах и в литературе
Исследователь всегда останавливается в некотором изумлении перед миром литературы — откуда и каким образом возникает эта реальность, которая в ряде случаев завораживает и увлекает людей значительно сильнее и активнее, нежели то, что мы называем жизнью. Как эта искусственно возникшая в фантазии художника действительность видит нашу жизнь непосредственную, как выразился бы Л. Н. Толстой — физическую?
Возьмем сопоставление из классической литературы: Наташу Ростову, например, читатель подчас знает лучше, чем свою ближайшую родственницу или соседку, а дилемму Раскольникова принимает к сердцу гораздо ближе, чем акции собственного правительства. И тогда правомерен вопрос: откуда необыкновенная яркость и как возникает такая эмоциональная активность у этого, в сущности, выдуманного мира, откуда проистекает он сам? Конечно, может возникнуть наивное представление о некоей вдохновенности художника, которая «создалась» вдруг и сама по себе. Ведь, согласно физическим законам, само по себе ничто не возникает. А законы психологии гласят, что на движение интеллекта и мысли неумолимо действует импульс внешней жизни. Человеку не удается, как бы он этого по своей гордыне ни хотел, от этой жизни уберечься, она неумолимо действует на него и неизбежно — на литературу. Смешно говорить о том, что эта «физическая» жизнь непосредственно влияет на художественный мир и на писателя. Жизнь происходит независимо, писатель ее только описывает. Уже в самом факте описания есть граница, переход в мир отбора, в мир субъективного чув 43 ствования и уже потом — в произведение. Слово лишь намекает на предмет, скорее называя его, нежели определяя; определяет же лишь совокупность слов, да и она — отблеск, преломляющий одно слово в другом. Писатель, в известной мере (хотя и не в такой, какую определил для него Платон), — медиум, сомнамбула видимого, в котором на реально увиденное накладываются не только писательские представления об этике, морали, философии, истории, но и особенности чисто писательской психологии и физиологии (что в свое время особо подчеркивали представители психологической школы литературоведения). Один лучше видит, другой лучше слышит, у одного стереоскопическое зрение, у другого — двухмерное. Один видит мир в ярких живописных пятнах, у другого он подернут, как при дожде, вуалью серого цвета. Но все это лежит за текстом, читатель имеет дело с уже готовой картиной; и, может быть, поэтому так важно признание самого писателя главной «лабораторией изнутри».
Оглядываясь на реторты и запасы материала в этой лаборатории, разглядывая вытяжные шкафы и холодильники, исследуя измерительные приборы и освещение, писатель должен признать, что главный, особенный и инструмент и продукт в лаборатории — сама жизнь, ее повседневные факты.
Свыше сорока лет назад автор написал свою первую повесть «Живем только два раза»80, повесть, практически посвященную одному из рядовых героев Великой Отечественной войны. Тогда же автор про себя решил, что всю оставшуюся жизнь будет писать на эту тему. Здесь
В связи с особенностями предмета исследования и для упрощения изложения диссертант в дальнейшем представляется в тексте как автор, причем слово это выделено курсивом, чтобы его не спутать с его упор-теблением по отношению к другим писателям. надо заметить, что тридцать лет назад автору война казалась еще очень близкой ему жизненной драмой. На его решение определенно повлияла еще и, если хотите, весьма оправданная литературная мода — «контекст» литературы, ее жизненная инерция, пропитанная воспоминаниями недавней войны: тогда в поле зрения находились романы и повести Бондарева, Быкова, Бакланова, шумела поэзия недавних фронтовиков. Автор, в известной мере, сам был «участником» войны, помнил ее по детству, чувственно, в памяти запечатлелся сам факт начала войны со знаменитыми речами Молотова, потом — Сталина, воспоминания об эвакуации в Рязанскую область, возвращение в Москву в 1943 году, а также день окончания войны — 9 мая 1945 года. Все это довольно подробно уже позже было автором прописано в книге «Мемуары сорокалетнего»81, а также в публицистических статьях и даже в его романе
«Соглядатай» . Но это, повторяю, тогда, в момент написания повести «Живем только два раза», было лишь эмоциональным фоном, словесно не оформившимся и даже не родившимся, к которому надо было присовокупить достаточно широкий аспект существовавших на эту тему фильмов, произведений живописи, графики, театра. Воспоминания всегда окружают писателя и берут его в плен, но — повторю еще раз — все это общетворческий фон, а сама повесть родилась из конкретного эпизода.
И этот конкретный эпизод также описан в одной из работ автора. Но здесь я попытаюсь изложить его еще раз. Автор тогда служил на радио, имел дело с магнитной пленкой, то есть с той драматургией Факта, которая часто создавалась вырезанным словом, ощущением речевого простора, отъятием или возникновением в определенном месте паузы.
Автор тогда еще на чувственном уровне и не представлял высоких полетов литературы. Жизнь достаточно конкретна, и эпизоды ее ярки сами по себе, их только надо в некотором соответствии расположить и выстроить. Вот тогда автор и встретился со знаменитым журналистом, рассказавшим ему о том, как он ездил брать интервью в Иваново, к грузчику, ставшему по воле случая моделью для известной скульптуры Ж. К. Штробля, вознесенной над Будапештом. Фамилия этого человека, ставшего персонажем, известна.
Автомифология
Недавно была защищена весьма интересная кандидатская диссертация «Оскар Уайльд: создание автомифа и его трансформация в «био-графическом жанре» . Среди положений работы выделяются следующие:
«В истории культуры существует достаточно уникальный «феномен Уайльда», проявляющийся в особом внимании к его личности, которая начинает отчасти заслонять его творчество не только в массовом сознании, но и в трудах исследователей.
Уайльд сам спровоцировал такую ситуацию, сознательно стремясь, следуя принципам эстетизма, превратить свое существование в произведение искусства.
Уайльд как «литературный человек», разрабатывал свой собственный образ в соответствии с литературными моделями (...).
Персонажи произведений Уайльда (Дориан Грей, Саломея и др.) позволяют понять пути, по которым Уайльд осуществлял мифологизацию собственного образа.
Особое значение в его создании Уайльд уделял имиджу — внешней стороне образа, «обращенной» к наблюдателю, что оказалось действенным и нашло отражение в газетных и журнальных публикациях, мемуарах, отзывах современников.
Уайльд сам сформулировал миф о себе — «автомиф» — и создал первый образец своей мифологизированной биографии в «De profundis».
Это произведение следует рассматривать не как частное письмо, а как письмо-роман, созданный по определенным литературным моде 153 ЛЯМ» .
Мне показалось все это очень интересным и верным, более того, хорошо обоснованным в работе.
Но все же одно замечание я бы сделал. По-моему, Уайльд не столь уж одинок в создании «автомифа». Каждый писатель придумывает о себе какую-нибудь легенду. Может быть, это вообще специфика «фигуры писателя».
У меня их несколько. Но в силу, видимо, особенности воображения, мои легенды — почти полная правда. Может быть, я чуть-чуть их подправляю, драматизирую, делаю понаряднее.
Легенда номер один. Всё это я хорошо помню. Мне было лет, наверно, шесть, уже по статье 58-й, пункт 10, сидел мой отец, но я еще не ходил в школу, значит, это был конец 1943-го — начало 1944 года. Мы живем на Кропоткинской улице, в квартире, из которой нас потом выселили. По Кропоткинской проходят трамвайные рельсы, по ним идут и грузовые трамваи, развозя огромные конструкции из разбираемого остова Дворца Советов. Напротив трамвайной остановки, что возле Академии художеств, где рядом и наш дом, цветочный магазин. Ну какие цветы могут быть во время войны? Тем не менее, у совсем маленького мальчика почему-то в руках оказываются деньги, и он покупает горшок с цветами. Всё здесь, конечно, очень нелепо, но мы знаем, что у детей свои приоритеты, и горшок этот переправляется через дорогу, заносится в квартиру, и в квартире, откуда-то из недр, достается маленький детский столик. В культуре того времени были такие понятия — «детский стол» и «детский стул», на которых ребенок мог бы раскладывать свои игрушки. Маленький мальчик ставит на стол цветок, садится и, хотя на столе нет ни бумаги, ни ручки, он начинает играть «в писателя»... Почему? Откуда он взял это слово? Я до сих пор не понимаю, как в семье, где я — практически первый человек с законченным высшим образованием, возник писатель? Отчего я играл «в писателя», откуда такая внутренняя претензия?
Вторая легенда. Это когда отца уже точно посадили, нас еще не выселили из квартиры, но уплотнили, потому что на площадь «врага народа» всегда есть масса желающих. Через комнату, где живем мы — мать, я и мой брат, — ходят на кухню и в места общего пользования чужие люди. Вся мебель квартиры сдвинута и расположена в этой самой проходной комнате. К счастью, вещей тогда было значительно меньше... Всем, конечно, новый интерьер очень не нравится, но между стеной, этажеркой, на которой, в лучшем случае, стоит два десятка книг, и письменным столом образуется такой маленький закуток, где можно сидеть на корточках, как бы маленький закрытый кабинетик. На столе у самого края горит настольная лампа, на ее абажуре — бронзовые знамена, в точности повторяющие рисунок с лампы в кабинете Сталина: их часто показывали в кино. (Сейчас эти буквально антикварные лампы стоят у меня на даче, а в округе пошаливают, и я всё жду, что вскроют и мою дачу. Тогда, конечно, лампы тоже унесут, не сознавая их ценности, а просто исходя из стоимости бронзы.) В закутке светло и уютно, из окна виден Померанцев переулок, а я развешиваю по стене вырезанные из «Огонька» странички. Это портреты лауреатов Сталинской премии — писателей, художников, артистов. Почему-то мне приятно и уютно. Что это такое? Проснувшееся честолюбие или врожденная игра в писателя?
Легенда третья. Я учусь в школе, в 3-4 классе. Конечно, учусь плохо. Мою учительницу зовут Серафима Петровна Полетаева. (Видите, я помню имя и отчество первой своей учительницы, у которой учился почти 60 лет назад, — это к вопросу последней главы этой книги, которая называется «Учителя и ученики».) Собственно говоря, Серафиме Петровне я обязан всем. Тогда в школе, в первом классе, со мной учился мальчик Боря, генеральский сын: отец его был одним из крупных начальников ГУЛАГа или самым главным его начальником. Мы с ним долго дружили, потом потерялись. В моем классе учился и мальчик Ар-каша, у него отец тоже военный. Аркаша пишет так же, как и Боря, чуть скошенным, почти уставным шрифтом. У них всегда идеальные изложения, а уже потом, в старших классах — сочинения. Аркаша позднее приобрел вполне элитную профессию переводчика. В нашем классе учится еще один мальчик — Мари к, Марк, который сейчас доктор геолого-минералогических наук. Дом Марка был первым по-настоящему интеллигентным домом, где я побывал и где в комнатах висели этюды Левитана. Мать Марка работала в Третьяковской галерее и впервые меня туда отвела, за что я ей бесконечно благодарен. В этой прекрасной, милой еврейской интеллигентной семье и не скрывали, что готовят сына к жизненному поприщу писателя. Но писателем стал я. Правда, первое свое домашнее сочинение я очень тонко скомпилировал из многих печатных источников... А вот сейчас мне легче что-нибудь быстро придумать самому, чем смотреть в книжках и подгонять тексты, сдвигать цитаты.
Реализм и модернизм
Только большой дока от литературоведения способен отделить реализм от модернизма. Так сказать, зерна от плевел. Лично я в большой литературоведческой жизни с этим сыском пасую. Мне иногда до противного неловко читать какого-нибудь замшелого доморощенного реалиста, но вот попадается модернист, который, на первый взгляд, и словечка в простоте не скажет, и я все это с удовольствием проглатываю. В чем здесь дело? По природе я ведь человек, склонный к простому изображению и восприятию жизни, и, если потребуется автохарактеристика, — реалист!
Каждое время требует своих приемов и навыков в работе. Я всегда очень боюсь склонить студентов, в силу ли «давления» или привязанности их ко мне, к своей собственной практике. Я давно уже на собственном опыте установил то, что всегда было ясно теоретикам: есть групповые, возрастные, национальные и этические пристрастия. Пусть каждое дерево развивается, как оно может, как диктуют ему природа и корни. Я помню также и другое: старики ворчливы и капризны. Это моя молодая, тех еще юных лет память. Тогда же я привык говорить себе: помни, хорошо запомни, какой ты сейчас. И пусть эти твои воспоминания помогут тебе в дальнейшим, когда ты сам состаришься, судить определенные явления и молодежь. Никогда не позволяй пропасть в тебе справедливому молодому чувству, помни, что не обязательно ты всегда должен оказаться прав, есть и другая правда. Не забывай, что не может быть так, чтобы любое следующее поколение, как об этом не устают говорить люди старые, было бы хуже предыдущего.
Рождаются люди реалистами или какая-то внутренняя химия заставляет их стать именно такими, а не какими-либо иными? На эти вопросы ответить невозможно, но ведь согласимся, что и постановка вопроса — уже немало.
Моя юность прошла в детском читальном зале Ленинской библиотеки (ныне закрытом) и в залах Третьяковской галереи. В Ленинке я прогуливал занятия, но читать там давали далеко не все подряд. Чтобы в третьем классе получить «Гиперболоид инженера Гарина», пришлось взять с десяток всяких детских, вполне невинных книжонок. Читать их было не обязательно, нужно было проявить для библиотекарши свою лояльность и заинтересованность как читателя. Но сколько же всего было прочитано! Как слой за слоем укладывалось это прочитанное в голове. Какое счастье, что в Ленинке не спрашивали: «Мальчик, а почему ты сидишь у нас целый день с утра и до вечера, ты разве не ходишь в школу?»
В Третьяковку мы один раз сходили на экскурсию всем классом, а потом я привык проникать туда самостоятельно. Не так уж много мест было в Москве, где можно было культурно отдохнуть от школы. В силу этих своих отвлечений я, кстати, до сих пор наизусть не помню таблицы умножения, зато на четырех сеансах подряд смотрел «Кубанских казаков». Здесь я все знаю наизусть. Третьяковка поразила меня самим подходом к прямому отображению жизни — серьезным и похожим на саму жизнь. Все узнавалось. Здесь демонстрировались величественные века реалистического искусства. Другого искусства будто не было, и о его существовании мы не имели представления. Правда, где-то висело несколько картинок Бенуа и Лансере, а также «Утренний туалет» Серебряковой. Жизнь здесь была нарядней и веселее. Правда, существовали Врубель и его мрачный «Демон» с пожухлыми свинцовыми белилами и оттенками наготы под романтическим тряпьем. Нагота притягивала. Но все, что под одеждой, как и в Средневековье, казалось греховным и стыдным. Мозаики Дейнеки на станции метро «Маяковская» — это уже был последний рубеж условности в искусстве.
Со взрослыми книгами я впервые встретился в Калуге, в доме моей тетки. Я жил там в 1944 и 1945 году, а потом в летние месяцы. Тетка до революции училась в нескольких классах гимназии, но в войну ходила в плюшовке, тяжелом клетчатом платке и в бидоне носила на базар молоко, чтобы расплатиться с налогами. Тогда мода была на однотомники. У моих двоюродных взрослых сестер был однотомник Пушкина, однотомник Некрасова, томик Кольцова. Хранилась еще за зеркалом растрепанная книжечка Стефана Цвейга (я никогда больше не встречал этого произведения в собрании сочинений писателя) — что-то о блестящем профессоре с гомосексуальными склонностями и студенте. Через эти склонности ушла вся его творческая жизнь: когда рассказчик пошел в библиотеку, чтобы взглянуть на библиографию трудов профессора, там оказалось лишь несколько тусклых брошюр. Тема — двойная жизнь. Такие книги еще издавали в 30-е годы. Это почему-то отложилось в памяти. По ведомству «модернистской» или зарубежной литературы?
Где-то в третьем или четвертом классе попалась мне дореволюционная Чарская (или Вербицкая?) с «Ключами счастья» — там тоже было что-то эротическое. По крайней мере, и это поставило перед мальчиком вопрос, что существует какая-то иная литература. Может быть, для иной литературы нужны иные приемы?
Повторяю, мы все воспитывались в духе сурового русского реализма. Согласимся, что русский реализм — это еще и умение сказать о сложных вещах просто, а просто сказать всегда очень трудно.
Помню, когда я работал на радио и делал небольшие репортажики, которые переводились на иностранные языки, я с некоторым пренебрежением относился к людям, которые работали «просто» — делали двухстраничные политические комментарии на внутриполитические темы. Иногда эти темы были попроще, иногда посложнее. Легкая, как мне казалось, не требующая воображения работа. Но однажды я внимательнейшим образом прочел несколько подобных текстов Дмитрия Плато-новича Морозова, знаменитого в ту пору комментатора-невидимки, впоследствии за какую-то работу (сценариста-документалиста) получившего Ленинскую премию. Это была работа виртуоза, каждое слово сидело на своем месте, и его было не выковырять ножом, как камень в кремлевской брусчатке. Я так не мог, для этого нужны были другие знания и иная психика.
Писатели-профессионалы знают, что писать эдак кудряво и неожиданно многие из них умеют и любят, а вот при домашнем расслабляющем чтении отдают предпочтение простым и ясным реалистическим текстам. Другими словами, откуда же возникают модернисты?
Цензура и писатель
Как-то в воскресный день мы сидели с моим приятелем у него дома, и пили чай. Приятель — знаменитый литературовед, специалист по зарубежной литературе, и говорили мы, в общем-то, все о том же, что всю жизнь интересует его и меня: об искусстве складывать слова. Приятель этот (имя его не пишу) литературовед, легко до него докопаться, как, скажем, докопался В. Набоков в своем приложении к «Евгению Онегину» и до четы Скотининых, и до Простакова, и до двоюродного братца Буянова — всё на виду. Говорили мы с ним, кстати, и о Набокове. Приятель мой в юности (теперь уже в юности, потому что дело было лет 30 назад) первым в нашей, тогда советской, прессе опубликовал что-то о Набокове. Естественно, возник разговор о «можно и нельзя», то есть о цензуре. Разговор оказался для меня интересным, потому что последнее время я об этом много размышлял. И задал я этот вопросик приятелю в лоб. А он мне в ответ: «Это вопрос сложный». И рассказал историю, как впервые в Библиотеке им. Ленина, в спецхране, читал набоков-скую «Лолиту».
Дело, естественно, происходило тоже несколько десятков лет назад. Вот мой пересказ этой истории. Значит, мой высоколобый приятель уже с соответствующим письмом и резолюцией на нем приходит в этот спецхран и подает заявочку. А на это ему спецхранительница сразу и отвечает: «А мы, значит, порнографическую литературу после 4-х часов дня не выдаем». Ну, то ли у них спецхранительница какого-нибудь специального шкафа работала до 4-х часов, то ли, по мысли этих многознающих женщин, человек действительно после 4-х часов дня мог от чтения литературы так возбудиться, что натворил бы множество бед. Но история на этом не кончилась. Через несколько дней, когда мой приятель уже в дневное время пришел, чтобы дочитать оставленную по за 322 явке книжку, он обратил внимание, что та самая спецхранительница держит в руках томик с «Лолитой», как я уже сказал, недочитанный моим приятелем. И дальше, то ли с этим томиком очень ей не хотелось расставаться, то ли действительно бушевал в ее сердце общественный темперамент, но, выдавая книжку, она сказала: «И как вы только можете читать такую пакость и грязь!». И тут мой приятель, человек, который за словом в карман не лезет и который прекрасно знал все тогдашние правила, ей говорит: «А вы эту книжку вообще читать не имеете права». Боже мой, какой страх тут появился на лице бедной женщины!
Но все это я веду к последней фразе за этим воскресным чаепитием: «Ну так все-таки, дорогой друг, нужна цензура или нет?» Мой друг пожевал своими морщинами, отпил глоточек уже остывшего чаю и сказал: «Владимир Владимирович пришел бы в ужас, если бы узнал, что так много народу читает это его сочинение».
Веймарский министр полагает, что сладость общения — в предварительном сопротивлении
Принуждение окрыляет дух, и поэтому я в какой-то мере даже приветствую ограничение свободы печати.
И. В. Гете442
Неожиданное открытие в проблеме (Появляется новый герой)
У нас ведь не цензура выхолащивает книгу — ей принадлежат лишь последние штрихи, — а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку.
Надежда Мандельштам
Эккерман И. Разговоры с Гете. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 238. 443 Мандельштам Н. Вторая книга. — М.: Московский рабочий, 1990. — С. 101.
Сравнительно молодой писатель вторит вдове (едкой, как соляная кислота)
Мы второпях выпили у них в номере за мою публикацию, и я убежал. Дома я сел читать свои рассказы по-русски. Предвкушая удовольствие. Первые же строчки «Коньяка Наполеон» образовали у меня на лбу и спине спортивный больной пот, устремившийся по телу вниз. Рассказ был переписан, почти пересказан, слова в предложении изменили местам, мной отведенным для каждого... Мой прекрасный, мускулистый, сильный стиль был разрушен. Наутро я позвонил в отель. «Кто!? Кто это сделал?» — «Очевидно, редактора», — угрюмо отвечал Семенов.
Эдуард Лимонов
Совершенно не обязательно сажать в цензоры взрослых дядей (Детское это дело)
Был сегодня у главы цензуры — у Волина в наркомпросе. Поседел с тех пор, что не виделись. Встретил приветливо и сразу же заговорил о своей дочери Толе, которая в 11 лет вполне усвоила себе навыки хорошего цензора.
— Вот, например, № «Затейника». Я ничего не заметил и благополучно разрешил, а Толя говорит: «Папочка, этот № нельзя разрешать». — «Почему?»— «Да вот посмотри на обложку. Здесь изображено первомайское братание заграничных рабочих с советскими. Но посмотри: у заграничных так много красных флагов, да и сами они нарисованы в виде огромной толпы, а советский рабочий всего лишь один — правда, очень большой, но один — и никаких флагов нет у него. Так, папа, нельзя».