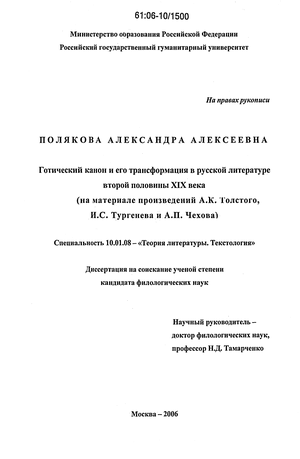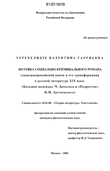Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Готический канон и проблема трансформации жанра 9
1.1 Термин «готический» 11
1.2 Готический роман: хронологические рамки классической формы 14
1.3 Классификации готических романов 20
1.4 Готический канон 24
1.5 Пути трансформации готического канона в России 33
Глава II. Между новеллой и повестью (А.К. Толстой) 41
2.1 От романа - к новелле 42
2.1.1 «Семья вурдалака» 43
2.1.2 «Встреча через триста лет» 52
2.2 От романа - к повести 67
2.2.1 «Упырь» 68
2.2.2 «Амена» 82
Глава III. Новый этап развития русской готической повести: интериоризация конфликта и переживание истории (И.С. Тургенев, А.П. Чехов) 102
3.1 «Таинственная» проза И.С. Тургенева и готическая традиция 103
3.1.1 «Призраки» 105
3.1.2 «Песнь торжествующей любви» 119
3.2 Трансформация готического канона в «Черном монахе» А.Л. Чехова 130
Заключение 143
Библиография 147
- Готический роман: хронологические рамки классической формы
- Пути трансформации готического канона в России
- «Семья вурдалака»
- «Песнь торжествующей любви»
Введение к работе
Главная цель предлагаемого диссертационного сочинения - охарактеризовать канон готического романа и проследить его трансформацию в русской литературе второй половины XIX века. Для этого необходимо решить две взаимосвязанных задачи:
выявить готический канон и дать его определение;
сопоставить с полученной моделью жанровые структуры ряда произведений и дать ответ на вопрос о путях трансформации готического канона в русской литературе XIX века.
Первая задача представляется тем сложнее, что оба используемых здесь термина нуждаются в дополнительном разъяснении. Так, прилагательное «готический» хотя и встречается в научной литературе нередко, зачастую относится к чрезвычайно широкому кругу понятий. Например, готической может быть как литература вообще (подразумевая особое литературное направление конца XVIII - начала XIX века), так и отдельные эпические жанры - «готический роман», «готическая повесть», «готическая новелла»1.
Очевидно, при этом подразумевается, что рассматриваемое в этом контексте произведение обладает определенными структурными особенностями, позволяющими отнести его к готической литературе. Однако анализ и систематизация упомянутых свойств, позволяющие поставить вопрос о готическом жанровом каноне и сформулировать его основные характеристики, встречаются в научной литературе крайне редко2.
По мнению многих исследователей, наиболее ярко и плодотворно готическая традиция проявилась в эпических жанрах, тогда как существовавшие параллельно с ними готическая лирика (ведущий жанр - баллада), и готическая драма (например, переработки готических романов) являются по отношению к ним вторичными текстами. См., например, Evans В. The Gothic Drama from Walpole to Shelley. Berkeley, 1947.
2 Так, даже в монографии М. Геймера, посвященной готическому канону, последний рассматривается как ряд мотивов и ситуаций, но отнюдь не как жанровая структура. См.: Gamer М. Romanticism and the Gothic: Genre, Reception and Canon Formation, New York, 2000.
Что же касается понятия «канон», то оно имеет множество самых разных определений, зачастую общих как для произведений изобразительного искусства, так и для литературных текстов. Тем не менее, существует лишь несколько работ, где предпринимаются попытки выявления и определения жанрового канона (да и в этих трудах речь преимущественно идет о каком-то конкретном жанре)3. В свете поставленных задач наиболее точным нам кажется определение канона, данное А.Ф. Лосевым в статье «О художественном каноне»4.
Так, говоря о готическом каноне, мы будем иметь в виду классическую форму готического романа и совокупность признаков, по которым эта форма отличалась как от самых первых произведений этого жанра, так и от последующих его вариаций.
Еще один термин, который необходимо уточнить для нашей дальнейшей работы, - это мотив. Под готическими мотивами мы будем подразумевать такие элементы сюжета (включая ситуации, события и коллизии), которые характерны для изучаемой традиции и регулярно повторяются в готических текстах.
Примечательно, что подавляющее большинство исследований, посвященных готической литературе, ставит своей целью либо изучение истории готики, ее зарождения, основных этапов развития и т.д., либо анализ того или иного значительного готического произведения, но не характеристики инварианта готической эпики (и в первую очередь романа).
3 Зачастую речь идет о средневековой литературе, где роль канона была особенно важна. См., например: Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988; Бермап Б.И. Читатель жития (агиографический канон русского Средневековья и традиции его восприятия)// Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 154-172. 4А.Ф. Лосев определяет канон как «количественно-структурную модель художественного произведения такого стиля, который, являясь определенным социально-историческим показателем, интерпретируется как принцип конструирования известного множества произведений». См.: Лосев А.Ф. О понятии художественного канона// Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки М., 1973. С. 15. Сходную формулировку дает и Д.С. Лихачев. Предложенный ученым термин «литературный этикет» во многом перекликается с «каноном» А.Ф. Лосева. См.: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
Между тем, интересующая нас проблема представляется чрезвычайно важной, поскольку лишь при наличии четко сформулированного канона мы можем выявить отклонения от него, вызванные не только историческим развитием литературы вообще, но и освоением и переосмыслением готики литературами других стран.
Кроме того, этот пробел ведет, на наш взгляд, к не вполне четкому пониманию специфики готической литературы как таковой. Одним из следствий этого является, например, тот факт, что готическая традиция в русской литературе зачастую приравнивается к фантастической без учета разновидностей русской фантастики XIX века.
Наконец, при изучении влияния западноевропейской готической литературы на русскую не учитываются типологические разновидности зарубежной готики, оказавшие различное влияние на разных русских авторов.
Сопоставляя устойчивую константную систему признаков жанра с жанровым целым хронологически более поздних текстов (в нашем случае - с рядом произведений А.К. Толстого, И.С. Тургенева и А.П. Чехова), можно будет поставить вопрос об их принадлежности к готической традиции (то есть к числу текстов, появившимся после готических романов и заимствующих отдельные элементы их поэтики), а также проследить специфику трансформации в них готического канона (вторая задача этой работы).
Очевидно, что деформации канона в этих произведениях могут быть как случайными, так и закономерными, обусловленными особенностями конкретной литературной традиции. Отслеживая и систематизируя эти отклонения, можно будет поставить вопрос и о специфике русской готической литературы. В известных нам работах о русской готике эта задача не решается. Например, Чарльз Пэсседж в своей книге «The Russian Hoffmannists» не только рассматривает русскую готическую литературу как фантастическую литературу вообще, не останавливаясь на специфике готической фантастики, но и делает акцент, прежде всего, на влиянии западноевропейской литерату-
ры (в частности, Э.Т.А. Гофмана), часто преувеличивая роль названного писателя5.
Еще одно преимущество предложенного нами подхода заключается в том, что он позволяет привлечь новый материал, который ранее крайне редко изучался в своей связи с литературной готикой. Сопоставление текстов в свете системы признаков жанров (а не одного или нескольких мотивов) позволяет проследить связь с готическим каноном там, где она не столь очевидна.
Именно поэтому для анализа были выбраны тексты, относящиеся к наименее изученному периоду существования русской готической литературы, а именно - середине и второй половине XIX века: «Упырь», «Семья вурдалака», «Встреча через триста лет» и «Амена» А.К. Толстого, «Призраки» и «Песнь торжествующей любви» И.С. Тургенева, «Черный монах» А.П. Чехова.
При анализе этих произведений, необходимо, прежде всего, рассмотреть их сюжетную и субъектную структуры, а также соотношение реального и сверхъестественного на предмет сопоставления с аспектами и элементами готического канона. Еще одна задача: проследить, изменился ли в них канон, а если обнаруженные изменения можно охарактеризовать как неслучайные и значимые, то им необходимо будет дать надлежащее пояснение.
В данном случае прозу А.К. Толстого можно рассматривать как подведение итогов самого плодотворного периода существования готической традиции в русской литературе первой трети XIX века и осмысление не только западноевропейской готики, но и русских текстов, выдержанных в той или иной степени в соответствии с готическим каноном. Что же касается произведений И.С. Тургенева и А.П. Чехова, то они представляют важнейшее звено, соединяющее русскую литературную готику начала XIX века и рубежа
5 См.: Passage Ch. Russian Hoffmannists. Hague, 1963.
ХІХ-ХХ веков. Тем интереснее представляется проследить, какие элементы готического канона оказались наиболее устойчивыми в русской литературе.
Еще одним важным аргументом при выборе материала является и его высокий художественный уровень. Все названные авторы, вне всякого сомнения, являются превосходными стилистами и самобытными писателями, которые не просто заимствуют и по-новому комбинируют сюжетные структуры и комплексы мотивов готической литературы, но и наполняют их новым содержанием, переосмысляя их и выходя тем самым за рамки готического канона.
Таким образом, метод, выбранный нами для диссертационной работы, сочетает в себе типологический и исторический подходы. В статье В.М. Жирмунского «Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур» ученый отмечает, что «сравнение, т. е. установление сходств и различий между историческими явлениями и историческое их объяснение представляет <...> обязательный элемент всякого исторического исследования. Сравнение не уничтожает специфики изучаемого явления <...>; напротив, только с помощью сравнения, т.е. установления сходств и различий, можно точно определить, в чем заключается эта специфика»6. Так как наше исследование также носит сравнительно-исторический характер, на первый план выступают проблемы скорее типологические, нежели генетические. Но при этом мы будем учитывать важнейшие факты истории развития готической литературы за рубежом и в России, поскольку исследование посвящено также и истории жанра. Между тем, в упомянутой работе Жирмунского этот вопрос не затрагивается.
Необходимо также отметить, что изучаемая здесь проблема представляется чрезвычайно актуальной и перспективной. В Советской России готическая литература мало изучалась, а сами произведения практически не переиздавались - доминировавшая в литературоведении установка на «реалисти-
6Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур// Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л., 1979. С. 67.
ческий» метод не способствовала изучению готики. Ярким подтверждением этого тезиса служат исследования, посвященные «таинственным повестям» И.С. Тургенева. Сегодня же интерес к готической литературе постоянно растет. Издаются серии «Готический роман» (например, издательств «Ладо-мир», «Терра» и «Центрполиграф»), в которых можно найти образцы русской и зарубежной готики, создаются антологии «таинственной» прозы, экранизируются готические произведения (чрезвычайно интересный пример такого рода - фильм Е. Татарского «Пьющие кровь» (1991), представляющий экранизацию повести А.К. Толстого «Упырь»). Подобные тенденции не могут не отражаться и на науке.
Поставленные задачи и выбранный материал определили структуру работы. В первой, теоретической главе дается характеристика готического канона и предлагается типология готических романов. Последующие две главы посвящены, во-первых, анализу произведений А.К. Толстого и во-вторых, произведениям И.С. Тургенева и А.П. Чехова. Затем следуют заключение и библиография.
Готический роман: хронологические рамки классической формы
Если термин не дает нам информации относительно константных признаков готического романа, возможен другой подход. Необходимо выделить из многообразия текстов произведения, созданные в момент наибольшей популярности и востребованности литературной готики, и представляющие его самые яркие образцы, на которые затем ориентировались авторы более поздних текстов. На их основе можно будет определить общую систему признаков жанра, использованную дальнейшей литературной традицией.
Вопрос о хронологических рамках для этого круга текстов мы уже затрагивали в связи с разговором о термине «готический». Так, началом эпохи классического готического романа традиционно считается публикация «Замка Отранто». Моментом же завершения этого периода следует, на наш взгляд, считать появление первых пародий на готику, то есть начало рефлексии над жанром. И если самые ранние пародии на готику появляются практически одновременно с самими готическими романами, то два самых ярких образца таких произведений - «Нортенгерское аббатство» Дж. Остен и «Аббатство кошмаров» Т.Л. Пикока были представлены публике несколько позже (несмотря на разное время создания, оба текста были опубликованы в 1818 году). Так, в романе Пикока влюбленный Скютроп, заметивший охлаждение в отношениях с предметом страсти, «удалился к себе в башню и там, спрятав лицо под ночным колпаком, сидел в кресле председателя воображаемого тайного судилища, призывал Марионетту, пугал ее до смерти, а затем открывался ей и прижимал к груди раскаявшуюся красавицу»24. В этом фрагменте сконцентрирован целый ряд готических мотивов, включая топосы замка и тюрьмы инквизиции и допрос героя.
В промежутке между этими рамками готический роман стремительно развивался, причем освоение наследия Уолпола шло двумя разными путями. Ближайшим последователем «Замка Отранто» можно считать роман К. Рив «Старый английский барон» (1778). Писательница позаимствовала у Уолпола многие сюжетные ходы и мотивы, но в то же время предложила принципиально новое соотношение реального и фантастического. Стремясь, как и автор «Замка Отранто», скомбинировать в своем произведении черты рыцарского и современного романов, Рив также пыталась примирить сверхъестественное и реальное. Однако здесь картина совершенно иная. Как отмечают исследователи, «если Уолпол делает акцент на первом из двух компонентов, то Рив отдает очевидное предпочтение второму»25.
Оставаясь намного теснее, нежели Уолпол, связанной с рационалистической эстетикой, Рив вообще отказывается от прямого использования фантастических элементов в повествовании, скрывая их под видом предположений, слухов, оптических обманов, которые, в конце концов, непременно получают рациональное объяснение. Как отмечает В.Э. Вацуро, «волшебно-рыцарский реквизит "Замка Отранто" сменялся бытовой средой, той иллюзией реальности, которая распространялась и на сверхъестественные события; психологическое предвосхищение и мотивировка этого последнего от ныне становилась основным средством создания напряжения, "атмосферы", которая меняла коренным образом всю стилистическую структуру романа, удаляя его от сказки в сторону современного бытописания»26. Еще одним важным отличием «Старого английского барона» была ориентация его автора на сентиментализм и, в частности, романы Ричардсона и Филдинга27. Подобный синтез оказался столь плодотворным, что в дальнейшем эта ветвь готических романов получила название «сентиментальные».
Несмотря на то, что роман Рив получил невысокую оценку у Г. Уолпо-ла28, идеи, заложенные писательницей, получили свое развитие в творчестве целой плеяды авторов, чьи произведения практически исключают фантастику как таковую. Например, в романе С. Ли «Убежище» писательница вообще не включает в сюжет романа фантастические события . Исследователи творчества Ли отмечают, что «мрачный потенциал готического антуража остается нереализованным в сознании и чувствах ее героинь, чье здравомыслие неподвластно мистическому ужасу»30.
Романы К. Рив и С. Ли во многом подготовили поэтику произведений самого яркого готического автора - А. Радклиф, чье творчество приходится на 90-е годы XVIII века и знаменует вершину развития и популярности готического романа. Перу Радклиф принадлежат шесть романов: «Замки Эт-лин и Данбейн» (1789), «Сицилийский роман» (1790), «Роман в лесу» (1791),
«Удольфские тайны» (1794), «Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное» (1797) и опубликованный в 1826 году уже после смерти писательницы «Гастон де Блондевиль», из которых наиболее успешными стали «Удольфские тайны» и «Итальянец».
В своих романах Радклиф продолжает традиции «сентиментальной» готической школы. Как и ее предшественницы, писательница избегает прямого обращения к фантастике, предпочитая интриговать читателя созданием таинственной атмосферы и последовательно разрушая ее разъяснением всего происшедшего.
Принципиально иным путем шло развитие другой ветви готического романа. Освоение «Замка Отранто» здесь сочеталось с наследием немецкого Schauerromane и разбойничьего романа, популярных во второй половине XVIII века. Как констатируют исследователи, «"Страшные романы" Х.Г. Шписа, К. Гроссе, Г. Цшоке и др., как и близкие к ним "рыцарские", "разбойничьи", "волшебно-политические" сочинения (обычно содержавшие "го-тическую"сатрибутику - призраков, замки, темницы, потайные ходы) в кон- " це столетия заполнили книжный рынок Германии»31.
Опираясь на другие литературные ориентиры, черный готический романе в своем развитии во многом отталкивался от сентиментальной готики и полемизировал с нею. Один из первых романов этого типа - «Ватек» У. Бек-форда (1786), действие которого разворачивается на Востоке и носит соответствующий колорит. Самым ярким образцом «черной» готики традиционно считается «Монах» М.Г. Льюиса (1796). Повествование здесь строится совершенно иначе, чем у Радклиф и авторов сентиментальных готических романов. Фантастическое становится у Льюиса объективной частью художественного мира.
Пути трансформации готического канона в России
В литературе XIX веке элементы готического канона активно использовались, однако сам он претерпел при этом значительную трансформацию. Так, сравнивая готические романы и произведения 20-30 годов (как на Западе, так и в русской литературе), сходные элементы можно обнаружить лишь при специальном анализе текстов, тогда как различия между ними очевидны.
Переходным периодом от классической готики к готической традиции следует, на наш взгляд, считать второе десятилетие XIX века. Тексты, которые появляются в это время (в частности, «Эликсиры сатаны» Э.Т. А. Гофмана и «Мельмот скиталец» Ч.Р. Метьюрина), при всем их внешнем сходстве с классической готикой, уже содержат в своей основе отличия от нее, хотя они здесь и не столь заметны.
Примечательно также, что на Западе готический роман сменяет готическая новелла, тогда как в России на первый план вытупает повесть. Процесс освоения готического канона в России, а также развитие собственной литературной готики не раз становились объектом исследования. Эти работы мы можем условно поделить на две большие группы. 1. Первая из них включает исследования, в которых прослеживается история проникновения образцов готического романа в Россию, его восприятие, читательский спрос на готику, а также ее влияние на русское общество. Этой проблеме посвящены, в частности, работы В.Э. Вацуро61 «А. Радк-лиф. Ее первые русские читатели и переводчики» и «Псевдорадклифиана». По мнению ученого, готический роман приходит в Россию с расцветом творчества А. Радклиф. Ее романы читают во французских или русских переводах, появляющихся практически сразу после публикации произведений на английском языке. Как отмечает В.Э. Вацуро, «первыми заговорили в русской печати о Радклиф московские сентименталисты - последователи Карамзина. Имя Радклиф связывалось в их сознании с эстетикой "сладкого ужаса" и с именами Грея, Томпсона, Оссиана» Ученый констатирует, что огромный читательский спрос на романы Радклиф даже породил явление «псевдорадклифианы». Под именем писательницы издавали не только ее собственные романы, но также переводы неизвестных авторов или романы, написанные самими переводчиками и выданные за произведения писательницы (как это произошло, например, с романом «Гробница», автор которого явно имитировал манеру Радклиф). Псевдорадклифиана сыграла, по мнению Вацуро, двоякую роль в развитии готической традиции в России. С одной стороны, она, несомненно, способствовала ознакомлению русской публики с этим направлением и распространению готических романов. С другой стороны, низкое качество этой прозы способствовало не только превратному пониманию творчества Радк-лиф, но и созданию весьма нелестной репутации писательницы: «уже в 1810 году имя Радклиф знаково: любовь к ее сочинениям - показатель низкого культурного и даже социального уровня»63. Еще один путь проникновения готической литературы в Россию указывает Ч. Пэсседж. По мнению ученого, им стала готическая баллада, пришедшая в Россию из немецкой литературы и ставшая особенно популярной благодаря творчеству В. Жуковского. В своих произведениях, например, элегии «Сельское кладбище» (1802) и балладе «Людмила» (1808), являющейся переложением «Леноры» Бюргера, Жуковский активно использует готические мотивы, причем, как и в немецкой предромантической литературе, предпочтение здесь отдается «черной» готике64. Эти работы представляются тем важнее, что позволяют определить, какие классические романы оказали наибольшее влияние на русскую литературу и во многом предопределили характер трансформации здесь готического канона. 2. Ко второй группе относятся исследования, посвященные собственно русским образцам готической прозы, а именно - тем русским фантастическим повестям, которые аккумулировали опыт готического романа и заимствовали его элементы. Значительно различаясь по своим литературным ориентирам, романтические повести варьируются и по своей поэтике. Так, Н.Д. Кочеткова выде ляет исторический, фантастический и светский тип повести (который возник несколько позже двух других типов)65. В свете разговора о готической традиции, наибольший интерес представляет фантастическая повесть. При этом необходимо учесть, что термин «фантастический» является a priori более широким, чем «готический». Любой готический текст включает в себя фантастический элемент (или намек на его наличие, как в сентиментальной готике), однако среди фантастических произведений могут встречаться такие, как, например, повесть В.Ф. Одоевского «4338-й год», напоминающая один из образцов научной фантастики с футуристическим элементом. Первыми образцами жанра можно считать предромантические повести Н. Карамзина. «Остров Борнгольм» (1794) и «Сиерра-Морена» (1795). Расцвет русской фантастической повести датируется исследователями по-разному. Так, И.В. Семибратова указывает ЗОе и 40е годы , тогда как С.Ф. Васильев ограничивается лишь тридцатыми годами XIX века .
«Семья вурдалака»
В произведении Толстого нас, прежде всего, интересует обрамляющая часть, в которой задаются время, место и обстоятельства рассказывания маркизом его удивительной истории. В «Семье вурдалака» обрамление появляется лишь в начале произведения. Рассказчик - светский человек, который повествует о встречах в доме графини Шварценберг под Веной в 1815 году. Собравшееся общество посвятило вечера необыкновенным историям. Подобный тип рамки имеет богатейшую традицию не только в мировой литературе вообще («Декамерон» Боккаччо), но в частности, в готической литературе (например, в повести Н.А. Полевого «Блаженство безумия»8 и «Концерте бесов» М.Н. Загоскина).
Функция этого вступления - подготовить читателя к основной истории, создать настроение, необходимое для восприятия приключений д Юрфе. Для этого, во-первых, дается описание обстановки, при которой рассказывается история: дело происходит вечером, когда сгустились сумерки, взошла луна, наступила тишина и веселое скептическое настроение слушателей сменилось на задумчивость и робость. Во-вторых, здесь оговаривается, о чем, собственно, будет рассказывать д Юрфе. «Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях». Как позже выяснится, история д Юрфе окажется сочетанием того и другого.
Третья важная особенность обрамляющей части - установка на достоверность событий, о которых пойдет речь. Прежде чем приступить к рассказу, д Юрфе обращается к слушателям со словами: «Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной черты, а именно - подлинности, ибо - насколько я уловил - никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность. ... Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так страшно и так достоверно, что оно могло бы повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада ума» (70).
Таким образом, здесь создается необходимый настрой у читателя, задается интрига.
Основная часть «Семьи вурдалака» - история д Юрфе о его поездке из Парижа в Яссы и возвращении обратно. Сюда же примыкает история Горчи, ставшего вурдалаком, последовавшего за этим превращения в вурдалаков семьи Горчи и всей деревни, а также рассказ о Зденке, которую д Юрфе встречает дважды - по дороге в Яссы и на обратном пути.
Время действия основной части вновь отодвигается назад - события происходят в 1759 году. С одной стороны, этот факт можно расценивать как дань готическому канону, поскольку действие готических романов непременно происходило в прошлом. Но следует также учитывать, что под прошлым авторы готики чаще всего понимали Средневековье. Именно поэтому готические романы публиковались под видом рукописей (например, «Замок Отранто» Г. Уолпола, «Убежище» С. Ли). Здесь же действие происходит во второй половине восемнадцатого века, то есть в прошлом, с точки зрения читателя 40-х годов XIX века, но не с точки зрения канона готического романа10.
Примечательно, что время в самом рассказе движется скачкообразно, что характерно для романтической манеры повествования. Несколько дней, проведенных д Юрфе в деревне, описаны достаточно подробно, а полгода в Яссах лишь упоминаются как пауза между двумя посещениями деревни. Кроме того, основные события непременно происходят в сумерках либо ночью, поскольку, согласно народным представлениям, именно в это время открывается граница между миром реальным и потусторонним11.
Как и герой классической готики, д Юрфе отправляется в путешествие. Его цель - отдалиться на время от герцогини де Грамон, официально же герой едет в Яссы с дипломатической миссией. Мы уже говорили о роли мотива путешествия в классической и романтической готике. Отметим лишь, что самые яркие образцы произведений, где он используется - это «Удольфские тайны» А. Радклиф и «Эликсиры сатаны» Э.Т.А. Гофмана.
Однако, в отличие от тех же романов, в рассказе Толстого нет важней- шего готического топоса - замка либо аббатства, который стал бы местом столкновения двух миров - человеческого и ирреального. Впрочем, в «Се- ; мье вурдалака» дань традиции все же отдана - неподалеку от деревни находится монастырь, башня которого возвышается над лесом, и колокол которого слышен в деревне. Хотя действие происходит и не в монастыре, он, тем не менее, играет важную роль в рассказе. Жителям деревни монастыр ский колокол служит часами. Дожидаясь Горчу, Георгий спрашивает жену, когда тот ушел. «В восемь часов, - ответила жена, - я слышала, как в монастыре ударили в колокол» (74). Едва начинает бить колокол, как Горча появляется из леса. Наконец, когда д Юрфе возвращается в Париж, лишь звук монастырского колокола напоминает ему о событиях, произошедших полгода назад, и заставляет свернуть с пути.
Помимо колокола, монастырь важен еще и тем, что в нем живет отшельник. Фигура отшельника часто появляется на страницах готического романа. Как правило, этот персонаж выступает как человек, посвященный в тайну и вынужденный хранить ее - как знание, полученное при исповеди или по каким-то иным причинам. В «Семье вурдалака» отшельник встречает д Юрфе, когда тот возвращается в деревню на обратном пути, и рассказывает ему о событиях, произошедших за время его отсутствия. Рассказ отшельника о вурдалаках разжигает желание героя отправиться в деревню и укрепляет его в решении ехать туда немедленно.,
Сербская деревня в рассказе является важнейшим топосом, «чертовым местом», границей между двумя мирами, заменив в этой функции замок. Лес, река, кладбище, находящиеся возле деревни, лишь подчеркивают «переходный» характер этого места. Природа противопоставляется культурному пространству деревни как мир смерти и вурдалаков - миру жизни и людей.
«Песнь торжествующей любви»
Прежде всего, это герцогиня де Грамон и ее прабабушка. Двойничество имеет здесь внешний характер (этот мотив прослеживается через сходство герцогини с портретом прапрабабки), его важнейший элемент - характерный для обеих дам поразительный взгляд, способный остановить зашедшего далеко поклонника. Кроме того, налицо и функциональное двойничество: обе дамы неприступны и отвергают ухаживания кавалеров. Однако, если в случае с Матильдой ситуация ухаживания и неприятия поклонника проигрывается вполне серьезно, то герцогиня де Грамон говорит о своем взгляде в рамках непринужденной светской беседы, как бы невольно пародируя старинную легенду.
Вторая пара двойников - это маркиз д Юрфе и Бертран д Обербуа. Здесь налицо функциональное сходство (хотя в случае с маркизом оно опять же присутствует в пародийном, сниженном варианте). Примечательно, что хотя между этими персонажами и нет внешнего сходства, герцогиня тем не менее принимает призрак Бертрана, закованного в доспехи и в шлеме, за д Юрфе, поскольку д Обербуа ведет себя в рамках именно того куртуазного поведения, которое пародируется маркизом д Юрфе.
Мотив двойничества герцогини/Матильды и д Юрфе/д Обербуа, намеченное при первом упоминании легенды о Бертране, будет использоваться и в дальнейшем. Так, в финале уже упоминавшейся здесь сцены дуэли в доме маркиза, д Юрфе, прощаясь, обращается к герцогине: «Сударыня, ... своим взглядом вы сбрасываете меня с лестницы, но владетельная красавица Матильда может быть уверена, что рыцарь Бертран станет всеми средствами искать встречи с ней, хотя бы лишь затем, чтобы умереть у ее ног!» (105).
Следующее обращение к старинной истории адресовано уже герцогиней-бабушкой ее внукам: она поясняет причины своей неприязни к замку д Обербуа и нежелания ехать туда даже на костюмированный бал. Здесь ге- роиня приводит легенды и народные предания, рассказанные ей в детстве ее няней. В частности, речь заходит о голодном священнике, якобы ползаю-; щем по лесу близ замка и просящем есть. Помимо этого, герцогиня приводит и историческую справку о замке д Обербуа и его владельце, вписывая, таким образом, фольклорный материал в определенную историческую канву. Наконец, рассказчица опять возвращается к истории Бертрана и Матильды.
Здесь же впервые упоминается Жанна де Рошепо, в обществе которой Бертран нашел утешение после неудачной попытки похитить Матильду. Этот персонаж выписан очень схематично (герцогиня при встрече с ней отмечает лишь, что это очень красивая дама с чрезвычайно злым выражением лица). Однако для нас фигура Жанны может быть интересна хотя бы потому, что ее история дублирует легенду о Марфе и Амвросии в повести «Упырь». В новелле «Встреча через триста лет» история Жанны лишь мельком упоминается герцогиней: «... и он [Бертран - А.П.] предавался сластолюбию и чревоугодию в обществе некой госпожи Жанны де Рошепо, которая, дабы угодить ему, умертвила своего супруга» (99).
В «Упыре» история Марфы написана в форме баллады. Помимо основной сюжетной схемы - адюльтера и убийства мужа - дублируется и мотив нечестивого пира, которому предаются убийцы: герцогиня видит Жанну, пирующую в обществе Бертрана и гостей; соответственно, Марфа вступает в сговор с Амвросием, и после убийства ее мужа «с Амвросьем пирует злодейка-жена»19. Так как точная дата написания «Встречи через триста лет» не установлена, нам представляется достаточно сложным определить, какая легенда была создана раньше, однако очевидное сходство обеих легенд исключает версию случайного сюжетного совпадения.
Возвращаясь к событиям 1459 года, необходимо отметить, что еще одним важным источником информации о произошедшем является старинный пергамент, обнаруженный отцом героини и командором. Данный документ представляет собой «послание короля Карла Седьмого ко всем баронам в Арденнах, коим сообщалось и объявлялось об изъятии в казну поместий рыцаря Бертрана д Обербуа и госпожи Жанны де Рошепо, обвиненных в безбожии и всякого рода преступлениях» (119).
Здесь же приводится клятва Бертрана, произнесенная им на пире, в которой рыцарь обещает продать душу дьяволу за возможность вернуться ровно через триста лет: «Погибелью души моей клянусь! Жизни вечной не бывать и в жизнь оную не верю нисколько, а коли она есть, так я, хоть бы и душу за то отдать сатане, ворочусь через триста лет с сего дня в замок мой, дабы веселиться и пировать, и в том поклясться и побожиться готов» (112). Именно пергамент расставляет все по своим местам и выстраивает отрывочные сведения, полученные читателем ранее из разных источников, в единую непрерывную линию. Кроме того, здесь же приводится история священника, помогавшего Жанне де Рошепо убить ее мужа и оставленного ею умирать в лесу от голода с искалеченными ногами.
Этот документ разъясняет также события, произошедшие с герцогиней: благодаря датировке самого пергамента и датировке принесения Бертраном и его гостями клятвы, указанным в рукописи, удается установить, что с тех пор прошло ровно триста лет, и, следовательно, герцогиня действительно оказалась свидетельницей исполнения клятвы Бертрана д Обербуа и пира в его замке.
Пергамент становится, таким образом, важнейшим инструментом для повествования о событиях 1459 года, дополняя сведения, полученные из легенды о свалившемся в ров рыцаре, которую рассказывает герцогиня, и преданий, услышанных ею от няни20.
Возвращаясь к основной части произведения - приключению герцогини де Грамон - необходимо отметить, что ее история повторяет схему приключения д Юрфе в «Семье вурдалака» - героиня попадает в иной мир и едва возвращается обратно. Попав на призрачный пир, она становится невестой рыцаря в доспехах, то есть настоящего Бертрана д Обербуа (хотя героиня поначалу и принимает его за д Юрфе, а все происходящее - за костюмированный бал).