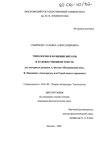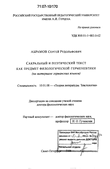Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Иероглифичность: принцип организации поэтики и тип философского дискурса . 29
1. Введенский и чинари в контексте эстетических и философских концепций русского авангарда . 29
2. Иероглиф как символ особого рода . 56
Глава 2. Диахрония. Эволюция поэтики Введенского как развертка «принципа иероглифа». 65
1. Ранние стихи: от стихии литературы к стихии языка . 66
2. «Суд ушел»: текст как иероглиф. 80
3. Иероглифические функции лирического «Я» и двучленных структур текста в поздних произведениях Введенского. 97
Глава 3. Синхрония. Структура текста и структура сознания . 108
1 . «Сюжет переживания» в «Некотором количестве разговоров» 106
2. Время как метатекст в «Елке у Ивановых» 136
Заключение. 173
1. Поэтика Введенского как единая система. 173
2. Иероглифическая символизация в литературе 20-го века.
Введенский и Пелевин. Иероглифические функции элементов жанра притчи и басни в романе «Жизнь насекомых». 175
Список использованных источников и литературы
- Введенский и чинари в контексте эстетических и философских концепций русского авангарда
- Иероглиф как символ особого рода
- Ранние стихи: от стихии литературы к стихии языка
- . «Сюжет переживания» в «Некотором количестве разговоров»
Введение к работе
1. Символ в контексте проблемы сознания.
В данной работе речь пойдет о том уровне функционирования художественного текста во взаимодействии с сознанием читателя, который с некоторой долей условности можно обозначить как символический1. Присутствие символического было многократно названо исследователями одним из тех важнейших свойств художественного текста, которые и позволяют выделять его как художественный. И вместе с тем, вопрос о том, что же такое символическое, остается для литературоведения (и вообще для науки) открытым — может быть потому, что возможность «знания» о символе просто-напросто принципиально не находится на той плоскости мышления, по которой обычно движется научная мысль. Подход к разработке этого вопроса, который будет обозначен в этой работе, сформировался в процессе исследования поэтики Введенского. Тексты этого поэта представляют собой явление, в столкновении с которым традиционные методы анализа явно начинают «пробуксовывать». В процессе изучения этого вопроса у меня возникло предположение, что трудности анализа этих текстов напрямую связаны с проблемой понимания символа и что кажущиеся
1В вопросе выделения уровней образования смысла художественного текста мне кажется удобным ориентироваться на работы А. Нестерова, который, опираясь на схемы означивания, предложенные Роланом Бартом и Умберто Эко, выделяет в художественном тесте три потенциально доступных восприятию уровня: уровень естественного языка, риторический уровень - уровень, идей, образов и т.д. и символический уровень, трансцендирующий смыслы риторического уровня. См.: Нестеров А. Ю. Проблема символа в литературном произведении: текст и читатель в акте моделирования эстетического объекта. Автореферат дисс. канд филологич. наук. Самара, 2002.
4 мне удачными случаи анализа текстов Введенского могут быть рассмотрены как очень четкая конкретизация того подхода к проблеме символа, который наметился в науке в последнее время, - с появлением посвященных символическому работ М. Мамардашвили и некоторых других исследователей. Работы эти ориентированы на изучение символического не как объективной данности (как структуры текста), а как особого «смысла», порождаемого сознанием, взаимодействующим с объективными структурами текста. Вместе с тем очевидно, что методы выхода на уровень символического в поэтике Введенского совершенно особые, мало общего имеющие с поэтикой традиционной. То есть, применительно к текстам Введенского можно говорить об особом типе символизации (создания символического «значения»). Этот тип символизации назван в данной работе иероглифическим. Как мне хочется надеяться, предпринятое здесь исследование этого типа символизации поможет многое прояснить - как в исследовании творчества Введенского, так и в теории символа в целом.
В той ли иной степени все современные исследователи, уделившие внимание проблеме символа, - А. Ф Лосев2, Э. Кассирер3, Ю. М. Лотман4, Ц. Тодоров5 и др. - оперируют оппозицией символ - знак, чаще всего обозначая символ как знак особого рода, причем особыми оказываются и сам знак, и его означаемое. Говоря об особости знака, обычно отмечают то, что в отличие от обычного знака, форма которого не замечается, поскольку внимание сразу направляется на означаемое, знак-символ вполне может быть воспринят как самоценный вещественно-конкретный образ, способный для неискушенного читателя вовсе заслонить собой свое означаемое. С конкретизацией же особости означаемого начинаются сложности. Оказывается, что разделить символ на знак и означаемое практически невозможно — означаемое не существует отдельно от знака. «Предметный
с
2 См.: Лосев А.Ф. Символ и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995.
3 См.: Кассирер Э. Философия символических форм. Т.1-3. М., СПб., 2002.
4 См.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история.
М, 1999.
5 См.: Тодоров Цв. Теории символа. М. 1999.
5 образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого (ибо смысл теряет вне образа свою явленность, а образ вне смысла рассыпается на свои компоненты), но и разведенные между собой <...> Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка, он неотделим от структуры образа, не существует в качестве некоей рациональной формулы, которую можно «вложить» в образ и затем извлечь из него» 6, - пишет С. Аверинцев в посвященной символу статье Литературного энциклопедического словаря. «Символ вещи есть тождество, взаимопронизанность означаемой вещи и означающей ее идейной образности, но это символическое тождество есть единораздельная цельность, определенная тем или другим единым принципом, его порождающим и превращающим его в конечный или бесконечный ряд различных закономерно получаемых единичностей, которые и сливаются в общее тождество породившего их принципа или модели как в некий общий для них предел», - пишет А.Ф. Лосев , тем самым заставляя усомниться в столь решительно сделанном им в начале работы заявлении о том, что всякий символ непременно символ чего-то, какой-то вещи. Получается, что символ скорее создает вещь, чем характеризует ее. И наконец, возникает мысль о том, что символ это не двоичная структура, а троичная, и главным является не символ и не символизируемое, а тот бесконечный поток интерпретаций, который порождают их отношения. «Неисчерпаемая многозначность» -определяет С. Бройтман ту особенность символа, которую, каждый по-своему отмечают все исследователи. Все эти построения вызывают очень много вопросов. Так что же все-таки символизируется? Существует ли оно как отдельная сущность? Каким образом существует эта «неисчерпаемая многозначность», что это за «значения»? Что имеется в виду: неисчерпаемость словесных интерпретаций символа, или же то, что
6 См.: Аверинцев С.С. Символ в искусстве// Литературный энциклопедический словарь.
М, 1987. С. 378-379.
7 Лосев А.Ф. Символ и реалистическое искусство. М., 1995. С. 62-63.
8 С. Н. Бройтман. Символ. //Литературоведческие термины. Материалы к словарю. Вып. 2.
Коломна, 1999. С. 77.
возможность интерпретировать бесконечно является проекцией на наше словесное мышление какого-то специфического, не семантического значения символа? Тогда что это за значение? Если Лосев говорит о символе как о «внутреннем и внешнем выражении какой-либо идеи»9, то что это за идея, не поддающаяся формулировке в словах, как и где она существует?
Как показал в своей диссертации А. Нестеров10, все эти непроясненности зачастую коренятся в непроясненности или полном игнорировании более общего вопроса - вопроса о том, что такое означивание читателем художественного текста и как оно происходит (то есть, текст анализируется как существующий сам по себе, вне времени и пространства, в отрыве от читателя, в сознании которого он на самом деле только и обретает какой-то смысл). Как не раз отмечалось в традиции рецептивной эстетики, означивание художественного текста не сводится к интерпретации, или к «переводу» текста на свой язык. Эти процессы, конечно, обязательно присутствуют в акте чтения, но если мы говорим о Чтении в полном смысле этого слова, то в конечном итоге читатель означивает текст не словесными интерпретациями, а самим собой, своим состоянием. «Значение текста» возникает в месте «примерки» его структур на метафизическую ситуацию читателя. Рассмотрение А. Нестеровым символа с учетом этого факта — то есть, не как структуры текста, не зависящего ни от чего, а в контексте эстетического объекта, создаваемого сознанием конкретного читателя, - одна из первых попыток применить к литературоведению теорию символа М. К Мамардашвили и А. М. Пятигорского11. Основной тезис этой теории, мне кажется, можно выразить так: значением символа является ничто - то есть, ему не соответствует никакое означаемое, а соответствует 1) состояние сознания, 2) ситуация сознания «как такового», несводимого ни к какому своему содержанию. Такой подход к символу меняет многое - меняет, на
9 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.,1995. С.25
10 См.: Нестеров А. Ю. Проблема символа в литературном произведении: текст и читатель
в акте моделирования эстетического объекта. Дисс. канд филологич. наук. Самара. 2002.
11 См.: Мамардашвили М.К., Пятигорский A.M. Символ и сознание. Метафизические
рассуждения о сознании, символике и языке. М.: Школа "Языки русской культуры", 1997.
7 мой взгляд, прежде всего тем, что теперь мы не можем мыслить текст без учета временности акта чтения - то есть, без учета «сейчас» читателя, без учета собственного «здесь и сейчас» - в котором текст только и существует как имеющее смысл целое. (Текст как «объективная реальность» - это просто последовательность букв на сшитых вместе листах бумаги). Следует, однако, сразу оговориться, что такая интерпретация значения символа как отсутствия любого значения нисколько не отрицает вещественности самого образа, который мы склонны наделять символическим значением. Наоборот, здесь речь идет о том, чтобы перестать воспринимать образ (например, свечу, о которой речь пойдет далее) как означающее, которому должно соответствовать какое-то специфическое означаемое — не важно, как его называют разные теории — сверхсмысл или множественность смыслов. Речь идет о том, что есть чувственно воспринимаемый образ, вокруг которого возможна организация особого состояния нашего сознания (включая, сюда, разумеется, и семантические структуры - «смыслы»). Это состояние сознания и можно назвать «значением» символа.
Конкретизируя механизм образования «значения» символа, Мамардашвили и Пятигорский разводят понятия состояния сознания и структуры сознания. Состояние сознания — это нечто привязанное к субъекту, но бессодержательное. То есть, по Мамардашвили-Пятигорскому, есть зрение и есть состояние сознания «осознание зрения», не тождественное содержанию зрения, есть чтение и есть соответствующее этому процессу состояние сознания, не тождественное тому, что мы читаем. Кроме того, возможны состояния сознания, которым не соответствует никакое содержание (и это момент принципиальный) - в буддизме они обозначаются словом «пустота» - то есть, переживание чистого сознания как такового, не связанного ни с какими психологическими процессами. Структуру же сознания философы определяют так: «структура сознания - то содержательное, устойчивое расположение «места сознания», которое обнаруживается в связи с состоянием сознания с точки зрения сферы
8 сознания» . То есть, структура сознания - это некая «реальность», то, как со всеми фактами, данными нашей психике, «дело обстоит» с точки зрения сознания. Есть, например, говорят философы, такая структура сознания «смерть» или «человек - смертен». Но то, что осознает смерть - бессмертно, поэтому эта структура может быть обозначена и оппозицией «смерть-бессмертие». Следует еще раз подчеркнуть, что здесь речь не идет о логических конструкциях - речь идет об осознании, например, процесса умирания. Есть некий мыслительный автоматизм, благодаря которому мы мыслим себя как субъект и все «остальное» как объект, и есть открывающаяся при трансценденции (то есть, осознании) этого автоматизма структура сознания «субъект-объект» или «нет ни субъекта, ни объекта». Для Ницше, по мнению философов, оппозиция Аполлона и Диониса была структурой сознания. Именно чтобы подчеркнуть, что речь не идет о создании новых мыслительных конструкций, авторы «...рассуждения о символе» вводят термин «метатеория», противопоставляя его теории, как системе логических выводов. Результат метатеории содержится не в «выводах» (хотя они тоже делаются), и не в анализе каких-то явлений психики (хотя он присутствует), а только может случиться на уровне сознания - в процессе анализа или в акте чтения текста, созданного по следам такого анализа. То есть, метатеория сама в некотором смысле является символом, дающим сознанию возможность случиться. Мы постараемся придерживаться подобной же методы.
Таким образом, Мамардашвили и Пятигорский говорят о символе как о вещи, «одним концом» погруженной в психику, а другим - в сознание и дающей возможность психике быть включенной в сознание, трансцендировать самое себя. «Символ — это вещь, обладающая способностью индуцировать состояния сознания, через которые психика индивида включается в определенные содержания (структуры) сознания. Или так: при аккумуляции психикой индивида определенных состояний сознания
12 Там же. С. 77.
9 символ обнаруживает способность введения психики в определенные
1 "X
структуры сознания» . Так, философы говорят о трупе, который в буддийской философии воспринимался как символ и так раскрывают механизм «работы» этого символа: «... в древнейших буддийских текстах на пали труп называли «глупая вещь»... в особой разновидности медитации (так называемая медитации «над трупом» или «на трупе») йог знает, что труп -это «всего лишь вещь», а не нечто большее, связанное с каким-то сознательным личностным началом, если таковое есть (ибо смерть прерывает эту связь). Но это - «глупая вещь», ибо твое личностное начало так же нереально, как труп, созерцание которого приучит тебя к нереальности твоего «Я», и к реальности того, что ты - не сущность, а вещь (как этот труп). Но то, что это так, есть сознание (не твое или мое, а - сознание), и потому труп не только орудие йоги (посредством которого ты входишь в структуру сознания «смерть»), но и вещь, относящаяся к сознанию, то есть символ»14.
2. Символ в художественном тексте
Теперь попробуем наметить, как подобная работа может осуществляться средствами художественного произведения (если может, то есть, если мы правы, предполагая, что цель художественного произведения -в такой работе). Возможно, попутно удастся точнее объяснить, что мы имеем в виду под словами «организация сознания образом», «ситуация сознания, несводимого к своему содержанию» и почему так важен для текста учет его отношений с реальным временем, в котором он развертывается в сознании читателя (что было заявлено выше). Забегая вперед, скажем, что все эти вопросы при «вхождении внутрь» оказываются вопросами об одном и том же.
Для начала рассмотрим пример, который, по нашим наблюдениям,
13 Там же. С. 151.
14 Там же. С. 154.
10 подавляющее большинство образованных читателей, не раздумывая, определяет как символ - образ свечи в известном стихотворении Бориса Пастернака из романа «Доктор Живаго». Стоит отметить, что, несмотря на то, что при желании здесь можно усмотреть и «самоценный вещественно-конкретный образ, смысл которого далеко не исчерпывается его предметным содержанием» и невозможность этот смысл исчерпать в каких-то формулировках, и «неисчерпаемую многозначность», все-таки «распознавание» символа в этом стихотворении происходит скорее интуитивно, чем по каким-то формальным критериям. Или (забежим вперед), точнее сказать, что критерием является как раз наше состояние, наше ощущение невозможности подвести под символ какую-то интерпретацию, какой-то комплекс вербальных смыслов - и дело не в том, что этих интерпретаций может быть множество. Их действительно может быть огромное количество, но решающим является именно состояние нашего сознания, выброшенного в неопределенность, столкнувшегося с чем-то, не поддающимся словесному описанию. . Несколько упрощая проблему, можно сказать, что думать, что смыслов слишком много, - просто один из способов не отождествляться с системой вербальных смыслов. Эта неотождествленность, по большому счету, только и имеет значение. Приняв ее как самоценность, мы можем увидеть, что никаких «смыслов» никогда и не было15. Однако приведем стихотворение полностью:
«Зимняя ночь»
(Стихотворение № 15 из стихов Юрия Живаго в приложении к роману
Ср. у Мамардашвили-Пятигорского: «Когда мы говорим, что понимаем или не понимаем объект в смысле его знания, то это понимание в некотором смысле зависит от нас, а когда мы говорим, что мы не понимаем или понимаем символ в его соотнесенности с содержательностью сознания, то это зависит от самого символа», «непонимание определяется проявлением самого бытия, которое в символе «указано», напоминанием нам о том, что за символом стоит бытие. То есть, наше непонимание указывает на самодостаточность бытия. Можно сказать, что полное понимание было бы разрушением бытия символов». - Там же, с. 148.
«Доктор Живаго»)16
Мело, мело по всей земле, Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела.
Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме.
Метель лепила на стекле Кружки и стрелы, Свеча горела на столе, Свеча горела.
На озаренный потолок Дожились тени -Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка Со стуком на пол, И воск слезами с ночника На платье капал,
И все терялось в снежной мгле, Седой и белой,
16 Пастернак Б. Доктор Живаго. Куйбышев, 1989. С. 528.
12 Свеча горела на столе, Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела.
Пример представляется достаточно удобным: весь текст здесь организован как развертывание образа, который мы согласились считать символом. Попробуем выяснить, что мы можем сказать об этом тексте, используя методы классического литературоведческого анализа, и какие выявленные таким образом характеристики текста можно отнести к акту символизации.
Прежде всего отметим повторенную на нескольких уровнях текста ситуацию движения, раскачивания (колебания? - по аналогии с колебанием пламени) между противоположностями - частным и общим, предельной абстрактностью («во все пределы») и предельной конкретностью (сам образ свечи на столе). Сюда можно отнести и раскачивание ритма между 4-стопными и 2-стопными стихами, и ангельские крылья у «жара соблазна», и переходы от скрещений рук и ног к скрещениям судьбы, от описания конкретного эпизода чьей-то жизни к неким общим закономерностям жизни людей («и то и дело»), от нескольких мгновений к судьбе. Первые «следы» механизма символизации: можно сказать, что семантика деталей, втянутых в это раскачивание от частного к общему, резко «утяжеляется». Так, в
13 контексте стиха «во все пределы» «метель по всей земле» перестает быть просто метафорой, начиная значить нечто много большее, становясь тем, что мы (опять же интуитивно) склонны классифицировать как символ. Наиболее очевидное явление, которое можно сопоставить этому процессу превращения детали в символ - актуализация разнообразных культурных контекстов, вызываемая употреблением этой детали, отличающимся от привычно-бытового. Так, за «метелью по всей земле» начинают звучать метель и из одноименной повести Пушкина, и из «Капитанской дочки», и из «Двенадцати» Блока, и из самого романа «доктор Живаго», а в «скрещеньях рук и ног», употребленных вместе с «крестообразно» и «судьбы скрещенья» отчетливо начинает звучать Крест...
Можно указать и на контекст романа, где тема скрещений судьбы является одной из основных...
Понятно, что подобный анализ контекстов может быть бесконечным, так же как и анализ ритма, фонетики, грамматики и т.д. - это не является задачей данной работы. Здесь достаточно заметить, что образ свечи соединяет стихотворение воедино, становясь как бы неподвижным центром среди этих раскачиваний смысла. При этом сама свеча тоже как бы колеблется внутри себя - сквозь конкретность образа, тени на потолке и воск, капающий на платье, проступают религиозные и культурные ассоциации, связанные со свечой - хотя, несомненно, центром стихотворения, тем, что делает его стихотворением, а не нагромождением риторических метафор, являются как раз строфы, где образ сгущается до максимальной конкретности, а время - до одного длящегося мгновения - «воск на платье капал».
Теперь, если мы обратимся к тому, что происходит в нашем сознании при чтении стихотворения (в данном случае, «расширенном» анализом), то, по-моему, мы должны будем признать, что наш анализ вообще и указание на возможные культурные контексты, связанные с образом свечи, в частности, никак не может быть принят ни как раскрытие значения этого символа, ни
14 как объяснение воздействия всего стихотворения. Скорее перебирание контекстов, анализ ритма, и т.д. оказывается подготовительным этапом, позволяющим нам вжиться, «вмедитироваться» в текст. «Работает» же стихотворение не на разбегании мысли по тропинкам культурных ассоциаций, а, наоборот, на ощущении стяжения всех этих смыслов к создаваемым стихотворением образам, а этих образов - к образу свечи. Чтобы «работать», этот образ должен перестать быть просто понятием, должен стать в той или иной степени зримым, осязаемым — а этот процесс может осуществляться только внутри конкретного читателя. Здесь уже не может идти речи о читателя вообще, здесь может идти речь лишь о том, что я вижу и чувствую в данный момент. А вижу эту свечу я своим, «удобным» мне одному способом. Таким же образом и анализ культурных контекстов в конечном итоге оказывается средством подключить к тексту мою метафизическую ситуацию, мое ощущение «скрещений судьбы». Разумеется, если речь идет о более-менее грамотном читателе, то здесь не имеется в виду, что я на место отношений Юрия Живаго и Лары подставляю свои отношения с Надей или Люсей. Скорее здесь имеет место двунаправленная перекодировка. Во-первых, при анализе текста я как бы обнаруживаю за его конкретными образами и словами какие-то более абстрактные структуры, которые становятся мостиком между образами текста и структурами моего сознания. То есть, когда я говорю о колебаниях в тексте между предельной конкретностью и предельной абстрактностью, когда я отмечаю некое значимое смысловое напряжение в соединении «жара соблазна» с «ангельскими крыльями» и с «крестообразно», так или иначе имеет место «перевод» текста на мой язык. Но нельзя упускать из вида то, что этот перевод оказывается лишь средством установить контакт между структурами текста и структурами моего сознания для того, чтобы начался обратный процесс - процесс перевода структур моего сознания в текст, организации их структурами текста. «Переводя» текст на язык неких общих категорий, я одновременно перевожу на язык этих категорий и свою жизненную
15 ситуацию, развоплощаю ее для того, чтобы она могла быть втянута в текст и им организована. Структуры моего сознания, мои личные «смыслы» все больше втягиваются в текст, как бы растворяясь в его образах. Тут имеет место процесс, параллельный процессу создания текста самим поэтом. Море слов и образов, жизненных впечатлений, связанных с неясным еще переживанием, поэт постепенно уплотняет, организует, пока оно не становится именно этим, конкретным текстом, тождественным переживанию. И это переживание уже не существует отдельно от текста, не может быть выражено какими-то другими словами — потому что текст не «рассказывает» о нем, не является его знаком, он и есть — оно, определенным образом организованное сознание. Также и для меня, читателя, при полном вхождении в текст все рассуждения о нем должны отпасть как ненужные и лишние - текст и переживание стали для меня одним целым. Текст не является больше набором знаков, не является рассказом о чем-то. Он -модель моего сознания. То есть, перефразируя Льва Толстого, теперь для того, чтобы рассказать, о чем пастернаковская «Зимняя ночь», я могу лишь прочесть «Зимнюю ночь» от начала до конца.
Как текст организует сознание? Именно так, как описано в приведенном выше анализе текста - соединяя противоположности, собирая многочисленные контексты к конкретным образам. То есть, оппозиции, которыми оперирует наше мышление, в художественном тексте многократно замыкаются друг на друга, противопоставленное внутри обыденного мышления здесь оказывается неразрывным целым. Особенно это хорошо видно при анализе времени и пространства художественного произведения. Время и пространство, прошлое и будущее многократно отражаются друг в друге: в мгновении, когда воск капает на платье, просвечивают «судьбы скрещенья», то есть время всей жизни, метель по всей земле становится метелью в истории, за скрещениями рук и ног встают скрещения судьбы, за которыми в свою очередь одновременно слышны все перипетии судьбы Юрия Живаго и его отношений. Живаго в начале жизни, который, глядя на
окно, шепчет первые слова этого стихотворения, и Живаго, много лет спустя умирающий в московском троллейбусе, здесь существуют одновременно. Но при этом, как уже было сказано, дело не том, чтобы мы, видя внутри себя пламя свечи, одновременно думали об истории, судьбе Юрия Живаго и т.д. Дело как раз в том, что в конечном итоге нам достаточно видеть пламя свечи, также как достаточно звучания текста - без объяснений, о чем он. Дело не в расширении, а в концентрации. Прошлое и будущее настолько концентрированно впрессовались в настоящее, что нет необходимости о них думать. Настоящее настолько исчерпывающе полно, что нам нет необходимости что-то к нему добавлять. И все это - не забудем главного -не существует где-то абстрактно, это именно то мгновение моего настоящего, когда я соприкасаюсь с текстом.
Вот тут мы, наконец, и подходим к символу как к понятию, применимому к художественному тексту. Как существует вышеописанным образом организованное сознание? Я предельно втянут в текст, и значимые структуры моего сознания организованы так, как сказано выше. То есть, все содержание моего сознания организовано в некое самоценное целое, которое уже нельзя улучшить, по поводу которого нельзя высказать никакого суждения. По отношению нему можно быть только созерцателем. Я, обычно мечущийся между оппозициями своего сознания, между прошлым и будущим, теперь лишен этой возможности, ибо все они организованы в завершенную систему, все они теперь существуют одновременно и существуют сейчас. Все содержание моей жизни собрано к одному мгновению «сейчас» - когда я соприкасаюсь с текстом. Тогда кто я в этот момент? Я - тот, кто все это содержание видит, потому что внутри этого содержания мне уже делать нечего, не надо ничего выбирать, ничего улучшать. Я - созерцатель, то есть кто? Никто. Я - просто видение этого, по-новому организованного содержания моей жизни. Прошлое и будущее, плохое и хорошее - все соединилось в один образ, и теперь только он и существует, меня уже нет. Я - просто видение этого образа, просто
17 мгновение, в котором этот образ подвешен. Вот это и есть, по-моему, сознание, не тождественное своему содержанию. Я перестал быть тем, чем являюсь обычно - призрачным субъектом, мечущимся между прошлым и будущим, выбирающим между Маней и Таней, картошкой и божьим даром. Я вынесен за пределы себя, и вижу всю эту систему как единое целое. При этом предпринять по этому поводу я ничего не могу, не могу даже радоваться такому свому положению, потому что снаружи системы меня нет - и все же я там. Я - на границе между содержанием моего сознания и ничто. Собственно, слово «я» тут уже лишнее. Просто СЕЙЧАС, в котором уместилось все.
Теперь подведем некоторые промежуточные итоги. В свете всего сказанного выше символом может быть названо такое состояние знаковой системы, когда ей соответствует определенное состояние сознания, а не некое «означаемое». При этом, хотя это состояние может быть представлено в тысяче различных вариаций, существенной его особенностью (и одновременно условием осуществления) является вынесенность субъекта на собственные границы, за которыми он уже не существует, переход от содержания сознания к сознанию как таковому. То есть, в осуществлении этого состояния можно условно выделить два этапа. Первый этап - это такая организация сознания, при которой происходит собирание всех его значимых доминант к точке «сейчас». (Видимо, это то, что М. Мамардашвили называл точкой интенсивности человеческого сознания ). При этом различные оппозиции внутри сознания субъекта как бы соединяются в некое нерасчленимое целое, сплавляясь внутри какого-то конкретного образа. Возможность рефлексии для субъекта предельно сужается, так как все ее предпосылки постепенно вплавляются в единый образ, который можно лишь чувствовать, а не размышлять по его поводу. Существенным образом меняется восприятие времени и пространства - они, как уже было сказано, тоже соединяются. Отсюда вытекает второй этап,
17 См.: Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993.
18 когда при таком видении мира субъект оказывается вынесен за пределы словесного мышления. Знаковые системы внутри него переорганизованы в нечто, что можно лишь созерцать. Субъект, обычно пользующийся знаковыми системами для самоидентификации и т.д., в результате их переорганизации как бы вынесен из них наружу и лицом к лицу встречает собственную безосновность, чистоту собственного сознания. Можно, однако, и развернуть обозначенную нами последовательность этапов в обратную сторону, сказав, что описанное как первый этап состояние целостного видения мира не может быть реализовано, если субъект уже не вынесен на собственные границы, если точка «сейчас» уже не является организующей по отношению к прошлому и будущему. Осуществимость этого парадокса вынимания самого себя за волосы из болота, видимо, связана с наличием или отсутствием изначальной, существующей до встречи с текстом, заинтересованности субъекта в собственном сознании. Проще говоря, чтобы услышать в тексте ответ, надо иметь вопрос, ощущать свою жизнь как вопрос.
Не раз было говорено, что, хотя формы, в которых осуществлялось художественное творчество, менялись в разные эпохи, смысл создания этих форм оставался неизменным. В терминах осуществляемого здесь разговора этот смысл можно описать как выход на границы собственного сознания, встречу сознания с самим собой.
При этом разговор о символе, как о чем-то жестко закрепленном в тексте, становится очень проблематичным, так как процесс символизации осуществляется внутри конкретного читателя. Применительно же к тексту мы можем говорить лишь о неких предпосылках, существующих для совершения этого процесса — которое вполне может и не состояться. Символическое значение может существовать только сейчас и только внутри конкретного субъекта (точнее сказать, символическое значение - это есть конкретный субъект в состоянии трансценденции собственной субъектности). Оно не может быть описано и не может быть «вспомнено»,
19 оно может быть только пережито. Предпосылки же для формирования символического значения в их самых общих чертах, видимо, можно обозначить как неавтоматичность текста, то есть, как перестраивание им традиционных оппозиций нашего мышления - таким образом, что становятся возможными описанные выше состояния. Поэтому очень удачным представляется определение символа, данное Александром Нестеровым — уже на материале семиотики, а не теории сознания: «собственно символ существует как символическое (невыводимое из знакового механизма и тем самым незнаковое) значение, само по себе ухватываемое как акт трансцендирования риторического значения знака, где реально мы видим риторический знак (риторическую систему) с его значением одновременно как структуру (несимволическое) и модель (уже символическое)...»18. (Под риторической системой Нестеров, видимо, понимает все то, что можно описать традиционным литературоведческим анализом: сюжет, фабулу, пересечение мотивов - см. приведенный выше анализ «Зимней ночи», а под моделью - наше видение этой системы через призму уже реализованного акта трансценденции). Также (об этом уже было сказано) в свете вышеизложенного разговор об отдельных образах-символах в художественном тексте неизбежно должен отойти на второй план на фоне разговора о формировании символического уровня смысла целостным текстом, то есть, скорее о процессах символизации, чем об отдельном символе. Текст - вообще процессуальное явление. (Об этом же, в общем-то, говорит и А.Ф. Лосев, уже в самом начале работы «Символ и реалистическое искусство» увязывающий проблему символа с проблемой соотношения текста и контекста). Теперь можно перейти к разговору о разных типах символизации, одному из которых и будет посвящена основная часть диссертации.
Нестеров А. Ю. Проблема символа в литературном произведении: текст и читатель в акте моделирования эстетического объекта. Автореферат дисс. канд филологич. наук. Самара, 2002. С. 22.
20 3. Типы символизации.
Примером искусства, максимально жестко и максимально сознательно ориентированного на «сознание, не тождественное никакому содержанию сознания», может служить поэзия Введенского. На первый взгляд эти стихи не имеют ничего общего с поэзией, подобной проанализированному выше стихотворению Пастернака. Поэзия Пастернака, как и вообще традиционная поэзия - это все-таки слово о мире, текст, опирающийся на традиционные механизмы функционирования знаковых систем. То есть, несмотря на то, что образ свечи, контуры некоей комнаты, где воск капает на платье, а на потолок ложатся тени, существует в совершено других отношениях со временем и смыслом, чем те, в которых он существовал бы в рамках обыденного сознания, все таки здесь создается достаточно зримая картина -и создается она с помощью традиционных знаковых средств. Поэзия же Введенского основана на изначальном неприятии системы знак-значаемое как и вообще всех априорных категорий нашего мышления - поэтому сопоставить с его словами какой-то зримый образ зачастую оказывается невозможно. Тем не менее, ставить здесь Пастернака и Введенского в один ряд вполне можно - потому, что Введенский, на мой взгляд, сознательно ориентируется на то, что здесь названо нетождественностью сознания его содержанию. Причем эта установка настолько всепоглощающа, что само содержание сознания утрачивает для поэта какую бы то ни было самостоятельную ценность. В порядке некоторого упрощения мы можем классифицировать поэзию Пастернака, как и вообще традиционную поэзию (с некоторыми оговорками, разумеется) как поэзию мира, а поэзию Введенского и значительную часть авангардной поэзии как поэзию пустоты. Если традиционная поэзия переосмысливает явленный в нашем сознании расчлененный обыденным мышлением мир таким способом, что нетождественность сознания мышлению оказывается как бы характеристикой вновь созданного целостного мира, то поэзия Введенского
21 уже смотрит на явленный нам мир из этой точки за пределами мышления -во всяком случае, пытается. Позволив себе некоторую вольность, можно предположить, что приди Введенскому в голову затея переписать «Доктора Живаго», он начал бы роман со смерти главного героя и затем разворачивал бы его в обратном направлении, глядя на все события жизни Юрия Живаго через призму опыта его собственной смерти. Можно предположить, что при таком взгляде вопросы, которыми задается герой романа, коренным образом обесценились бы, сменившись одним единственно реальным (с точки зрения Введенского) — кто тот, кто задается этими вопросами? Показательно, что сам Введенский неоднократно говорил, что его интересуют только три вещи — Время, Смерть и Бог, все остальное же не имеет никакого значения19. То есть, как основные темы своего творчества Введенский выносит знаки, значения которых принципиально не ухватываются знаковым мышлением. Понять смерть - значит, понять такое состояние сознания, когда меня уже нет, нет и механизмов словесного мышления, с помощью которых я привык «понимать». Кто же тогда будет понимать? И, с другой стороны, - кого нет? Что я называю словом «Я»?
Вот показательный пример из «Серой тетради»:
«Перед каждым словом я ставлю вопрос: что оно значит, и над каждым словом я ставлю показатель его времени. Где дорогая душечка Маша и где ее убогие руки, глаза и прочие части? Где она ходит убитая или живая? Мне невмоготу. Кому? Мне. Что? Невмоготу. Я один как свеча. Я семь минут пятого один 8 минут пятого, как девять минут пятого свеча 10 минут пятого. Мгновения как не бывало. Четырех часов тоже. Окна тоже. Но все то же самое
Темнеет, светает, ни сна не видать,
Напр., Введенский в «Разговорах» Л. Липавского: «Какое это имеет значение, народы и их судьбы. Важно, что сейчас люди больше думают о времени и о смерти, чем прежде; остальное все, что считается важным - безразлично». Введенский Александр. Полное собрание произведений в двух томах / Сост. М. Мейлаха и В. Эрля. М.: Гилея, 1993. Т. 2. С. 158.
22 где море, где слово, где тень, где тетрадь,
всему наступает сто пятьдесят пять» В этом отрывке в конспективном варианте воссоздается ситуация, которая вполне могла бы быть основой традиционного лирического стихотворения: предельное одиночество, тоска по кому-то близкому и в то же время потерянному в пространстве судьбы... Особенно интересно в контексте нашего сопоставления с Пастернаком то, что здесь тоже фигурирует свеча - причем в контексте, довольно близком к пастернаковскому. Свеча часто появляется в текстах Введенского в контексте, так или иначе связанном с «человеческим» в самом широком понимании этого слова - это и эротическое, и надежды, молитвы, упования, и «свет разума»... Таким образом, в предложении «я один как свеча» мы имеем то же самое «собирание» всего значимого содержания человеческой жизни к одному конкретному образу, что и у Пастернака. Только здесь это собирание осуществляется конспективно - видимо потому, что оно для поэта является не целью движения мысли, а скорее ее само собой разумеющейся отправной точкой. В этом, видимо, причина некоторой тавтологичности этого оборота, в котором все три составляющих его значимых слова в некотором смысле являются синонимами. «Я», вместе со всем значимым содержанием жизни, замыкается само на себя (я один как я). Кроме этого «Я» ничего в мире нет, и все-таки «лирический субъект» явно взыскует чего-то еще. Расстановка «показателей времени» над словами и является одним из способов формулирования этого вопроса — за счет перенесения внимания с содержания высказывания на ту секунду, в которую оно произносится. Это и есть стяжение всего содержания жизни к точке «сейчас». Следующие три стиха -прямое заявление о равноценности всех наполняющих сознание знаков на фоне вопроса о том, что такое это сознание само по себе, или о том, что такое «сейчас», в котором все эти знаки «подвешены». (Как уже можно было
20 Там же. Т. 2. С. 78. Далее ссылки на опубликованные в этом издании тексты Введенского, его высказывания в «Разговорах» Л. Липавского и другие материалы даются в тексте так: ВведНомер тома, номер страницы. Например: Введі, 120.
23 понять из сказанного ранее, вопрос о сознании как таковом и вопрос о «сейчас», то есть об истинной природе времени являются синонимами).
Приемов, подобных этой «расстановке показателей времени» над словами, в творчестве Введенского много. Например, в первом «разговоре» из «Некоторого количества разговоров» один из трех участников диалога читает стихотворение (причем в ремарке сказано, что он «говорит русскими стихами»), а второй после этого заявляет: «Я выслушал эти стихи. Они давно кончились» (Введі, 196). То есть, вместо ожидаемого комментария «по содержанию» стихотворения участник диалога лишь отмечает тот факт, что прошло некоторое количество времени, заполненного этим высказыванием. Также, как ремарка «говорит русскими стихами» остраняет драматическую условность, обращая внимание на форму, которая должна бы не замечаться, так и комментарий говорящего остраняет, деавтоматизирует «здесь и сейчас» воспринимающего, которое обычно остается скрытым за тем содержанием, которое в этом «здесь и сейчас» развертывается.
Немного далее, в четвертом «разговоре» участники обсуждают свое желание поиграть в карты:
«А ну сыграем в карты, закричал все-таки в этот вечер Второй.
Я в карты играю с удовольствием, сказал Сандонецкий, или Третий.
Они мне веселят душу, сказал Первый.
А где ж наши тот, что был женщиной и тот что был девушкой? Спросил Второй.
О не спрашивайте, они умирают, сказал Т р е т и й, или Сандонецкий. Давайте сыграем в карты» (Введі, 200).
В таком ключе участники разговора всю ночь обсуждают свою любовь к картам, так и не начиная игры. Вот конец разговора:
«Я от карт совсем с ума схожу, сказал, Второй. Играть так играть.
Вот и обвели ночь вокруг пальца, сказал Третий. Вот она и кончилась. Пошли по домам.
Да, сказал Первый. Наука это доказала.
24 Конечно, сказал Второй. Наука доказала. Нет сомнений, сказал Третий. Наука доказала. Они все рассмеялись и пошли по своим близким домам»
Наука в творчестве Введенского обычно оказывается негативным понятием, относящимся к бессмысленной, никак не связанной с жизнью рассудочной деятельностью . Здесь наукой, видимо, оказываются словесные построения, которые позволяют героям не видеть стоящего за ними времени. Причем вопрос о времени оказывается связанным с вопросом о смерти: «обвести вокруг пальца» пытаются именно ночь, а во вступительной ремарке к разговору сказано:
«Не все тут были из тех, кто мог бы быть, те, кого не было,
лежали, поглощенные тяжелыми болезнями у себя на кроватях и
подавленные семьи окружали их, рыдая и прижимая к глазам. Они
были люди. Они были смертны. Что тут поделаешь. Если оглядеться
вокруг, то и с нами будет то же самое».
То есть, за ширмой разговора о событии не оказывается ничего — или оказывается нечто, на что можно только указать, упомянув о смерти.
И, наконец, самая показательная разработка подобного приема - в ремарках к «пьесе» (применительно к этому тексту слово пьеса приходится брать в кавычки) «Елка у Ивановых». На протяжении всего действия в пьесе постоянно появляются ремарки «На часах слева от двери...» - и далее указывается, сколько времени на этих часах. В этом еще нет ничего удивительного, но кроме этого автор постоянно вторгается в ремарки с пародийно-субъективными рассуждениями: то напоминает нам, что действие пьесы изображает события, которые произошли еще до нашего рождения, поэтому не стоит волноваться из-за того, что все герои умерли, то рассуждает о том, что из того, что знаем мы, зрители, знает конкретный герой и как он
21 См., например «Кругом возможно Бог» - в этом произведении тема науки разрабатывается очень подробно. («Все занес в свои тетрадки неумный человек»)
25 себя чувствует в этой связи... То есть, происходит то же самое, что в театре Брехта — нам не дают отождествиться с настоящим героев, постоянно напоминая о нашем собственном настоящем, о «здесь и сейчас» нас, смотрящих. Вот конец пьесы (перед этим все герои дружно умирают):
«Конец девятой картины, а вместе с ней и действия, а вместе с ним и всей пьесы.
На часах слева от двери 7 часов вечера» (Введ2, 67).
Текст полностью исчерпал себя - все действующие лица умерли, но часы слева от двери как бы выносятся за его границы, становясь часами для нас, зрителей. Перед нами теперь «чистое время», из которого ушли создающие его субъекты. Что осталось? Дверь, которая в пьесе открывается один раз, когда в нее входит смерть героев, как бы сливается со временем, становится символом, на смысл которого можно лишь указать, задав вопрос: куда она ведет? Настоящее время и есть дверь. Дверь в сознание, для которого и смерть - просто театр. Некому рождаться и некому умирать.
Подобный тип формирования символического уровня смысла (ранее мы назвали его поэзией пустоты) нам представляется удобным обозначить, используя термин «иероглиф», бывший в ходу в ближайшем окружении поэта и уже применяемый некоторыми исследователями (например, Яков Друскин, Тамара Липавская, Михаил Мейлах, Анна Герасимова) для анализа его произведений. Однако, подробно содержательная сторона данного термина может быть обрисована только при обстоятельном знакомстве с дискурсом, которым теоретизировал (или метатеоретизировал) сам поэт и близкие ему художники группы ОБЭРИУ или философы содружества чинарей - что будет произведено в первой главе.
Разумеется, обозначения «ОБЭРИУты», «чинари» употребляются достаточно условно -только условно и можно назвать какого-то художника ОБЭРИУ том, если ОБЭРИУ существовало всего полтора года, и только условно можно говорить о существовании некоего содружества чинарей, если нескольких интенсивно общавшихся в течение нескольких лет людей исследователи свели под этим словом уже после их смерти. Подробно о том, что за этими терминами может стоять, будет сказано в первой главе.
26 4. Цели и задачи исследования, структура работы.
На вышеприведенном примере можно очень четко почувствовать два способа «научного» взаимодействия с текстом. Речь идет о том, насколько значение символа остается для нас живым. Пассаж, подобный созданному мной в предыдущем абзаце, может служить двум целям. Во-первых, я могу, так сказать, помочь себе забыть текст - создав какую-то более-менее непротиворечивую его интерпретацию, которая позволит мне успокоиться и перестать воспринимать его как вызов, как вопрос. В этом случае «здесь и сейчас» взаимодействия с текстом подменяется каким-то вербальным выводом, например, замечанием о том, что в «Елке у Ивановых» автор пытается выйти на внесубъектные уровни сознания. Но то же самое замечание о внесубъектных уровнях сознания может означать и мою попытку воспринять дверь и часы как обращенный лично ко мне вопрос, вопрос о том, что такое эти самые внесубъектные уровни применительно к моему «здесь и сейчас». При кажущейся ненаучности и субъективности этого вопроса он на самом деле все-таки более адекватен предмету, чем предельно «объективированный» анализ, вообще игнорирующий тот способ бытия, которым живет искусство и внутри которого оно только и имеет смысл — бытие здесь и сейчас. Как бы то ни было, при принятии вышеизложенной позиции все многообразие отношений с текстом (да и не только с текстом) сводится к варьированию двух типов отношений, которые условно можно обозначить как отношения забывания и отношения вспоминания. Отношения «забывания» — это, образно говоря, продолжение бесконечного «разговора о картах» с целью «обвести ночь вокруг пальца» - то есть, подменить ситуацию непосредственного контакта с сознанием каким-нибудь семантическим «знанием», которое может иметь абсолютно любую форму, от «объективных» научных подсчетов количества ударений, до «субъективных» рассуждений об инобытии. Отношения «вспоминания» не исключают ни подсчета ударений, ни рассуждений об инобытии, но все это
27 здесь оказывается лишь подготовкой, способом как-то выйти на собственные границы, оказаться в ситуации, которую Введенский называл «диким непониманием» - переживанием предельной полноты и предельной пустоты данного конкретного мгновения23.
То есть, речь идет об описанном в начале данного введения различии между теорией и метатеорией. Теперь приходится заявить, что если есть в данной работе какая-то «научная новизна», то она обусловлена нашей попыткой в дальнейшем удержаться в метатеории. При этом, автор данной диссертации в общем-то не открывает никаких америк. С нашей точки зрения, написанные Ю. М. Лотманом анализы поэтических текстов производят на «некоторых» такое впечатление именно потому, что в них как раз высвечиваются и начинают активно «работать» внутри нас структуры конкретного поэтического текста, ориентированные на то же самое - на то, чтобы сознание «случилось». Здесь данный факт лишь отрефлексирован в самой процедуре анализа. Однако эта рефлексия неизбежно что-то изменяет в структуралистском или мотивном анализе текста, который остается основным методом данного исследования. То есть, если мы считаем, что целью производства поэтом текста было создание условий для того, чтобы сознание случилось, то у нас нет никаких других средств, кроме как следовать за текстом. Структура текста оказывается в каком-то смысле структурой сознания. С другой стороны, что такое структура текста? Как явствует уже из определения символа, данного А. Нестеровым, если мы не
23 По этому типу можно классифицировать и сами художественные тексты, введя таким образом еще один призрачный критерий художественности: если целью собственно художественного текста является он сам - как знак, значением которого является незнаковое состояние сознания, состояние «здесь и сейчас», то нехудожественное можно определить как своего рода «инерцию забвения», как тенденцию текста транслировать читателю какое-то предзаданное, готовое значение - концепцию, идею и т.д. Ярким примером текстов во власти этой тенденции забвения может служить как большинство произведений соцреализма, так и современная массовая литература (разумеется, термин этот слишком широк, чтобы употреблять его без оговорок, которых должно быть слишком много, чтобы их употреблять) автоматично воспроизводящая в бесконечных комбинациях семантический мусор, составляющий основное содержание сознания современного человека: мифы о человеческих отношениях, карьере, политике, бесконечные бытовые фабулы и т.д., д., д.
28 находимся «на пути» к сознанию, то и структуру текста мы видим совершенно иначе, чем если мы на этом пути находимся.
Как бы то ни было, в дальнейшем мы попытаемся ввести термин «иероглиф», как, с одной стороны, обозначающий конкретные механизмы символизации в поэтике (связанные с определенными мировоззренческими установками) и, одновременно, имеющий некоторый смысл в контексте метатеории сознания, и, пользуясь им не столько как термином, сколько как способом «теоретизировать не теоретизируя» и интерпретировать результаты анализа «не делая выводов», проанализировать некоторые тексты А. Введенского. Возможно, в процессе такого анализа удастся наметить некоторый связанный с понятием «иероглиф» базовый принцип, лежащий в основе поэтики Введенского. Кроме того, мне кажется, что и эволюция поэтики Введенского в сторону все большей близости к традиционным (на первый взгляд) формам на самом деле определяется стремлением поэта наиболее полно реализовать этот иероглифический принцип, задействовав в процессе образования символического значения весь «материал» нашей психики - включая логические категории, априорные формы восприятия пространства и времени, чувства и эмоции (может быть, точнее сказать: априорные формы чувственности). Надеюсь, в дальнейшем это удастся доказать.
В общем, общетеоретическим итогом данной работы может являться анализ выделенного нами типа иероглифического типа символизации, который, однако, в той или иной степени характерен для очень многих произведений современной литературы. Да и не только современной. В конечном итоге, практически все, что тут будет сказано, применимо, на мой взгляд, и к общей теории символа. Данное высказывание следует понимать, однако, не в том духе, что будет создано еще одно определение, а скорее так, что мы попытаемся обозначить некий подход к чтению текста - причем не только текста авангардного. Система категорий в данном случае играет исключительно служебную роль - лишь как набор некоторых мыслительных
29 установок, помогающих тексту случаться. В идеале, такой подход должен способствовать более прямому пониманию некоторых явлений в художественном тексте — особенно таких, как бессмыслица Введенского - за счет переноса акцента с трактовки этих явлений в рамках каких-то концепций на выявление и активизацию внутри нас смыслопорождающих механизмов самого текста. Такая активизация может стать возможной, например, за счет введения в процедуру анализа категории непонимания -именно как содержательной, отражающей то не ухватываемое знаковым механизмом поле, на которое и указывает символ.
В соответствии с этими задачами определим структуру работы: в первой главе понятие иероглифа и иероглифической символизации должно получить мировоззренческое обоснование в процессе анализа близких Введенскому философских и эстетических концепций русского авангарда, во второй главе связанное с этим понятием единство мировоззренческих установок и способов организации текста должно стать инструментом для осмысления творческой эволюции поэта, в третьей главе на материале целостного анализа текста будет сделана попытка показать его структуру как структуру целостного акта символизации, и в заключении, после обобщения полученных на материале анализа поэтики Введенского результатов, можно попытаться наметить пути применения связанного в категорией «иероглиф» инструментария к анализу других явлений литературы.
Введенский и чинари в контексте эстетических и философских концепций русского авангарда
Данная глава представляет собой, во-первых, попытку реконструировать некоторые мировоззренческие и эстетические посылки, которые могли быть отправными точками для формирования поэтики Введенского, а, во вторых, попытку на основе этих посылок как-то определить методологический и терминологический аппарат исследования, который был бы этой поэтике адекватен. То есть, мы попробуем ввести понятие иероглифического типа символизации, опираясь на философский дискурс, близкий самому поэту. Разумеется, как и любая реконструкция, это в некотором смысле фантастический текст, в котором на основе теоретических работ современников Введенского и известных нам существующих исследований его творчества в связи с мировоззрением формируется некое непротиворечивое идеологическое целое - какое, как нам кажется, мог бы сформировать Введенский, имей он желание пространно излагать свои теоретические взгляды. Но Введенский такого желания не имел и, видимо, не мог иметь, так как мировоззрения, подобные тому, что будет описано ниже, не являются в точном смысле слова мировоззрениями. Это не «воззрения на мир», соединяющие его в стройную систему, а некоторые исходные точки, из которых явствует, что на мир невозможно выработать никаких устойчивых воззрений и предельная верность этой позиции только и может быть единственно устойчивым «показателем направления» человека. Не случайно в «разговорах» чинарей (об этом термине будет сказано ниже), записанных Л. Липавским, Введенский наиболее однообразен в своих «теоретических» рассуждениях - практически все они так или иначе сводятся к реплике одного из персонажей «Кругом возможно Бог»: «Какая может быть другая тема, чем смерти вечная система» (Введі, 151). Причем эта «тема» подается не как любимый «предмет для рассуждений», а как установка сознания, (причем единственно верная с точки зрения поэта), делающая тотально бессодержательными любые «эстетики» и «мировоззрения»: «Какое это имеет значение, народы и их судьбы. Важно, что сейчас люди больше думают о смерти, чем раньше», «В людях нашего времени должна быть естественная непримиримость. Они чужды всем представлениям, принятым прежде. Знакомясь с лучшими произведениями прошлого, они остаются холодны: пусть это хорошо, но малоинтересно, не таков Д. X. Ему действительно может нравиться Гете. ... Его вкусы необычайно определенны и вместе с тем они как бы случайны, каприз или индивидуальная особенность. Он, видите ли, любит гладкошерстных собак. Ни смерть, ни время его по-настоящему не интересуют» (Введ2,157) (судя по всему, Введенский следует своему недоверию к мировоззрениям еще и в том, что грань между высказыванием «всерьез» и игрой у него, как и у других чинарей, остается очень зыбкой. Высказывание о Хармсе очень точно и, в то же время, имеет игровой характер - как и следующее замечание, особенно интересное в контексте сказанного во Введении: «... похоже Н.Н. и вправду читает тайком Пастернака») Непримиримость Введенского действительно естественная: рассуждения о «народах и их судьбах», культивация эстетического вкуса - все это лежит в плоскости семантического мышления, в то время как проблема смерти, в том виде, в каком ее понимал поэт, уводит в плоскость символическую, в плоскость сознания, по отношению к которому «народы и их судьбы» просто не существуют. Соответственно, и предлагаемая Введенским модель оценки произведения искусства «правильно-неправильно» вместо «красиво-некрасиво», «хорошо 32 плохо», видимо, основана на этом же критерии: дает ли произведение возможность выйти в плоскость сознания, или нет24. Все вышесказанное, напомним, было длинным объяснением того, что может значить слово «мировоззрение» применительно к А. Введенскому.
О теоретических концепциях, рожденных русским авангардом 20-х и так или иначе повлиявших на Введенского, написано довольно много. Много сказано в работах, посвященных группе ОБЭРИУ, с которой прочно связались имена Введенского и Даниила Хармса, или отдельным входившим в не поэтам - особенно много работ о Хармсе (работы А. Герасимовой , Ж. Ф., Жаккара , А. Кобринского ), есть работы, посвященные объединению чинарей - группе, куда входили Хармс и Введенский и которую, наверное, справедливее всего назвать содружеством философов, поскольку всех ее участников объединяла именно общая направленность мировоззренческих исканий (Как их выражение и, одновременно, способ их осуществления рассматривались в этом кругу и поэтические произведения), (работы Я. Друскина , В. Сажина ) Наконец, есть отдельные работы, посвященные самому Введенскому (Я. Друскина30, М. Мейлаха31, Ю. Валиевой32, А. Герасимовой )
В общем и в целом, все исследователи сходятся в том, что отправной мировоззренческой посылкой для поэтов группы ОБЭРИУ, в том числе и для Введенского, является общее для русского авангарда стремление «выработать мировоззрение и одновременно поэтическую систему, способные не только познать, но и выразить мир во всей его целостности», «...расширить до бесконечности границы своего мира, найдя некое абсолютное Слово» (Жаккар, 10). То есть, в основе исканий авангардистов лежит ощущение несоответствия языка и определяемого им мышления реальности — все они так или иначе пытаются обновлять, реформировать, выходить за пределы мертвых условностей искусства и вообще мышления. Среди непосредственных предшественников ОБЭРИУтов Жаккар называет «Орден заумников DSO» (в 25 году переименованный в «Левый фланг») во главе с А. Туфановым, в котором Хармс и Введенский состояли в 25-26 году. В основе теории заумников лежит позаимствованная Туфановым у А. Бергсона мысль о том, что мир - это нечто непрерывное, текучее и постоянно меняющееся, и разумом его понять нельзя, так как он привык иметь дело только с тем, что определено и лимитировано временем и работает по принципу разделения, различения одной вещи от другой. Поэтому Туфанов выдвигает текучесть как поэтический принцип, основанный на «расширенном восприятии времени и пространства», с установкой на угол видения 360є, т.е., «из центра по кругу, затылком» 4. Фонемы рассматриваются как самостоятельные семантические сущности, «создающие определенное ощущение движения»35, в то время как слово, по мнению заумников, - лишь застывший «ярлык на отношениях между однородными вещами» . Поэт, таким образом, должен ориентироваться на «поэзию беспредметную, в которой звуковые жесты заменяют слова» (Жаккар, 38). Отсюда и ориентация Туфанова на праславянские, санскритские, древнееврейские морфемы и фонемы - он пытается вновь сделать ощутимым изначально присущий им почти физиологический смысл, который стерся в словах современного языка, ставших пустыми знаками, указателями на вещи и явления. Такая «беспредметность» языка в то же время оказывается «вполне реальной образностью с натуры»37, так как лучше отражает текучую реальность, не воспринимаемую умом, приученным к обособлению и разделению понятий, выраженных словами.
Иероглиф как символ особого рода
В своих исследованиях творчества Введенского Яков Друскин активно пользуется термином «иероглиф», придуманным один из чинарей - Л. Липавским (разумеется, только в качестве термина, означающего то, что он значил у Липавского). Термин этот означает такой предмет (явление), который не может быть интерпретирован, «понят» в рамках мышления и таким образом, указывает путь за его пределы. Вот как пишет об этом Друскин: «Иероглиф двузначен, он имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа - его определение как материального явления - физического, биологического, физиологического, психо-физиологического. Его несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместимых понятий, т.е. антиномией, противоречием, бессмыслицей. Иероглиф можно определить как обращенную ко мне косвенную или непрямую речь нематериального, то есть духовного или сверхчувственного, через материальное или чувственное»65. Чтобы не возникло путаницы со словом «физическое», сразу скажем, что из того, как в дальнейшем Друскин оперирует термином «иероглиф» (например, о последнем разговоре из «Некоторого количества разговоров» Введенского он говорит, что этот разговор представляет собой иероглиф N-ro порядка, состоящий целиком из иероглифов, тоже состоящих из иероглифов) становится понятно, что под материальным явлением он разумеет любой факт нашего мышления — будь то образ конкретного предмета, связанный с одним словом, или «смысл» целостного высказывания.
В качестве примеров иероглифов автор термина Липавский приводил огонь (сидение перед камином, ощущение - видение - наблюдение огня), воду , листопад и т. д. То есть, мы имеем означающее - слова «огонь», «листопад», но при непосредственном соприкосновении с означаемым, при погружении в процесс наблюдения огня, переживания эмоций, вызываемых листопадом, мы обнаруживаем, что слова «огонь» и «листопад» ничего не говорят об этих явлениях, как и все остальные слова. Мы сами теряемся, исчезаем, немеем в водовороте ощущений. Т.е. перед нами слова, которые указывают на явления, при ознакомлении с сутью которых мы обнаруживаем, что не можем составить для них в уме удовлетворительных предметов, хотя бы потому, что данные явления процессуальны, а наше мышление может оперировать только статичными представления. Другой, более близкий к литературе план этих же самых иероглифов — многообразие связанных с данными явлениями ассоциаций, которые опять же, не могут быть интерпретированы однозначно (например, с иероглифом «листопад», как пишет Друскин, связаны такие оппозиции нашего мышления как «смерть - рождение новой жизни, смена человеческих поколений, исторические периоды и круговороты»66). Благодаря наличию этого ассоциативного плана в ряд с вышеприведенными иероглифами Липавский ставил такие иероглифы литературного происхождения как «пристань - Дама - собачка», «въезд Чичикова в город».
Как видим, в такой трактовке термин «иероглиф» практически совпадает с тем, как трактуют символ Мамардашвили и Пятигорский. Однако, нас в данном случае больше занимает применимость данного термина к анализу целостных текстов - то есть, специфический для литературы способ символизации, о котором пока было сказано очень мало. Между тем именно в этой области и обнаруживаются конкретные механизмы «включения мышления в структуры сознания», не описанные у Мамардашвили и не совпадающие с теми, что мы наблюдали на примере анализа стихотворения Пастернака. То есть, именно применительно к этой области термин «иероглиф» перестает быть дубликатом термина «символ» в трактовке Мамардашвили-Пятигорского. (Собственно говоря, если опираться только на вышеприведенные трактовки термина «иероглиф», то они с равным успехом могут быть истолкованы не только в духе Мамардашвили, но и в духе А.Ф. Лосева, Андрея Белого и т.д., д., д - что нас, разумеется, не устраивает). Что же можно здесь сказать о специфике применения термина «иероглиф» собственно к поэтике?
Яков Друскин, как уже было сказано, называет иероглифами и отдельные фразы Введенского, и единичные образы, и отдельные тексты. Один пример повторяющегося в текстах образа иероглифа уже был приведен - это свеча, чаще всего «вставленная» в метафору или сравнение - «на подоконник свечкой становлюсь» («Очевидец и крыса»), «Мне жалко что я не свеча трава» «Кругом как свеча вырастает трава» («Приглашение меня подумать»). А вот хороший пример высказывания-иероглифа из стихотворения Введенского «Суд ушел»: «шел по небу человек быстро шел шатался был как статуя одет шел и вдруг остался» (Введі, 123) - здесь первые три сточки еще худо-бедно можно воспринять как изощренные метафоры, но четвертая... Глагол «остался» требует обстоятельства места, сообщающего, где остался, но этого обстоятельства тут нет. В результате мы имеем, так сказать, новый предмет, состоящий из повисшей в воздухе семы не начатого движения, которая под влиянием контекста (шел и вдруг) превращается в сему остановки особого рода - видимо такой, когда вдруг выясняется, что никакого движения и не было. (Как пел один из ныне покойных самарских музыкантов, «когда я вышел из дома, я понял, что никуда не выходил, и вернулся обратно»). Предмет этот как бы висит в пустоте, ничего не выражая, кроме самого себя. Мало того, он и все предыдущее высказывание замыкает само на себя, лишая нас возможности истолковать его привычным образом, как сообщение о чем-то. Вместо этого мы оказываемся лицом к лицу с самими собой, со своим умом, занятым вопросом, на который он в принципе не может дать ответа.
Вот что говорит Друскин о подобных поэтических приемах Введенского: «В стихах Введенского почти в каждой фразе - главное направление мысли и погрешность - ее тень; погрешность в слове, нарушающем смысл главного направления» (В нашем случае эта погрешность создается, например, отсутствием обстоятельства, требуемого словом «остался», или же включением образа свечи, уже, казалось бы имеющего символический смысл, в состав метафоры, этот смысл переорганизовывающей). «Эта погрешность или тень мысли и есть главное направление, а главное направление - ее тень. Его стихи двумерны, а часто и многомерны. Это и есть духовность, то есть освобождение от душевности, или беспредметность, или косвенная речь, как говорил Кьеркегор». Так что иероглиф можно представить как своего рода двухголосную структуру. Первый голос образуется смыслами слов, не важно, прямыми или переносными, привнесенными культурными контекстами или возможностью воспринять образ на фоне связанного с ним архетипа - для Введенского они существуют в одной плоскости. В разобранных выше четырех стихах из «Суд ушел» это смыслы, семы, связанные со словами небо, статуя, шел, остался и т. д. Второй голос - это, собственно и не совсем голос, он нем и не несет никакого смысла. По он создается видением смыслов первого голоса именно как смыслов, наблюдением за речью как за речью, а не за ее тем, о чем она сообщает.
Ранние стихи: от стихии литературы к стихии языка
О гимназических стихах Введенского (здесь речь пойдет в основном о стихах из цикла «Дивертисмент» (Введ.2, 105-108), написанных поэтом в 16-17 лет — 1920 год) М. Мейлах во вступительной статье к собранию сочинений Введенского говорит, что в них «ничто еще не предвещает поразительной самобытности будущего поэта» (Введ.1, 11), и, в некотором смысле он прав. В этих стихах Введенский действительно еще использует приемы традиционной поэтики, но некоторая самобытность в том, как он это делает, все-таки прослеживается. Эти стихи интересны именно тем, что в них уже видно специфическое направление мысли Введенского, и то, как под влиянием этого направления традиционная поэтика, используемая для его выражения, начинает превращаться во что-то иное. Как пишет Татьяна Казарина, довольно подробно анализирующая цикл «Дивертисмент» в статье «Поэтика Введенского: жизнь знак и смерть человека», здесь Введенский выводит традицию на границу ее возможностей .То есть, здесь мы можем наблюдать, как Введенский естественным образом, не под влиянием «моды» на авангард, а под давлением изнутри идущих вопросов приходит к необходимости кардинального изменения метода работы со словом.
Первое, что бросается в глаза в этих стихах, - то, что картина мира здесь, пользуясь «терминологией» поздних произведений Введенского, не скрывает своей «нарисованности». Название поэтического цикла - «Дивертисмент» как нельзя лучше отражает принцип организации этих стихов - кажется, что в них влились все звуки, мотивы, ритмы литературы начала века (да и века предыдущего тоже). То выплывает цитата из Чехова: «Та-ра-ра-бумбия// Сижу на тумбе я» (Введ.2, 106), то на блоковский ритм и пейзаж накладывается что-то а-ля ранний Маяковский: Ночь каменеет на мосту Холодный снег и сух и прост. Послушайте, трактир мой пуст, Где звезды лошадиный хвост» (Введ.2, 106). (Ср. у Маяковского, например в «Облаке в штанах»: «Слушайте!// Проповедует,// мечась и стеня,...» , «Вселенная спит// положив на лапу// с клещами звезд огромное ухо» ). Как отмечено Т. Казариной, цитируется не только литература, но и сюжеты немого кино начала века - причем, для пущей абсурдности, «киношные» штампы укладываются в интонации баллад Жуковского: «Черный Гарри крался по лестнице Держа в руке фонарь и отмычки; А уличные прелестницы Гостей ласкали по привычке. Черной ночью сладок мрак Для проделок вора. Трусит лишь один дурак В серых коридорах. О пустынный кабинет, Электрический фонарик! Чуть скрипит сухой паркет, -Осторожен тихий Гарри. А в трактире осталась та, Ради которой он у цели. О, красавица, твои уста И они участвуют в деле! Вот уж близок темный шкаф С милыми деньгами. Но предстал нежданно граф С грозными усами.
И моментально в белый лоб Вцепилась пуля револьвера. Его сложила в нищий гроб Не сифилис и не холера» (Введ2, 106-107). Стихотворение разворачивается как спектакль со множеством персонажей, которые, однако, нисколько не пытаются выдать себя за реальных людей, а, напротив, всячески демонстрируют нам искусственность, сделанность своих роскошных костюмов и масок. Уже в этих стихах появляется то, что потом станет «маркой» Введенского: по отношению к ним бессмысленно говорить о внешнем и внутреннем мире, о лирическом герое, об отношениях с миром и т. д.
Здесь нет внешнего и внутреннего мира, а есть разворачивающееся перед нами видение мира, причем разворачивающееся как видение, не стремящееся выдать себя за что-то объективно существующее. Это видение создается словами, ритмами и не существует отдельно от них, оно из них состоит. Нет смысла говорить, что, например, о «Черном Гарри» рассказ идет в ритме баллады - «Черный Гарри» здесь такой же аксессуар, деталь антуража, как и ритм баллады. Так что уже здесь для Введенского разницы между словом и предметом не существует. Можно также вспомнить Крученых с его рассуждениями об освобождении фактур - фактуры ритмической, смысловой, синтаксической и т. д. Перед нами как раз парад фактур. Или, если пользоваться «терминологией» самого Введенского, мелодий -мелодия бульварного романа сплетается с мелодией баллады, мелодия одиночества с мелодией тоски: «Ах, зачем же тихо стонет Зимний день на Рождество. Вы сдуваете с ладоней Пепел сердца моего» (Введ.2, 107).
В поздних произведениях Введенский часто описывает весь мир как исключительно звуковой: «Мы предметов слышим звуки, //музыку как жир едим» («Очевидец и крыса», Введ.1, 179), «Звери вы колокола. Звуковое лицо лисицы смотрит на свой лес» («Серая тетрадь», Введ.2, 82). В ранних стихах мы можем проследить истоки этого мотива. Мне кажется, применительно к ним слова мелодия и фактура (в понимании Крученых) являются синонимами. Мир здесь состоит из мелодий - мелодий наших мыслей, эмоций. Потому мотив звука и встречается так часто: «Мое подымет платье// Веселый ветерок,// Играя на закате// В краснеющий рожок» (Введ.2, 105), «Сонно звенят недели» (Введ.2, 104), «Ах, зачем же тихо стонет // Зимний день на Рождество» (Введ.2, 107). Явление и тот, кто его воспринимает, неразделимы - потому и «стонет зимний день». Все звуки обладают длительностью. Звук длится какое-то время, а потом стихает, исчезает. Если последить за мыслями, то и с ними происходит то же самое. Говоря о мире как о звуке, поэт получает возможность еще раз подчеркнуть неразделимость мира и мысли о мире — пока длится звук (мысль), мир существует, звук стихает - мир исчезает, но на его место сразу приходит новый звук, потому мы не замечаем «раздробленности времени» (Введ.2, 157).
Все — только звук, только видение - установка на такое восприятие «реальных вещей» и делает эти стихи парадом масок. Здесь все, в том числе самые глубокие эмоции, самые трагические обстоятельства изображаются, выглядят как маска, игра. Правда, маска необычная - за ней и кроме нее ничего вообще нет. Потому с мотивом звука часто сплетается мотив игры, лжи, театра: «Но лживых песен танец весел» (Введ.2, 108), «Кто в свирель кафешантанную Зимним вечером поет: Об убийстве в ресторане На краснеющем диване, Где темнеет глаз кружок.
. «Сюжет переживания» в «Некотором количестве разговоров»
Чтобы определиться, о каком сюжете здесь идет речь, придется начать несколько издалека. Л. Кацис в своих статьях, посвященных поэтике ОБЭРИУ92, справедливо говорит о том, что ничего нам не даст сведение всего обэриутского творчества к асемантичности, а анализа текстов Хармса и Введенского - к повторению на разные лады фразы Введенского в пересказе Я. Друскина «непонимание непонятного как непонятного». В качестве примера альтернативного подхода исследователь за каждым словом в текстах Хармса и Введенского обнаруживает массу отсылок к разного рода культурным контекстам, начиная от газетных передовиц 30-х годов и кончая Ветхим Заветом. Словом, читает обэриутский текст как сложный многослойный шифр. Большинство трактовок Л. Кациса кажутся вполне обоснованными, но, на мой взгляд, ограничиться такой «расшифровкой» текста - значит еще дальше уйти от того переживания, которое у ОБЭРИУтов было источником и одновременно целью порождения текста. В этой работе мы исходим из того, что основой текстов Введенского и Хармса, является все-таки бессмыслица, асемантичность, но асемантичность, по выражению Друскина, конструктивная - это путь в конкретное переживание остановки времени, выхода за пределы любых умственных разделений и ограничений, фактически, смерти человеческого «Я», этими ограничениями создаваемого и растворения его в ... - в чем? «Если мы почувствуем дикое непонимание, то мы будем знать, что этому непониманию никто не сможет противопоставить ничего ясного. Горе нам, задумавшимся о времени. Но потом при разрастании этого непонимания тебе и мне станет ясно, что нету ни горя, ни нам, ни задумавшимся, ни времени»93. Другое дело, что создается это переживание тем, что Введенский назвал «поэтической критикой разума». - то есть, Введенский использует символику, аллюзии, реминисценции и проч. - все то, что так хорошо видит Л. Кацис, но он использует их как средство «выразить обыденные взгляды», - выразить их так, чтобы читатель увидел их нереальность, разотождествился с ними .
«Некоторое количество разговоров» - самое логически последовательное произведение Введенского, в котором он исследует наше мышление, толкует на свой манер наши сны - см. подзаголовок произведения («...или начисто переделанный темник» - книга толкований снов). Толкует, двигаясь ко все более глубоким и значимым для нас мыслительным структурам. Толкует так, чтобы проснуться, выйти за пределы всех структур. Ниже мы и попытаемся проследить, как он это делает.
Итак, «Некоторое количество разговоров». В начале первого «разговора» («Разговор о сумасшедшем доме») сразу демонстрируется очень яркий пример активизации наших мыслительных конструкций и одновременно их деавтоматизации, превращения их в иероглиф, в указание на пустоту: «Первый. Я знаю сумасшедший дом. Я видел сумасшедший дом. Второй. Что ты говоришь? Я ничего не знаю? Как он выглядит. Третий. Выглядит ли он? Кто видел сумасшедший дом». (Введ.1, 196). В репликах Первого и Второго активизируется привычная нам модель суждения: ожидается, что кто-то сообщит кому-то какую-то информацию о чем-то. Но в реплике Третьего мы получаем не ожидаемую информацию, а отрицание самой модели подобного суждения, основанного на разделении на субъект («кто») и объект («сумасшедший дом»), обладающий какими-то статичными признаками, поддающимися идентификации («выглядит») субъектом («видел»). Здесь Третий сомневается как в возможности описать объект («выглядит ли он?»), так и в наличии субъекта, который мог бы это сделать («кто видел сумасшедший дом»).
Весь «разговор» так или иначе построен на подобном замыкании мыслительных структур на себя, выявляющем тем самым их автономность - они не описывают мир, мир создается ими. Часто это замыкание в тексте осуществляется действительно за счет замыкания - за счет кольцевой композиции или многократного повторения мотива. «Разговор» начинается ремаркой «В карете ехали трое. Они обменивались мыслями». По ходу разговора происходят какие-то события, все ходят по сумасшедшему дому и т. д., но кончается все такой же ремаркой «В карете ехали трое. Они обменивались мыслями». Действия на самом деле были просто «обменом мыслями»? Я. Друскин в своей «Звезде бессмыслицы» указывает, что оппозиция «мысль-действие» постоянно присутствует в произведениях Введенского, причем члены оппозиция часто отождествляются . Он же отмечает, что в последнем «разговоре», который сжато излагает весь пройденный в предыдущих разговорах путь, «карета» (а не сумасшедший дом, что, на первый взгляд, было бы логичнее) оказывается названной среди основных тем «раздумий» героя: «задумался о карете, о банщике, о стихах и о действиях». В карете, где герои «обмениваются мыслями», умещается весь мир. Или мир и создается «обменом мыслями»? В следующих разговорах тоже постоянно подчеркивается, что герои находятся в замкнутом пространстве: «Двенадцать человек сидело в комнате» (второй разговор), «Два человека сидели запертые в комнате» (третий разговор), «Три человека бегали по комнате» (пятый разговор). Таким образом, карста оказывается включенной в контекст мотива формы, о котором много говорилось в предыдущих главах. Так она становится своеобразным символом ограниченности человеческого мышления, в которой замкнут индивидуум. Символом, превращенным в иероглиф — потому что эта ограниченность особого рода, внутри нее весь мир, а снаружи? Тут само противопоставление ограниченности и свободы теряет смысл.
Движение кареты как-то связано с движением времени, так же как и вообще любое действие. Но здесь между временем и оппозицией мысль/действие выстраиваются очень специфические отношения: «Проходит вечер. Никаких изменений не случается. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли» «... Все зябнут. Уважай обстоятельства места. Уважай то что случается. Но ничего не происходит. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли». «Нищета мыслей» является причиной отсутствия событий? Хозяин сумасшедшего дома «смотрит в свое дряхлое окошко, как в зеркало» - то есть, глядя наружу, видит себя, свой собственный жизненный опыт («дряхлое окошко»)? Но в конце разговора он появляется вновь: «Хозяин сумасшедшего дома (открывая свое дряхлое окошко, как форточку). Заходите дорогие, ложитесь» -исчезает граница между зеркалом и окном, внутренним и наружным миром, а заодно и между сумасшедшим домом и внешним, нормальным миром — «заходите дорогие, ложитесь».