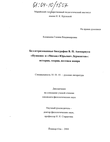Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Принципы взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных категорий 80
1.1 Трансмузыкальное как промежуточная область между музыкой и поэтикой 88
1.2 Обмен между музыкальным и словесным 99
1.2.1 От слова к музыке 100
1.2.2 От музыки к слову 111
1.3. Музыка разрушает словесный текст? (Из истории представления о подчиненности слова музыке) 144
Глава 2. Принципы эволюции представлений о словесной музыке 167
2.1 Оппозиция «естественное/искусственное» в истории словесной музыки 168
2.2 Оппозиция «космическое / человеческое» в истории словесной музыки 171
2.3 Оппозиция «структурное-архитектоническое / аструктурное-текучее» в истории словесной музыки 173
Глава 3. Две основные концепции словесной музыки 176
3.1 Словесное произведение как музыкально устроенный «космос» 177
3.1.1 Мелодия 177
3.1.2 Гармония 185
3.1.3 Concordia discors и словесная полифония 199
3.1.4 Музыка как область идеальных словесных форм 226
3.2 Словесное произведение как выражение «внутренней музыки» 231
3.2.1 Музыка в средневековой аллегорике 232
3.2.2 «Внутренняя музыка» романтизма 241
3.2.2.1 Интериоризация «музыки сфер» 244
3.2.2.2 Феномен личных музыкальных моделей 246
3.2.2.3 Музыкальные модели в романтической поэтике: оправдание беспорядка, метафоры «потока» и «тона» 260
Глава 4. Музыкальные категории в теории родов и жанров 286
4.1 Музыкальные модели в развитии теории лирического рода 287
4.1.1 Новое представление о музыке как немиметическом искусстве 293
4.1.2 Возникновение представления о «поэзии для музыки» 303
4.1.3 Перенос музыкальных моделей на лирику 306
4.1.4 Лирика в системе трех родов 325
4.2 Музыкальные аналогии в теории романа (на примере английской критики 18 в.) 340
Глава 5. О двух типах понимания музыкального в литературоведении XX века 346
5.1 Музыкальное как «усиление» формы 347
5.2 Музыкальное как «разрушение» формы 356
Заключение 367
Библиография 375
- Трансмузыкальное как промежуточная область между музыкой и поэтикой
- Concordia discors и словесная полифония
- Новое представление о музыке как немиметическом искусстве
- Музыкальное как «усиление» формы
Введение к работе
з
В диссертации рассматривается функционирование музыкальных терминов и понятий в европейских поэтологических текстах. На протяжении всей своей истории поэтика обращалась к музыкальной терминологии для решения собственных задач: в формулировках представлений об устройстве и назначении словесного произведения, о системе родов и жанров в той или иной мере использовались аналогии с музыкой. Многих поэтологи, воспринимавшие музыку как область моделей, на которые литературе в некоторой степени надлежало ориентироваться, полагали, что словесное произведение, не сливаясь с музыкой, должно было развить в себе собственную музыкальность, стать «другой музыкой» («Г autre musique»), по определению Эсташа Дешана (14 в.) В исследовании анализируются общие принципы взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных категорий, описывается эволюция представлений о словесном произведении как «другой музыке», выявляются основные концепции словесной музыкальности.
Актуальность темы исследования. Использование в современном литературоведении музыковедческих терминов для обозначения словесных явлений — давняя практика, восходящая к античной поэтике. Однако представление о соотношении словесного и музыкального в современном литературоведении основано на двух проблематичных посылках: 1) музыкальная форма - внеисторическая данность, некая идеальная структура, которая может воплощаться в произведениях различных эпох; 2) музыкальная форма может находить непосредственное воплощение в словесном произведении. Практика некритического, неотрефлексированного - ни теоретически, ни исторически - использования в литературоведении музыкальных терминов свидетельствует о том, что сама проблема соотношения поэтики и музыкознания остро нуждается в историко-теоретическом осмыслении. Такое осмысление и предлагается в настоящей работе.
Цель работы состоит в том, чтобы реконструировать механизм взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных понятий и идей и проследить исторический процесс этого взаимодействия, который привел к современному состоянию данной проблемы. Исследование, таким образом, имеет теоретический аспект, поскольку в нем реконструируется система факторов, которая обеспечивала и обеспечивает взаимодействие между поэтикой и представлениями о музыке; но оно имеет и исторический аспект, поскольку это взаимодействие показано в его диахронном развертывании.
Новизна работы определяется двумя моментами. Во-первых, в ней впервые выделен в качестве предмета исследования сам процесс взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных понятий и терминов: не предлагая собственных аналогий между музыкой и словом, автор делает предметом теоретической рефлексии поэтологическии механизм, порождающий подобные аналогии. Во-вторых, феномен функционирования изначально музыкальных понятий в качестве поэтологических метафор впервые рассмотрен в широкой исторической перспективе, определены особенности, отличающие применение музыкальных терминов в поэтологических системах разных эпох - античности, Средневековья, Ренессанса, барокко, романтизма.
Объектом исследования служат поэтологические тексты (от античности до 20 века включительно), в которых устройство и назначение словесного произведения истолковано посредством музыкальных терминов и понятий.
Методологическая основа исследования. В настоящей работе использованы результаты двух направлений литературоведческих исследований: с одной стороны, это междисциплинарные (или, как их принято называть в последние годы, «интермедиальные») работы по проблеме соотношения музыки и словесности (труды А. В. Михайлова, В. Н. Холоповой, Д. М. Магомедовой, О. Людвига, О. Вальцеля, В. Виоры, В. Флемминга, И. Миттенцвая, К. Брауна, С. П. Шера, Дж. Уинна, В. Вольфа, Ж.-Л. Купера, Дж. Фетцера, X. Фрике, X. Кронеса и др.); с другой, - работы по истории поэтики и риторики, в кото-
рых так или иначе затрагивается вопрос об использовании в них музыкальных понятий (монографии и статьи К. Берри, С. Бернар, К. Борински, А. Бука, С. Лемпицкого, К. Шерпе, X. Пейера, Ф. Клодона, К. К. Гринфилд, С. К. Хенинге-ра-младшего, Э. Каллхед и др.). В работах первого направления во второй половине 20 в. было выработано важное для настоящего исследования представление об интенсивном взаимообмене терминами между музыкознанием и теорией словесности; в ходе этого взаимообмена музыкальные термины теряли свое «буквальное» значение и превращались в метафоры, наделенные новыми, поэтологическими смыслами. Работы второго направления показали значимость музыкальной терминологии в истории поэтики.
Практическое значение работы. Материалы диссертации могут быть использованы в курсах и учебных пособиях по теории литературы, истории поэтики, эстетике; в специальных междисциплинарных курсах по теме взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусств, прежде всего литературы и музыки.
Апробация. Основные положения работы изложены в двух авторских монографиях («Ранний романтизм в поисках музыки». — М., 1993. 128 с; «Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике». — М., 2005. 224 с), в публикациях в журналах «Музыкальная академия», «Российский литературоведческий журнал», «Вопросы литературы»; сборниках «Наука о литературе в XX веке (История, методология, литературный процесс)» (ИНИОН РАН), «Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры» (Гос. институт искусствознания), «Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах» и др. Отдельные идеи работы излагались в 1994-2006 гг. на конференциях и семинарах в ИМЛИ, ИНИОН РАН, МГУ, Гос. институте искусствознания, РГГУ, Государственном республиканском центре русского фольклора, Тверском государственном университете и др. Основные положения диссертации легли в основу статей в энциклопедиях, подготовленных на базе ИНИОН РАН: «Литературная энциклопедия терминов
и понятий» и «Западное литературоведение XX века». Работы по теме диссертации включены в ряд учебных программ (в т. ч. курс «Введение в музыкальные культуры мира» кафедры Теории и истории культуры Российского университета Дружбы Народов; курсы «История мировой культуры», «История зарубежной литературы первой половины XIX века» Института высших гуманитарных исследований РГГУ; курс «История культурологии» кафедры теории и истории культуры РГГУ).
Трансмузыкальное как промежуточная область между музыкой и поэтикой
Комплекс идей о музыке, который занимает промежуточную область между поэтикой и собственно музыкой, мы определяем термином «трансмузыкальное», введенным немецким музыковедом В. Виорой. Отмечая, что слово «музыка» со времен античности нередко «применялось к тому, что имело лишь смутное сходство с музыкой, и использовалось как метафора», Виора называет «трансмузыкальным» круг представлений, связанных с таким расширенным значением слова «музыка»200. Этот термин удачно выражает промежуточный, посредующий характер сферы, расположенной между музыкой и тем «немузыкальным», которое стремится присвоить себе качества музыки, по-своему «стать музыкой».
В основе трансмузыкальной области — ограниченный и крайне медленно эволюционирующий (вероятно, намного медленнее, чем сама музыка) набор ключевых идей, которые легко пересекают и жанровые границы, и границы эпох. Так, идея музыки как гармонии сфер, возникшая в античности и усвоенная Средневековьем, в эпоху Ренессанса проникла и в поэтику, позволив увидеть в поэзии «инструмент, заключающий в себе небесную гармонию» (Колуччо Салутати201) или «планетоподобную музыку» (planet-like music of poetry — Филип Сидни202); она находила место и в научном трактате (И. Кеплер, М. Мерсенн), и в поэтическом тексте (знаменитый музыкальный эпизод в V акте «Венецианского купца», где Лоренцо сравнивает движение небесных тел, в котором «словно бы поет ангел», с гармонией «бессмертных душ»).
Можно выделить три основные идеи, составляющие основу всей трансмузыкальной сферы. Музыка в своей космической ипостаси («музыка сфер», musica mundana, в терминологии трактата о музыке Боэция) — это принцип архитектоники, структурного устройства произведения: она обуславливает устроенность космоса — внешнего мира; гармоническая устроенность словесного произведения — отражение этой музыкально-космической гармонии. Но наряду с музыкой сфер существует еще и музыка души, человеческая музыка (musica humana) — отражение уже не внешней стройности космоса, но внутренней, цельной и неделимой сути человека, которую античный автор назвал бы «нравом» (mos); в этой своей ипостаси музыка — выражение внутреннего мира, а в предельном случае (у романтиков) — она и его содержание, ибо для романтиков человеческая субъективность по сути своей музыкальна. И наконец, музыка — принцип, лежащий в основе всех искусств.
С тремя основными идеями связан и определенный, достаточно устойчивый набор словесных формул, в который они облекаются (таковы, например, восходящие к трактату Боэция формулы «musica mundana» и «musica hu-mana», формулы «sine musica nulla disciplina» и «concordia discors», о которых ниже пойдет еще речь), — это позволяет нам говорить о существовании то-посов трансмузыкального, если понимать под топосами, вслед за Э. Р. Курциусом, устойчивые формулы, «схемы выразительности», как бы потерявшие автора и ставшие общей собственностью литературы. Именно на этих идеях и топосах веками держится вся фикция музыкального вне музыки, в том числе и фикция словесной музыкальности, слова как музыки.
Окончательно сформировавшиеся в эпоху Средневековья, три основные идеи трансмузыкального в дальнейшем существовали в весьма напряженном, конфликтном взаимодействии: то одна, то другая из них выдвигалась на первый план. Так, для ренессансной поэтики музыка слова в первую очередь была отражением архитектоники космоса; романтическая же музыка слова — в первую очередь внутренне-изменчивое, сама субъективность.
Заключая в себе некое представление о музыке, каждая из этих идей была трансмузыкальна в той мере, в какой выносила музыку за пределы собственно звукового мира, смыкала ее с «незвучащим», делала возможным превращение музыки в организующую метафору словесного.
Разделение трансмузыкального на «музыку мира» и «музыку человека» (musica mundana и musica humana) проведено в трактате «О музыкальном установлении» Боэция (начало VI в.), который воспроизвел в нем гораздо более ранние пифагорейские идеи о сущности музыки. Помимо «инструментальной музыки» (musica instrumentalis) — т. е. музыки в собственном смысле, — Боэций выделяет две разновидности неслышимой, внезвуковой музыки: первая из них (musica mundana) в наибольшей мере проявляется «в том, что находится на небе, в соединении стихий, в разнообразии времен года», вторую (musica humana) «познает всякий, кто низойдет в самого себя» (quisquis in sese ipsum descendit)203. Двум родам внезвуковой музыки соответствуют как бы два направления человеческого взгляда: вверх — к звездам, и внутрь — в глубину самого себя. Однако основной принцип обеих музык един — гармония (coaptatio, harmonia), которая способна «соединять» (conjungere) различное (небесные светила, стихии, времена года в мире, тело и душу в человеке) в единое, как это происходит и в «инструментальной музыке», где низкий и высокий голос образуют «единое созвучие» (unam consonantiam). Однако в «человеческой музыке», помимо гармонии, есть и нечто иное, что Боэций не может объяснить столь же ясно, как объясняет он принцип гармонии: все люди — «и дети, и юноши, а равным образом и старики в силу некой естественной добровольной предрасположенности привязаны к музыкальным ладам»204. Музыка не только обустраивает и структурирует в некое единство космос (а по аналогии с ним — и человека, гармонически соединяя тело и душу), но еще и обладает «сходством со нравами» — особым свойством, которое не выводимо из архитектонических качеств музыки как соединяющей гармонии. По отношению к человеку музыка не только архитектонична — как сила, извне обустраивающая, соединяющая разнородные элементы человеческого существа, — но и как-то сходна с его внутренней природой — «нравом», который не подлежит умопостижению и архитектоничному устройству, но скорее иррационально-неделим. Музыка в этом своем аспекте «относится не к области умозрения, но к области нравов» (moralitati conjuncta); «музыка от природы соединена с нами, так что мы, если бы и хотели, не могли бы обойтись без нее». Есть сходство между ладами музыки и нравами отдельных народов: «Народ любит лады в силу их сходства с [его] нравами»205; а это значит, что лад выражает нрав народа (на языке Боэция — «соответствует» ему).
Итак, музыка — и космический принцип структуры, надчеловеческая сила, способная соединить разнородное; и нечто человеческое, от природы связанное с человеком и соответствующее его изначальной иррациональной сущности (в терминологии Боэция — «нраву», причем не отдельного человека, но целого народа). Так была задана фундаментальная двойственность, определившая всю дальнейшую эволюцию трансмузыкального.
В этой эволюции «музыка космоса» (musica mundana) раскрыла себя в поэтике как архитектоническая по сути своей идея гармоничного устройства, структуры206. Идея же о «музыке человека» дала импульс в Средние века —
«Musica vero поп modo speculationi, verum etiam moralitati conjuncta sit»; «...Nobis musicam naturaliter esse conjunctam, ut ea ne si velimus quidem carere possimus»; «Gaudet enim gens modis morum similitudine». — Idem. Col. 1168-1171 (Lib. I, cap. 1). 206 С музыкой космоса связан мотив ее неслышимости. Мы находим его, например, в трактате (приписывавшемся Беде Достопочтенному) «Musica theorica»: musica coelestis звучит постоянно, но мы не слышим ее потому, что привыкли к ней (propter consuetudinem); однако человек, родившийся в другом мире и пришедший оттуда в наш мир, слышал бы ее отчетливо («si autem aliquis in altero mundo nasceretur ut in hunc mundum postea venisset, earn sine ullo impedimento audiret») — Musica theorica // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1850. — Vol. 90. — Col. 911). Эта неслышимость небесной музыки вызывала, конечно, некоторое беспокойство и неудовлетворенность: гармония мира оставалась закрытой для человека. Не для того ли, чтобы преодолеть эту неудовлетворенность, была изобретена «музыка природы», ставшая удобным, всех устраивающим вариантом musica mundana: ведь музыка природы — одновременно и вполне вселенская, и вполне слышимая. Звуки природы переживались как музыка уже в поздней античности; своеобразную поэтическую теорию такой музыки набрасывает Авсоний (IV в.) в послании XXIV: «В природе ничто не совершается безмолвно» (nil mutum natura dedit), и у «прибрежных тростников есть своя музыка для осмысления музыкальных понятий как аллегорий внутреннего мира, а в эпоху романтизма — для понимания всего внутреннего мира как по преимуществу музыкального процесса: музыкальное в романтизме было осмыслено как сама субъективность, а словесное в его попытках выразить «душу» могло лишь приближаться к музыкальному.
Concordia discors и словесная полифония
В музыкальной полифонии поэтика нашла по крайней мере два момента, воспринятые ею как идеальные модели, заслуживающие воссоздания в слове: во-первых, «согласное» сопряжение «несогласного», конфликтно-противоположного, диссонансного; во-вторых, сосуществование различного в некой идеальной одновременности. Полифония — модель «согласия несогласного» и модель одновременности различного.
Впрочем, эти модели вырисовываются уже в античных концепциях гармонии, т. е. задолго до изобретения собственно полифонии.
Осмысленная как сила, гармония заставляет «различное» и «противоположное» соединяться в единое целое: мир, состоящий из различного, не гибнет благодаря гармонии. Сходное и сродное не нуждается в гармонии, утверждает Филолай, однако «несходное, несродное и по-разному упорядоченное» должно быть соединено гармонией, чтобы существовать в мире426. Это представление о гармонии усваивается средневековой христианской культурой, продолжающей видеть в ней «соединение различных вещей в едином согласии» (Кассиодор ). Сам искупительный подвиг Спасителя описывается как сотворение гармонии: Христос включил «разноголосицу первоначал в порядок созвучия» (eis taxin sumfonias), чтобы «весь мир стал гармонией», — пишет Климент Александрийский428.
Музыка в этом смысле ничем не отличается от гармонии: она также представляет собой соединение разнородного, согласие несогласного, — как, впрочем, и весь мир: «Год составлен из противоположностей — весны, лета, осени, зимы, как и гармония мелодии предстает состоящей из чередования ударных и безударных [долей]. Так и сам мир составлен из противоположностей, воздуха и земли, огня и воды» (Амвросий Медиоланский, «О Ное и ковчеге», гл. XXIII)429.
В системе семи свободных искусств, где каждое искусство выполняет свою особую роль, функция музыки, согласно Джону Салисберийскому (XIIв.), — «делать несогласное согласным (dissona consona reddere)»430. В определении Хильдеберта из Лавардена (рубеж XI и XII вв.), музыка «соединяет и заставляет подружиться несходные звуки»431.
Однако музыка — не только согласование несогласного, но и соприсутствие различного. В понимании Августина «различное» необходимо для музыки, которая по самой своей сути не может состоять из «одинакового»: «Если все струны звучат одинаково, мелодия не возникает»; в музыке «должны быть разумно связаны различные звуки»
Христианская экзегеза весьма рано начинает использовать в своих аллегориях представление о музыке как образе гармоничного сосуществования несходного. Так, для Кассиодора музыка, в которой «различные звуки составляют одну совершенную мелодию», аллегорически соответствует «грядущему царству Божьему, где святые получат различные вознаграждения за свои деяния, всем же вместе будет дано одно блаженство»433. Иоанн Скот Эригена, доказывая, что Бог сотворил не только «подобное» себе (как то вечность, бессмертие и т. п.), но и «неподобное» (временное, смертное, изменчивое), прибегает к музыкальной аналогии: «мелодия музыкального инструмента» (organicum melos), в которой «различные качества и количества звука» со единяются в некую «естественную красоту», сходна с «гармонией мира» (universitatis concordia), в которой соединено «подобное» и «неподобное»434.
Как видим, представление о музыке как согласии несогласного и соединении/сосуществовании «различного» сформировалось задолго до появления профессионального многоголосия, в котором эти принципы осуществлены самым непосредственным образом.
Обратимся к принципу согласия несогласного. Его поэтологическая рецепция тесно переплетена с историей топоса «concordia discors», причем словесное и музыкальное начала в этой истории настолько тесно сопряжены, что границу между их сферами провести крайне трудно.
Формула concordia discors, станвшая общей собственностью музыки и словесности, была заимствована средневековыми авторами у древнеримских поэтов. Овидий передает этой формулой единство противоположных начал жизни (борьба огня и влаги — то «согласие несогласного», discors concordia, из которого рождается жизнь435), Лукан — ситуацию неустойчивого мира на кануне войны436, Гораций — естественное, привычное состояние вещей437. Средневековый поэт Алан Лилльский в прозиметре «О плаче Природы» (XII в.) использует античную формулу, чтобы описать музыку как парадоксальное согласие несогласного:
Cum dulci strepitu ructabant organa ventum, Dividitur juncta, divisaque jungitur horam Dispar comparitas cantus, concordia discors, Imo dissimilis similis dissensio vocum.
«Co сладостными звучаниями инструменты извергают воздух; неравный союз их звучания, это согласие несогласного, соединившись, разделяется, а разделившись, соединяется, — разлад голосов, один и тот же и одновременно иной»438.
В полифонической музыке принцип concordia discors (или, что безразлично, discordia concors) проявляется с особой очевидностью, и вполне естественно, что эта формула в трактатах по теории музыки начинает применяться для описания техники многоголосия. Гвидо д Ареццо в X в. определяет «диафонию» — «разногласие», как называли первоначально полифонию, — следующим образом: «когда разъединенные голоса и согласно диссонируют, и, будучи разногласными, консонируют» (et concorditer dissonant, et dissonantes concordant)439.
Новое представление о музыке как немиметическом искусстве
Благодаря Аристотелю, отнесшему «большую часть авлетики и кифа-ристики», вместе с трагедией, комедией и дифирамбической поэзией, к «подражанию» («Поэтика», 1447а), принцип подражания как «единый принцип» всех искусств вплоть до 18 в. распространялся и на музыку. Поскольку же заявленная Аристотелем «подражательность» музыки всегда оставалась, мягко говоря, проблематичной и крайне затруднительной для толкования, то и неудивительно, что общий кризис принципа подражания начался именно с музыки. С середины 18 в. теоретики искусства один за другим утверждают, не без вызова традиции, что музыка «ничему не подражает».
В 1744 г. англичанин Джеймс Харрис находит «силу» музыки «не в подражании или в вызывании идей, но в вызывании чувств, которым могут соответствовать идеи»618. Другой англичанин, Томас Туайнинг, пишет словно в прямое продолжение мысли Харриса: «Музыка способна до известной степени вызывать идеи при помощи тех чувств, которые она вызывает непосредственно. Но это ее действие столь утонченно и неопределенно — столь зависимо от фантазии, чувствительности, музыкального опыта и даже от настроения слушателя, что назвать его подражанием значило бы выйти за пределы допустимой аналогии. Музыка не подражательна, но, если можно так выразиться, намекающа (suggestive) В лучшей инструментальной музыке, исполненной с чувством, сама неопределенность выражения, отдавая слушателя свободному действию его чувства на его же воображение и, так сказать, свободному выбору идей, кажущихся ему наиболее уместными для отклика на породившее их чувство, вызывает удовольствие, которое, как я думаю, все испытавшие его почитают одним из самых главных музыкальных наслаждений. Но большая часть обладающих музыкальным слухом — обладают одним лишь слухом, и это наслаждение им неведомо» (1789)619.
На немецкой почве сходные идеи развивал И. Г. Гердер. В его сочинении «Какое из искусств, музыка или живопись, обладает большим воздействием? Разговор богов» (1781/82 и 1785) музыка говорит о себе: «Я — творец и никогда не подражаю; я вызываю звуки, как душа вызывает мысли, как Юпитер вызывал миры из ничтожества, из невидимого; и тогда они [звуки — А. М.] проникают, как волшебный язык другого мира, к душе, чтобы она, захваченная потоком пения, забыла и потеряла себя»620.
Итак, музыка ничему не подражает. В наиболее радикальной форме это новое воззрение выражение в трактате Мишеля-Поля Ги де Шабанона, который проводит на семиотическом уровне резкую грань между словом и музыкальным звуком: «...Обороты речи и слова — лишь условные знаки вещей; эти слова и обороты, имея синонимы и эквиваленты, могут быть заменены ими. Но звуки в музыке -— не знаки, выражающие пение; они и есть само пение... Из этого следует, что в музыке нельзя в неявной форме выражать свои мысли. Мы поем, мы записываем звуки, которые имеем в голове: эти звуки — не выражение вещей; они и есть сами вещи»621. Музыка, по Шабанону, не только не подражает, но и не выражает — что видно из следующего рассуждения: «Матросы веселы в тот момент, когда они поют грустно. Это значит, что музыка для них не есть язык выражения: оно не есть искусство, которое подражает или стремится подражать»622. Способность искусств выражать характер людей, описывать вещи или ситуации рассматривается Шабаноном как «зависимость», от которого музыка свободна. Все прочие произведения искусства несут на себе печать характера своего создателя и народа, к которому он принадлежит, — «но музыка, которая не рисует ни людей, ни вещи, ни ситуации, не ограничена такой зависимостью... Характер песни,наиболее популярной у данного народа, не является точным знаком его ха-рактера и его гения» В чем же тогда, собственно, состоит воздействие музыки? В способности «вызывать» в нас «разнообразные ощущения». Эти ощущения отличаются неясностью, мимолетностью, изменчивостью: в этом их отличие от чувств, вызываемых подражанием. Возводя «неясность» выразительности, присущей инструментальной музыке, в особое эстетическое качество, Шабанон тем самым полемизирует с традиционной точкой зрения на инструментальную музыку как на ничего не значащий «приятный шум»624.
Ж. Ж. Руссо, который, как и другие теоретики, оказался перед необходимостью как-то соотнести классический принцип подражания с идеей «выражения чувства», находит удачное решение: музыка не изображает предмет, но выражает те чувства, которые зритель испытывает при виде предмета: это дает ей возможность изображать и «отсутствующие» предметы, воссоздавать, как это ни парадоксально, посредством движения образы покоя, и т. д. «Музыка рисует всё, даже невидимые предметы... , и величайшее чудо искусства, оперирующего лишь движением, состоит в его способности создавать и образ покоя (...). Пусть вся природа спит — тот, кто ее созерцает, бодрствует; и искусство музыканта состоит в том, чтобы заменить чувственно не воспринимаемый образ предмета образом тех движений, которые его присутствие вызывает в сердце созерцателя... Он [музыкант] не изображает непосредственно все эти вещи [волнение моря, пламя пожара и т. п. — А. М.], но вызывает в душе то же движение, которое мы ощущаем при их созерцании»625.
Это решение можно считать компромиссным: подражание не отвергается вполне, но трактуется как косвенное (воссоздается не сам предмет, но вызываемые им чувства). Предмет при таком косвенном изображении, разумеется, теряет в отчетливости — однако сама его неопределенность наделяется отныне особым достоинством, поскольку оказывается слитой воедино с субъективностью «созерцателя». Руссо, таким образом, удается ввести в эстетический оборот принцип выражения, не отказываясь полностью от принципа подражания.
Признание за «неопределенностью» эстетической ценности вело к апологии инструментальной музыки — к рождению идеи «абсолютной музыки» в том смысле, в каком о ней пишет Карл Дальхауз626. Движение к этому оправданию явственно прослеживается в заметках Томаса Туайнинга (сделанных на полях собственных писем к Чарлзу Верни в 1773-1774 и опубликованных К. Берри) — одного из интереснейших музыкальных мыслителей эпохи: «Те, кто говорят об инструментальной музыке, т. е о музыке как таковой, как о ничего не значащей (Платон в 1-й книге "Законов" , Руссо в статье "Соната") и ничего не выражающей, забывают, что если бы дело обстояло именно так, музыка не могла бы добавлять выразительности стиху. Если она не может двигать страсти отдельно [от стиха], то она не могла бы их двигать и совместно с ним. Если же она помогает [поэзии], то она должна обладать и своей собственной силой, которую она несет с собой. Доктор [Берни] рассуждая о латинских мотетах, в связи с тем, что слова в них по большей части неразличимы для слушателей, говорит, что смысл в них полностью отделен от звука. Если под смыслом он имеет в виду конкретные значения слов, то он прав; но ведь и музыка со словами не может выражать эти конкретные значения... ; единственное, что она может делать, — вызывать чувства или настроение, сходное с чувствами и настроение слов; но это она мо-жет делать и без слов — иначе как бы она могла это делать с ними» .
В этих и подобных им текстах рождаются три важные идеи. Первая состоит в том, что музыка — не подражательное искусство: ее цель — не подражать природе, но «вызывать» чувства. В английских текстах мы видим устойчивые выражения — to raise affections, или move the passions; оба, видимо, соответствуют функции классической риторики — movere. Противопоставление подражания и «вызывания» проведено довольно отчетливо; однако тождественно ли «вызывание» «выражению»? Соотношение этих двух категорий (первая из которых — традиционно-риторическая, вторая — новая) отчетливо не проведено: Шабанон то отрицает за музыкой способность «выражать», то говорит о ее «выразительности»; обе категории фигурируют у Туайнинга и, видимо, им не различаются. Можно, пожалуй, сказать, что из отказа от теории подражания и при посредничестве классической теории «движения (вызывания) страстей» здесь рождается новое представление о музыке как «выражении» чувств. О коллизии принципов «подражания — выражения», разворачивающейся в эпоху предромантизма на территории музыки, неоднократно писали исследователи. Вл. А. Луков в монографии о предромантизме особо останавливается на его музыкальной эстетике, отмечая наметившееся в ней противопоставление принципа выражения принципу подражания Еще раньше эту ситуацию описал Карл Дальхауз: «Мысль о том, что тоны являются "естественными знаками" чувств, — мысль, которая со времени Дюбо царила в музыкальной эстетике, способствовала переходу от принципа изображения к принципу выражения. Теория подражания, которая предписывала композитору роль рассудительного наблюдателя, К. Ф. Э. Бахом, Д. Шубар-том, Гердером и Гейнзе была отвергнута как ограниченная и тривиальная» Вторая идея состоит в том, что вызываемые (или уже выражаемые) чувства имеют особый характер, описываемый как «общность», «неясность», «мимолетность» и т. п. У Туайнинга мы находим замечательное определение музыки — suggestive, что весьма напоминает современный концепт «суггестивности». Прелесть музыки — в неясности вызываемых ею чувств: она не подражает, не рисует, но скорее намекает на нечто такое, что в полной мере не выражено и, по-видимому, не может быть выражено.
Музыкальное как «усиление» формы
В первой половине XX столетия литературоведческая трактовка музыкальности определялась верой в универсальность принципов формообразования, которые казались одинаковыми для музыки и литературы. Это убеждение конкретизировалось в многочисленных попытках литературоведов обнаружить в текстах те или иные музыкальные формы, от простых двух- и трех частных до сонатной и фуги.
При подобных попытках импортировать в текст музыкальную форму (или ее элементы) в тексте фактически усматривается дополнительная структурная мотивированность, «дополнительная логика» — логика музыкального развития. Так, для О. Вальцеля в стихотворении Гёте «На море» собственное смысловое развитие текста дополняется музыкальной логикой — «трехчастной песенной формой», которая образована тематической структурой стихотворения721. Импорт музыкальной формы в текст приводит к его формально-логической сверхмотивированности: помимо словесно-смысловой связности в нем появляется еще и связность музыкальная.
Эта музыкальная связность может усматриваться на разных уровнях текста. На нижнем уровне формально значимую конфигурацию (подобие музыкальной формы) могут образовывать звуковые (или звуко-смысловые) комплексы. Так, Джон Фетцер обнаруживает квази-музыкальные «партии» «сонатной формы» в звукосимволических комплексах текстов К. Брентано, причем носителями тематического начала оказывается звукосимволические комплексы — гласные звуки «а» и «ei», выполняющие, согласно Фетцеру, роль «основных тонов» (Grundtone) во всей поэзии Брентано. Комплекс «ei», соответствующий главной тональности и главной партии, выражает идею «индивидуации и изоляции» (einzeln, eigen — «отдельный, единичный», «собственный»), но в то же время и творческое начало (Meister); звук «а», соответствующий тональности доминанты и побочной партии, выражает «чувство дружбы, дух единения» (alle, das Ganze, verbanden — «все», «целое», «связанные»). Характерно, что Фетцер в своей работе подчеркивает крайнюю поверхностность музыкальных знаний Брентано и исключает возможность его знакомства с сонатной формой; иначе говоря, сонатная форма трактуется как общеэстетический принцип архитектоники, к которому художник приходит интуитивно
На более высоком уровне конфигурацию музыкальной формы образуют мотивы и темы словесного произведения (например, в статье Л. Фейнберга о сонатной форме в стихотворении Пушкина «К вельможе», где в роли главной и побочной партий выступают смысловые темы: главная партия — тема дома, жилища; побочная — тема его хозяина723). Как и Фетцер, Фейнберг абсолютно уверен, что никакими знаниями о сонатной форме Пушкин не обладал: «Я убежден, что Пушкин не имел определенного представления о сонатной форме»; следовательно, «сонатная форма могла проникнуть в поэзию Пушкина только как результат гениальной интуиции» Примерно тем же образом сонатная форма обнаруживается Н. Фортунатовым у Чехова , а контрастно-составная двухчастная форма открывается О. Соколовым в повести Н. В. Гоголя «Невский проспект»726.
Наконец, носителем музыкальной формы может служить система персонажей. Так обстоит дело в анализе персонажной структуры венской комедии у Ф. Трояна. Комедийный сюжет, в котором суровый "отец" противостоит интригам юной пары влюбленных и в конце концов сдается, понимается Трояном как полифоническая структура, характерная для фуги: непреклонный отец уподоблен неподвижному доминантовому органному пункту, на фоне которого разворачивается контрапунктическая игра верхних голосов, в финале бас наконец «поднимается к тонике» и диссонанс разрешается в пол ном кадансе727.
Об уязвимости такой интерпретации сонатности (как и других музыкальных форм) мы уже писали выше. Литературовед, как правило, видит в музыкальной форме некий идеальный, вневременной общеэстетический принцип, игнорируя ее историчность. Понимание того, что музыкальная форма не служит вечным «идеалом» для формы поэтической, но обе они развиваются, претерпевая сходные или различные трансформации, мы находим в немногих литературоведческих работах, среди которых можно отметить уже цитированную выше статью Эмиля Штайгера «Немецкий романтизм в поэзии и музыке» , в которой показано, как романтическое умонастроение сходным образом влияло и на музыкальную, и на поэтическую форму (см. с. 24).
Тезис о воспроизведении музыкальной формы в словесном произведении может быть выражен и в ослабленном, компромиссном виде: воспроизводится не музыкальная форма в ее конкретности, но те или иные приемы музыкального формообразования. Словно чувствуя некоторую наивность попыток прямой интерполяции музыкальных форм на словесное произведение, многие литературоведы предпочли компромиссный, непрямой путь обнаружения музыкальной оформленности текста. Ход их мысли можно в целом передать следующим образом: да, говорить о воссоздании литературными средствами сонаты, фуги и других музыкальных форм некорректно; но это не значит, что в литературе не действуют формообразующие приемы, подобные приемам музыкальным, — такие как контраст, повтор (точный или варьированный), нарастание и спад (крещендо и диминуэндо). Литература не воспро изводит в точности ту или иную музыкальную форму в ее конкретности, но благодаря общим приемам формообразования может воспроизводить некую общую линию музыкального произведения, для которого всегда ведь (или почти всегда) характерно наличие некоего нарастания, достижения кульминации и спада с последующим успокоением (кода). Итак, подобный подход понимает под музыкальным не конкретные формы, но нечто более отвлеченное — общую линию, «мелодико-синтаксическую фигуру» (Б. М. Эйхенбаум)729, типичную для музыкального произведения как такового.
Такое понимание развито в книге Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (1922), в которой под «мелодикой« понимается «развернутая система интонирования, с характерными явлениями интонационнои симметрии, повторности, нарастания, кадансирования и т. д.» — т. е. теми явлениями, которые можно признать общими для литературы и музыки приемами формообразования. Эйхенбаум не скрывает, что в конечном итоге нацелен на обнаружение в стихотворении примет музыкальной формы, что «интонация», о которой так много говорится в книге, интересует его совершенно не в том смысле, в каком ее понимают Бахтин или Асафьев (о чем еще пойдет речь ниже): Эйхенбаум акцентирует одну лишь «композиционную роль» интонации , видя в ней средство реализовать в поэзии некоторые принципы музыкальной формы; интонационный рисунок в «напевной лирике», преодолевая логико-синтаксическую структуру текста, образует цельную линию, с нарастаниями и спадами, репризами, кадансами и кодой, напоминающую линию музыкального развития. Эйхенбаум не без удовлетворения отмечает те случаи (впрочем, немногочисленные), когда сходство с музыкальной композицией становится особенно разительным: например, когда интонационный рисунок реализует «принцип троичности, так что средняя строфа служила переходом к повторному движению в последней (реприза)»732, или когда в тексте «получается нечто аналогичное закону восьми тактов для обыкновенной музыкальной мелодии»733 (т. е. осуществляется принцип «квадратного» музыкального периода); однако ни разу Эйхенбаум не позволяет себе прямой аналогии с конкретной музыкальной формой (если не считать простейших двух- и трехчастных песенных форм, общих для поэзии и музыки), проявляя корректность и уважение к собственно музыкальной специфике, которым иной исследователь мог бы только позавидовать.
Итак, интонация (возведенная до уровня «мелодики») понимается Эйхенбаумом как формообразующее средство, как бы заменяющее целый спектр приемов музыкального формообразования. Подобная абсолютизация интонации связана, вероятно, с влиянием «слуховой филологии» (основанной Э. Зиверсом в 1890-х гг.), которое Эйхенбаум, несомненно, на себе испытал.
Общая линия квази-музыкального развития может усматриваться не только на интонационном, но и на лексико-семантическом уровне. Пример тому — книга С. П. Шера «Словесная музыка в немецкой литературе» (1968), где исследователь на материале текстов Ваккенродера показывает, в частности, как сама морфология отобранных писателем слов может создавать эффект музыкальной динамической модели «крещендо-диминуэндо»: прилагательные в сравнительной степени создают эффект нарастания, глаголы с приставками zer- и ver- (имеющими семантику распада, растворения, исчезновения) передают нечто подобное музыкальному «затиханию», переходу к коде завершению734.