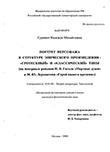Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Автор и герой в эстетическом событии 21
1.Бахтинская концепция эстетического события 22
2. Проблема «психологического повествования». Средства завершения героя в психологической прозе 31
3. Проблема «объективного» повествования 56
Глава вторая. Содержательность повествовательных форм в романном творчестве И.С. Тургенева и Г. Джеймса 64
1. Позиции субъекта повествования в романе «Дворянское гнездо». «Тайный» психологизм как основа тургеневской объективности 65
2. Позиции субъекта повествования в романе «Женский портрет». Метод «точки зрения» Проблема «драматизации» прозы Генри Джеймса 94
Глава третья. Сюжетно-композщионная организация романов «Дворянское гнездо» и «Женский портрет» 110
1. «Дворянское гнездо» и «Женский портрет»: системы персонажей 112
2. Лиза Калитина и Изабелла Арчер: «статические» характеристики образов 120
3. Динамика центральных образов романов «Дворянское гнездо» и «Женский портрет» 126
Глава четвёртая. Концепция личности в романах И.С.Тургенева и Г.Джеймса 131
1. Социально-нравственная проблематика в романах «Дворянское гнездо» и «Женский портрет» 137
2. «Я» и «другой» в художественной структуре двух романов и ценностные ориентиры авторов 157
Заключение 176
Список использованных источников и литературы 183
- Проблема «психологического повествования». Средства завершения героя в психологической прозе
- Позиции субъекта повествования в романе «Дворянское гнездо». «Тайный» психологизм как основа тургеневской объективности
- Лиза Калитина и Изабелла Арчер: «статические» характеристики образов
- «Я» и «другой» в художественной структуре двух романов и ценностные ориентиры авторов
Введение к работе
В диссертации анализируются принципы взаимодействия автора и героя в психологическом повествовании и отражение этих принципов в структуре произведения. Разработка проблемы «автор - герой», включающей в себя ряд сложных и, несмотря на активную разработку, по сей день далеко не исчерпанных философских, этических, эстетических и «технических» вопросов, служит пониманию наиболее фундаментальных аспектов эстетической позиции художника, связанных как с его пониманием личности, так и с общей духовной атмосферой эпохи - чем и обусловлена актуальность выбранной темы.
Исследование проведено в русле теории автора с преимущественной опорой на концепцию М.М.Бахтина, трактующую фигуры художника и героя как двух более или менее равноправных участников эстетического события, которые вступают между собой в сложные и многогранные отношения «я» и «другого». Эти отношения, предполагающие неотменимую оценку автором персонажа и его мира, оказываются наиболее проблематичными в произведении психологической прозы, где герой является субъектом не только собственного слова и поступка, но и напряжённой рефлексии и саморефлексии, носителем богатой и подчас противоречивой внутренней жизни. Душевное, или временное, целое такого персонажа требует от автора, с одной стороны, пристального внимания к мельчайшим психологическим деталям, с другой же -большого уважения и крайней осторожности, без которых эстетическая обработка границы мира героя обернётся бесцеремонным анатомированием сознания «другого».
Эта изначально неоднозначная ситуация в ещё большей степени осложняется в эпоху всеобщего духовного кризиса, наметившегося в европейской культуре уже в середине XIX века и неумолимо обостряющегося в последующие десятилетия: анализировать и упорядочивать чужие ценности становится тем труднее, чем сильнее расшатываются некогда незыблемые универсальные ценностные системы. Исходя из новых, чрезвычайно сложных и" противоречивых представлений о личности, писатели разрабатывают новые принципы отношения к персонажу, новые способы художественного завершения.
Объектом нашего исследования являются произведения психологической прозы И.С.Тургенева и Г.Джеймса как ярких представителей вышеназванного периода в истории литературы - периода непростого, однако чрезвычайно богатого творческими открытиями и не вполне ещё изученного. Художественные методы этих писателей часто характеризуются литературоведами как весьма близкие друг другу, однако, как показывает проделанный в диссертации сравнительный анализ, между поэтикой Тургенева и поэтикой Джеймса существуют принципиальные расхождения, которые могут рассматриваться как свидетельство того разнообразия путей и средств, которым располагало психологическое повествование второй половины XIX в. Предметом исследования стали формы завершения образа героя, отразившиеся в структуре рассматриваемых произведений и применяемые их
авторами в поисках решения проблемы аутентичности высказывания и свободы личности, в поисках новых оснований для этической и эстетической оценки окружающего мира.
Основным материалом исследования послужили роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» и роман Г.Джеймса «Женский портрет». По мере необходимости мы обращаемся к другим произведениям русского и англоамериканского классиков, а также к сочинениям их современников, что обеспечивает достаточно широкий контекст не только для анализа двух конкретных произведений, но и для определения некоторых общих особенностей эстетического события в психологической прозе второй половины девятнадцатого столетия.
Научная новизна диссертации обусловлена сравнительным исследованием художественной организации романов И.С.Тургенева и Г.Джеймса как отражения взаимоотношений «автор - герой», специфических для психологической прозы той эпохи. В ходе данного исследования удалось подробно рассмотреть два различных варианта завершения образа персонажа в ситуации общекультурного ценностного кризиса, а также последовательно опровергнуть бытующее представление о близости художественных методов русского и англо-американского романистов.
Цель работы - анализ используемых Г.Джеймсом и И.С.Тургеневым механизмов взаимоотношений автора и героя с последующим обнаружением на данной основе специфики художественной организации психологического романа и своеобразия концепции личности в творчестве каждого из двух писателей. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
-
анализ бахтинской концепции эстетического события, обеспечивающий цельную основу для категориального аппарата исследования;
-
сопоставление различных трактовок «психологического повествования» и рассмотрение ряда нарративных типологий с целью упорядочения системы терминов и понятий, необходимых при изучении специфических для психологической прозы способов завершения образа героя;
-
сравнение методов психологического повествования И.С.Тургенева и Г.Джеймса на основании сопоставительного анализа нарративной организации романов «Дворянское гнездо» и «Женский портрет»; сопоставление тургеневского и джеймсовского пониманий «объективности» в психологической разработке образа персонажа;
-
анализ особенностей завершения образа героя в романах «Дворянское гнездо» и «Женский портрет» на уровне хронотопа;
-
сравнение ценностных позиций двух авторов и используемых ими способов оценки героя;
-
анализ понятия «кризис авторства» в сопоставлении с понятиями кризиса общекультурной системы духовных ценностей и индивидуального творческого кризиса.
Методологическую основу диссертации составила теория автора, разработанная М.М. Бахтиным и его последователями (Н.Д.Тамарченко,
С.Н.Бройтманом и др.), в сочетании с компаративным методом исследования, позволяющим выявлять принципиальные особенности различных повествовательных позиций и форм завершения. В работе также используется системно-субъектный метод Б.О.Кормана, где, в отличие от бахтинской концепции, на первый план выдвигается не столько философско-эстетический. аспект проблемы автора, сколько непосредственный анализ словесной ткани художественного текста как отражения различных ценностных позиций и взглядов на мир, композиционно соотнесённых друг с другом и с авторским мировоззрением.
Теоретическая значимость работы заключается в рассмотрении ряда нарративных и сюжетно-композиционных форм, выявленных в психологической прозе И.С.Тургенева и Г.Джеймса, в их связи с проблемой завершения как итога взаимоотношений художника и героя, со спецификой авторской оценки изображённого мира, а также с явлением кризиса авторства. Полученные выводы могут быть использованы как при дальнейшей научной разработке вопросов об отношении «автор - герой» и об основных направлениях эволюции психологической прозы, так и в учебном процессе в рамках общих теоретико- и историко-литературных, а также специальных курсов, чем и определяется практическая ценность диссертации.
Основные положения, выносимые на защиту:
-
В нарративной структуре романа «Женский портрет» вычленимы три различные повествовательные позиции, две из которых (позиция человека, давно знакомого с персонажами и позиция синхронного наблюдателя) имеют приблизительные аналоги в структуре «Дворянского гнезда». Третья же из выявленных позиций (позиция, связанная с применением метода «точки зрения») принципиально неприемлема для тургеневского нарратора, поскольку предполагает частые прямые вторжения в сознание героя, между тем как в романе Тургенева повествование выстроено с опорой на «тайный психологизм», требующий от автора большой осторожности в обработке душевного целого персонажей и не позволяющий ему свободно пользоваться своим избытком видения.
-
Обоих романистов нередко называют художниками «объективными». При этом под объективностью Тургенева и объективностью Джеймса подразумеваются вовсе не тождественные друг другу стили повествования. «Объективность» автора «Женского портрета» основана на многогранном отображении действительности в различных субъективных ракурсах. Для Тургенева же истина несводима к совокупности личностных восприятий. Более того, в силу этических и эстетических взглядов русского классика, личностное восприятие «другого» представляется ему доступным лишь в ограниченной мере. Поэтому тургеневская «объективность» предполагает преимущественную опору на психологическое истолкование фактов, доступных внешнему наблюдению, при недопустимости прямого вторжения повествователя в сферу сознания - то есть при недопустимости того, что является неотъемлемой частью «объективного» повествования Джеймса.
-
В связи с применением в произведениях Г.Джеймса метода точки зрения нередко говорят не просто об объективности, но о сверхобъективности, или «драматизации», прозы англо-американского писателя как о «самораскрытии» сознаний персонажей при «невмешательстве» автора. Подобные утверждения представляются нам не вполне обоснованными. Во-первых, несмотря на свою способность занимать по отношению к персонажу внутреннюю точку зрения в плане психологии, нарратор в романе Джеймса вовсе не стремится стать невидимым и неслышимым. Во-вторых, даже если бы повествователь действительно производил впечатление предельно «безличного», данный эффект был бы весьма условным: по сути же своей активной созидательной и оценочной роли не утратил бы не только первичный автор (автор-творец), но и нарратор как его представитель (поскольку любая наррация непременно сопряжена с оценкой изображённого события - пусть даже максимально адогматичной и нигде не обозначенной эксплицитно).
-
В романе Тургенева ослабленность оценочной функции повествователя компенсируется косвенными формами выражения авторской позиции на уровне логики сюжетно-композиционного развития: анализ особенностей пространственного и временного развёртывания образа Лизы Калитиной позволяет достаточно уверенно судить об исповедуемых художником ценностях, в том числе этических и социальных. Между тем в романе «Женский портрет» авторский избыток видения, относительно свободно демонстрируемый на уровне временного целого персонажа, на ценностном уровне (уровне смыслового целого) проявляет себя, напротив, в гораздо меньшей степени, нежели в «Дворянском гнезде».
-
Неопределённость ценностных ориентиров автора в романе «Женский портрет» (где достаточно явно выражена лишь оценка изображённого мира с точки зрения художественного вкуса) позволяет говорить о причастности произведения феномену «кризиса авторства», определяемому М.М.Бахтиным как расшатывание смысловой вненаходимости художника персонажу, отсутствие уверенности и сбалансированности позиции первого. В случае Г.Джеймса данное явление, бесспорно, связано с духовной атмосферой рубежа веков, которую писатель улавливал уже в конце 1870-х годов.
Апробация результатов исследования осуществлялась на аспирантских семинарах и заседаниях кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета, а также на международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2010» (МГУ им. Ломоносова, 2010), на всероссийской конференции молодых учёных «Филология и журналистика в начале XXI века» (Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, 2010), на XL Международной филологической конференции (Санкт-Петербургский государственный университет, 2011) и VI Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы современного социально-экономического развития» (Международный институт рынка, 2011).
Структура работы определяется поставленными целью и задачами. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и библиографического списка, включающего 215 наименований на русском и английском языках. Общий объем работы - 198 страниц.
Проблема «психологического повествования». Средства завершения героя в психологической прозе
Как отмечалось в предыдущем разделе данной главы, эстетическое событие в концепции М.М.Бахтина предполагает непременное участие двух относительно автономных субъектов; автора и героя, - взаимоотношения между которыми представляют собой напряжённый диалог, состоящий из нескольких актов (борьбы, сближения, расхождения). Сперва автор, преодолевая естественное сопротивление «жизненного материала», вчувствуется в героя как в «другого» и смотрит на мир с его позиции, но делает это с тем, чтобы потом вернуться на своё место, то есть обрести вненаходимость персонажу, и восполнить его кругозор собственным «избытком видения». Только в таком случае можно говорить о художественном завершении автором целостного образа героя.
Завершение - одна из важнейших категорий бахтинской эстетики, имеющая, как отмечает Н.Д.Тамарченко, глубокие исторические корни: говоря об истоках данного понятия, исследователь называет учение Аристотеля о катарсисе, теоретические работы Шиллера и Гёте, а также «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше, статьи Вяч. Иванова и религиозно-философское учение Е.Н.Трубецкого. Художественное завершение, по Бахтину, - это не завершённость произведения как полнота текста, но «"перевод” содержания (жизни героя и её ценностей) в ценностный план эстетического, ...создание смысловой границы между... миром героя, с одной стороны, и миром автора и читателя, с другой» .
В труде «Автор и герой в эстетической деятельности» М.М.Бахтин анализирует различные разновидности художественного завершения на примере автобиографии, лирики, характера и типа как форм взаимоотношений художника и персонажа, которые отличаются друг от друга устойчивостью вненаходимости первого и степенью активности последнего. При этом учёный отмечает, что любая из этих форм крайне редко встречается «в чистом виде». Действительно, даже те типы завершения, которых коснулся Бахтин в «Авторе и герое», бытуют, по нашим наблюдениям, в огромном количестве вариаций, возможности комбинирования которых поистине неисчерпаемы, в связи с чем построение сколько-нибудь подробной и одновременно исчерпывающей классификации разновидностей художественного завершения едва ли, на наш взгляд, возможно - во всяком случае, в рамках данной работы. Проблема поиска оптимального завершения образа героя, будучи отнюдь не сводимой к области техники письма, представляет собой, по нашему убеждению, нечто гораздо более сложное, чем просто вопрос выбора из нескольких (или даже многих) вариантов. Теснейшим образом взаимосвязанная с построением художественной и философской концепции личности, данная проблема решается заново каждой эпохой, каждым направлением, каждым литературным жанром и в конечном счёте каждым в достаточной степени зрелым и самостоятельным художником. Причём особую сложность она являет собой для представителей психологической прозы.
Прежде чем непосредственно перейти к вопросу о специфике художественного завершения в психологическом повествовании, необходимо, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о содержании самих понятий «психологическое повествование», «психологизм» - во избежание неясности и неточностей, связанных с неоднозначностью их трактовок в литературно-критических и собственно литературоведческих работах последних десятилетий.
В своей записной книжке Ф.М.Достоевский так определяет особенности своего творческого метода: «Меня зовут психологом; не правда...» На первый взгляд эти слова могут показаться неожиданными в устах писателя, которого сегодня литературоведы самых разных теоретических воззрений безоговорочно признают колоссом мировой психологической прозы. Однако читая дальше, мы понимаем, что создатель полифонического романа вовсе не отрицает своего стремления «изображать все глубины души человеческой»70, но лишь критикует механистическую психологию (в особенности физиологического толка), которая «лезет в душу» бесцеремонно, проявляя себя в научной и художественной литературе, а также в судебной практике второй половины XIX века.
Приведённая цитата очень красноречиво, на наш взгляд, свидетельствует о том, что слова «психологическое повествование», «психологическая проза», «психологический анализ», «психологизм» получили статус литературоведческих терминов лишь спустя много десятилетий (а может быть, и не один век), после того как художники слова стали проявлять пристальное внимание к внутреннему миру личности и даже разработали для его изображения весьма совершенные средства. Бесспорно, литературная критика позапрошлого столетия восхищалась мастерством, которого достигали в исследовании человеческих душ Пушкин, Лермонтов, Стендаль, Бальзак, Флобер, Тургенев, Гончаров, Толстой и Достоевский, а также ценила тот богатейший опыт, что был накоплен писателями предшествующих веков. Тем не менее, собственно теоретическое освоение категории психологизма началось лишь в конце 1950-х - начале 1960-х годов. На протяжении нескольких последующих лет в посвящённой данной проблеме исследовательской литературе наблюдались бесчисленные случаи многозначности слова «психологизм», нередко различные значения этого термина смешивались. Постепенно ситуация прояснилась, выделились отдельные вполне чёткие тенденции, однако говорить о полном единодушии литературоведов в том, какое же повествование считать психологическим, до сих пор, на наш взгляд, не вполне правомерно.
Наиболее широкое толкование понятия психологического повествования мы находим в работе Л.Я.Гинзбург, где «познание душевной жизни»71 наблюдается не только на материале художественной литературы, но и на материале литературы мемуарной и документальной. Основополагающим критерием «психологичности» текста исследователь объявляет присутствие в нём образа личности, характеризующегося тем или иным уровнем структурности и непременным наличием эстетического элемента. При этом отмечается, что даже житейские характеры как представления о себе и других, созидаемые каждым человеком в быту, уже несут в себе и определённую структуру, и момент эстетической оценки (ведь «эстетический критерий сопровождает человека от первых уроков бытовых приличий («есть руками некрасиво») до вырабатываемого эпохой высшего идеала личности»72). На данном основании исследователь ставит роман и повесть в один ряд с мемуарами, биографиями, письмами и дневниками, подчёркивая, что психологический роман является наиболее организованной, наиболее эстетически структурированной формой в данном ряду и от исполненного психологических признаний письма его отделяет огромное расстояние.
А.Б.Есин, в противовес данной трактовке, настаивает на предпочтительности узкого понимания слова «психологизм», отмечая, что, создавая литературный характер, писатель может сосредоточивать своё внимание на самых разнообразных проявлениях личности, но мастерство писателя-психолога всегда направлено непосредственно на внутренний мир героя, на «достаточно полное, подробное и глубокое изображение чувств, мыслей и переживаний... литературного персонажа с помощью специфических средств художественной литературы»73.
Данное толкование рассматриваемого термина необходимо отличать от других узких трактовок - в частности, от точки зрения, согласно которой психологизм есть понимание характера как «живой целостности», многогранной и не чуждой внутренних противоречий. А.Б.Есин справедливо отмечает, что психологически в его понимании (то есть через особенности мыслей и переживаний) вполне можно изображать «личность, которой владеет “одна, но пламенная страсть”, как изображены герои баллад Жуковского, Гёте и Шиллера..., и наоборот - вполне “живые”, не однолинейные индивидуальности могут создаваться без применения психологического изображения, как, например, Пугачёв в “Капитанской дочке"»74.
Очевидно и то, что писатель-психолог не обязан изображать внутренний мир героя непременно в соответствии с закономерностями, установленными психологией как наукой и не следует допускать смешения понятий «психологизм» и «психологическая достоверность». (Предостережение о том, что в литературном произведении могут быть свои психологические законы «и им бесполезно искать точные соответствия в учебниках психологии или учебниках психиатрии»75, можно найти, в частности, у Д.С.Лихачёва: «Одна психология свойственна героям Гончарова, другая — действующим лицам Пруста; ...психология исторических персонажей Карамзина или романтических героев Лермонтова — также особая»76.)
Психологизм же в широком смысле, то есть отображение душевной жизни человека, есть, бесспорно, неотъемлемое свойство искусства вообще, и, наполняя рассматриваемый термин таким содержанием, мы лишаемся возможности сравнивать психологизм в узком смысле слова с непсихологической манерой письма.
Позиции субъекта повествования в романе «Дворянское гнездо». «Тайный» психологизм как основа тургеневской объективности
Подробнейший анализ статуса и возможных позиций повествователя (по отношению к персонажу и по отношению к читателю) в романах И.С.Тургенева представлен в работах В.М.Марковича.
По мнению исследователя, субъект повествования в тургеневских произведениях большого эпического жанра, в том числе и в «Дворянском гнезде», занимает внесюжетное положение: он не участник и не очевидец событий, он не сообщает о себе никаких биографических сведений, его психологический облик может проявляться лишь в содержании и складе его речи, которая в определённые моменты получает эмоциональную окраску -элегическую, патетическую или ироническую, - однако даже в подобных случаях чувства повествователя слишком универсальны, чтобы создать представление о какой-либо определённой личности: «перед нами образ, лишённый конкретных индивидуальных очертаний и совершенно не нуждающийся в них»137. Субъект повествования «открыто рекомендуется писателем и многократно обозначает своё “авторское” положение через различного рода обращения к читателю»138, например: «Читатель знает (здесь и далее курсив наш. - М.Н.), как вырос и развивался Лаврецкий; скажем несколько слов о воспитании Лизы» (с. 107) .
Элементы подобного рода встречаются и в речи повествователя «Женского портрета» («те, о ком пойдёт здесь речь» (с. 5)140, «трудно подобрать другие слова, чтобб...»1.( с.. 17)), причём он не отдаёт явного предпочтения безличным формам, нередко говоря о себе в первом лице («история, которую я собираюсь здесь рассказать»142 (с.5), «...картины, которую я попытался здесь набросать143» (там же) и т.д.).
Как отмечает В.М.Маркович, внесюжетное положение, занимаемое повествователем в романах Тургенева, делает для него допустимой любую позицию: от всеведения до регистрации только видимого и осязаемого в данный момент, - а также чередование различных позиций.
По замечанию исследователя, в начальной стадии рассказа о персонаже, при первом знакомстве читателя с ним, даётся, как правило, его обобщённая характеристика. Это чаще всего детализированный портрет, охватывающий все стороны внешности героя (вплоть до его костюма, жестов, манеры двигаться), обозначающий его социальный статус, подчёркивающий внутренние качества, которые будут постепенно раскрываться в процессе развития сюжета. Именно так построены, к примеру, портреты Марьи Дмитриевны Калитиной, Лемма, Паншина в «Дворянском гнезде». Характеризуя Паншина, в частности, повествователь сообщает не только о том, как выглядел Владимир Николаич и как держался, сколько ему было лет и какого он был чина, но и о его родителях, о полученном им образовании, о том, в каком возрасте он постиг «тайну светской науки», на каких иностранных языках говорил, умел ли петь, рисовать и писать стихи, а также о том, что, несмотря на приятое и вольное обхождение, «в душе он был холоден и хитр, и во время самого буйного кутежа его умный карий глазок всё караулил и высматривал» (с. 15). Портрет в духе «статической физиогномики»144 может дополняться чертами динамичности в описании мимики, движений героя: тогда кажется, будто «остановившийся кадр киноленты приходит в движение»145 (о кинематографичности тургеневской прозы писал также А.Батюто, отметивший молниеносное чередование сцен и полных значения зияний между ними). Как бы то ни было, персонаж появляется на страницах романа с уже сложившимися, устойчивыми чертами, и введение обобщенной характеристики, как правило, означает для повествователя возможность наиболее свободного и глубокого проникновения в коренные основы психологии героя.
Портреты персонажей в произведении Генри Джеймса не всегда столь же исчерпывающи, но сходны с тургеневскими по набору сообщаемых сведений (возраст, внешность, привычки, одежда, положение в обществе и т.д.). Так же как и тургеневский повествователь, субъект повествования в романе Джеймса не ограничивается протокольной регистрацией черт, заметных любому стороннему наблюдателю, и сообщает читателю, например, о способности мистера Тачита разбираться в людях или о скрытой отзывчивости натуры миссис Тачит.
В романах обоих авторов отдельные слагаемые характеристики могут даваться вместе или разделяться интервалами, причём второй случай наиболее характерен для центральных персонажей (Лиза, Лаврецкий, Изабелла).
Одним из главных законов, действующих в художественной системе Тургенева, является, с точки зрения В.М.Марковича, закон «взаимообуздания противоположностей», согласно которому, в частности, за статическим описанием героя, стремящимся свести его образ к некоей типологической модели, непременно следует динамическое развитие характера в его индивидуально-конкретных проявлениях - в ходе диалогических сцен и повествовательного рассказа.
По наблюдениям В.М.Марковича, повествовательный рассказ у Тургенева в большинстве случаев представляет собой поле для достаточно прямого, не предварённого какими-либо оправдательными ссылками проникновения в мысли и чувства персонажей. В диалогических же сценах прямой психологический анализ применяется крайне ограниченно, и повествователю требуются особые условия для того, чтобы заговорить о явлениях, недоступных внешнему наблюдению.
В «Женском портрете», как и в «Дворянском гнезде», повествовательный рассказ позволяет субъекту повествования чаще и свободнее «приоткрывать» внутренний мир героя. Однако и в диалогах позиция стороннего наблюдателя выдерживается нестрого: например, для освещения того, что пронеслось в сознании одного из участников сцены, но осталось невысказанным, достаточно часто используется несобственно прямая речь:
«“А я и не думаю вас утешать!” - ответила она и, внешне невозмутимая, не без торжества мысленно вернулась к тому дню, полгода назад, когда её ответ так сильно задел его. Да, пусть он подкупающе мил, влиятелен, полон рыцарских чувств, пусть лучше его никого не сыскать, но ответ ему остаётся прежним» (0.236)146. (В данном отрывке элемент несобственно прямой речи предваряется, к тому же, прямым проникновением в воспоминания Изабеллы в форме комментария от лица повествователя.)
В обоих рассматриваемых романах встречаются «диалогические сцены, по существу переставшие быть диалогическими и превратившиеся в повествовательный рассказ»147. Реплики в них воспроизводятся выборочно, и повествователь легко переходит от ощущений одного персонажа к ощущениям другого. Особенно активно такие сцены используются Генри Джеймсом: так, в частности, освещается первая встреча Изабеллы и Озмонда в гостиной мадам Мерль.
Кроме того, и у Тургенева, и в «Женском портрете» можно найти примеры специфической формы повествовательного рассказа, которую В.М.Маркович называет рассказом-обзором. Это характеристика событий или / и душевных состояний героев внутри длительного (долгосрочный обзор) или короткого (краткосрочный обзор) отрезка времени. В подобных повествовательных отрезках прямой психологизм нередко оказывается более непринуждённым, чем во всех прочих разновидностях динамической характеристики.
В.М.Маркович подчёркивает, что в романах Тургенева смена вышеперечисленных позиций повествователя связана с изменением отсчёта повествовательного времени и воспринимается как совершенно естественная, не требующая специальных мотивировок. В диалогической сцене субъект повествования сталкивается с конкретной сиюминутной ситуацией и потому имеет право только констатировать видимое и угадывать, что за ним кроется. В повествовательном рассказе, особенно рассказе-обзоре, он может говорить тоном человека, успевшего post factum во всём разобраться, и делать, соответственно, более далеко идущие выводы. Обобщённая характеристика, своеобразное «выключение» времени действия, позволяет повествователю рассказывать о персонаже на правах человека, давно с ним знакомого, наблюдавшего его на протяжении всей его жизни. Как отмечает исследователь, «в этом соотношении установок обнаруживается логика обычного житейского восприятия человека человеком, ...и позиции, которые на первый взгляд выглядят различными, по существу оказываются лишь естественными модификациями одной и той же позиции»148: позиции единичной личности, способной понять другую единичную личность в пределах обычных для данной ситуации возможностей.
Лиза Калитина и Изабелла Арчер: «статические» характеристики образов
Как известно, в своих статьях о Тургеневе Генри Джеймс неизменно восхищался героинями тургеневских повестей и романов: «...Они, благодаря нравственной своей красоте и тончайшему устройству души, составляют одну из самых замечательных групп среди женских образов, созданных современной литературой. Они - героини в прямом смысле слова, притом героизм их неприметен и чужд всякой рисовки. ... Написанные тончайшими и нежнейшими мазками, они исполнены подлинной жизни.. .»284 Вероятно, именно подобные высказывания англоязычного писателя заставили многих исследователей (таких как Д.Лернер, А.А.Елистратова, М.А.Шерешевская и др.) искать сходство между образом Изабеллы Арчер и образами тургеневских женщин. Однако нам это сходство представляется не столь очевидным.
Несомненно, Изабелла - так же как героини Тургенева, в том числе как Лиза Калитина, - умна, обладает приятной запоминающейся внешностью (хоть и не числится среди первых светских красавиц), порядочна, в определённой степени равнодушна к материальным благам (ещё будучи бесприданницей, она отказала двум весьма обеспеченным женихам). Но к этому набору очень общих характеристик и сводится, на наш взгляд, общность между Изабеллой и Лизой. Черты различия между центральными образами «Женского портрета» и «Дворянского гнезда» гораздо более многочисленны.
Изабелла, по определению самого Джеймса, «обыкновенная девушка», «а neutral girl»285. Над окружающими её возвышают не испытанные ею сильные и глубокие чувства, не исключительный итог её нравственного поиска, но лишь замысел автора (что иллюстрирует бахтинский тезис, согласно которому отношение автора к герою не определяется только лишь жизненной позицией последнего и потому сравнимо с немотивированной любовью (см. 1, гл. 1)). В отличие от Изабеллы, Лиза Калитина - выдающаяся личность, обладающая всеми характеристиками, свойственными главным героям произведений Тургенева (см. предыдущий параграф данной главы).
Одно из основных качеств (помимо уже названных), отличающих тургеневских девушек, - это «особый характер переживаемой ими любви, те высочайшие требования, которые они предъявляют к возлюбленному»286. Любовь для Лизы - не только путь к личному счастью, но и выражение её нравственных исканий; чувство к мужчине зарождается в ней на почве общих с ним духовных устремлений: она мечтает рука об руку с ним «идти вперёд к прекрасной цели» (с.96). Не случайно, Лемм уверен: Лиза не выйдет замуж за Паншина. Она так прекрасна, что и любить может только прекрасное, её «ум и сердце с безошибочностью инстинкта отвергают всё недоброе, корыстное, пошло-прозаическое и бескрылое»287. Будь она на месте героини «Женского портрета», она не полюбила бы Озмонда, все достоинства которого сводятся к обладанию «безупречным вкусом». От неё не ускользнули бы эгоизм и холодность этого человека, как ускользнули они от Изабеллы.
Тургеневские девушки не были бы теми, кто они есть, если бы предъявляли свои высокие требования только к окружающим, но не к самим себе. Как отмечает В.М.Маркович, герои Тургенева часто прощают другим их слабости, но себе они не прощают ничего. В этом отношении показателен уход Лизы в монастырь: казалось бы, если она и Лаврецкий в чем-то и виноваты, то виноваты в равной степени, значит, и искупление должно быть равным. Но от своего возлюбленного героиня «Дворянского гнезда» требует смириться и связать свою судьбу с человеком, которого послал Бог, в то время как за свой грех она добровольно расплачивается отречением от всего земного.
Изабелла же, как и большинство «простых смертных», иногда бывает склонна винить других в собственных ошибках. Узнав о том, что её брак был спланирован мадам Мерль, она приходит в негодование. Однако, если задуматься, так ли ужасно «злодеяние», совершённое лжеподругой главной героини? Да, она хотела обеспечить свою дочь приданым. Но в те годы это было свойственно многим родителям, в том числе и лучшим, чем мадам Мерль. К тому же, она не прибегала ни к шантажу, ни к угрозам, чтобы заставить Изабеллу выйти замуж за Озмонда. Она лишь познакомила с ним её - взрослую, способную самостоятельно мыслить девушку. Мисс Арчер видела своего будущего мужа и слышала мнение о нём своих тётки и кузена. Если ничто её не остановило, стоит ли винить в этом мадам Мерль? Что ещё менее лестно характеризует героиню Джеймса, она позволила обиде за неудачный брак настолько завладеть собой, что не сдержала её даже у постели умирающего Ральфа. Он, подаривший ей те деньги, которые оказались приманкой для Озмонда, воспринял её жалобы как свидетельство того, что именно он сделал её несчастной. Последние минуты его жизни были омрачены.
Качеством, объединяющим Лизу и Изабеллу, может показаться свойственная им обеим независимость. О независимости Изабеллы читателю сообщается ещё до её появления на страницах романа, в телеграмме, присланной миссис Тачит в Гарденкорт. Независимость, как уже упоминалось, в огромной степени присуща и главным героям произведений Тургенева. Но одинаково ли понимается это качество в «Женском портрете» и в «Дворянском гнезде»?
Для Изабеллы, какой она появляется в начале романа, независимость - это прежде всего свобода выбора. «Я хочу знать, чего здесь делать не следует», -говорит она своей тётке, упрекнувшей её в нарушении приличий. «Чтобы именно это и сделать?» - спрашивает миссис Тачит. «Нет, чтобы иметь возможность выбирать»288 (с. 54). Юная американка «не привержена условностям», чем явно гордится. Она «дорожит своей свободой» и сообщает об этом Ральфу в первые же минуты их знакомства. Её свобода представляется ей неограниченной, но автор смотрит на вещи иначе: по замыслу Джеймса, «в том, что Изабелла бедна, уже заключён факт несвoбoды»289. (Финансовое благополучие - «необходимое условие существования персонажей Генри Джеймса»290; в мире, где они живут, «независимость невозможна без материального благосостояния»291.)
Однако и деньги не делают героиню свободной. Свободной может сделать себя только она сама, но для этого ей нужно прийти к правильному пониманию свободы. Как отмечают многие исследователи, свобода в представлении Джеймса - это сознательное следование объективным закономерностям (в этой связи вспоминается хрестоматийная формулировка свободы как осознанной необходимости, выдвинутая Энгельсом вслед за Спинозой и Гегелем). Как поступить, если действительность противоречит индивидуальной воле? «Привести свою внутреннюю жизнь в соответствие с конкретными формами бытия»292 - вероятно, именно к этому выводу приходит Изабелла, возвращаясь из Гарденкорта в Рим.
Тургеневым и его героями свобода воспринимается совершенно иначе. Это абсолютная свобода духа, выражающаяся в полной независимости от каких-либо внешних обстоятельств, будь то финансовое положение или норма общественной морали. Как пишет Д.Н.Овсянико-Куликовский, любимым персонажам Тургенева свойственна «идейность», но этой идейности чужды «шаблон и дoктpинёрствo»293. Тургеневский герой ни при каких обстоятельствах не утрачивает своей «активной и в значительной мере творческой роли»294 в отношении принципов, которыми руководствуется. Ничто не может навязать ему готового решения.
Решение же, принятое Изабеллой в финале «Женского портрета», вряд ли можно назвать свободным в том смысле, какой вкладывает в это слово Тургенев, хотя оно свободно в джеймсовском понимании. Миссис Озмонд в полной мере познала объективную реальность и следует её законам. Для неё теперь очень важно, что «прилично», а что нет. («Останусь, пока это будет прилично»295 (с. 469), - так, к недоумению умирающего Ральфа, она отвечает на его призыв остаться в Гарденкорте.) И, возвращаясь в Рим вместо того, чтобы поехать за Каспаром Гудвудом, она, бесспорно, поступает «прилично». Но с тургеневской точки зрения, это не решение, а уход от решения: Изабелла не выдержала испытания любовью (участь, которая в произведениях Тургенева чаще всего постигает героев-мужчин).
Комментируя финал «Женского портрета», Джозеф Френд говорит о том, что миссис Озмонд не Эмма Бовари и не Анна Каренина: она скорее напоминает Анну Сергеевну Одинцову, в том смысле, что её натуре недостаёт страстности. Сравнение Изабеллы с Одинцовой представляется нам более удачным, чем сравнение её с Лизой, хотя дело, на наш взгляд, не столько в страстности (Лиза тоже сдержанна в своей любви к Лаврецкому), сколько в том, что героиня «Женского портрета», как и героиня «Отцов и детей», слишком дорожит своим покоем, чтобы позволить сильному чувству нарушить его.
«Я» и «другой» в художественной структуре двух романов и ценностные ориентиры авторов
В предыдущих разделах нашей работы мы проанализировали романы «Женский портрет» и «Дворянское гнездо» с точки зрения специфики художественного завершения образа центрального персонажа на различных уровнях, ценностной направленности авторской позиции и соотношения элементов в структуре авторской оценки изображённого мира. На основании всего сказанного выше, можно, на наш взгляд, отметить, что если, завершая временное целое героя, автор «Женского портрета» гораздо более свободно, чем автор «Дворянского гнезда», пользуется своим избытком видения (позволяя себе прямые, ничем специально не мотивированные проникновения в глубины сознания Изабеллы - см. гл. 2), то на ценностном уровне, уровне смыслового целого, его избыток видения, напротив, проявляет себя в меньшей степени. В то время как в тургеневском романе (пусть не прямо, а косвенно) достаточно ясно выражены не только представления автора о прекрасном, но и его этические и даже общественные идеалы (нравственная неуспокоенность личности, социальная справедливость, духовное единение людей на почве подлинно народных представлений о добре), в романе «Женский портрет» авторская этическая позиция представляется нам неопределённой, общественные идеалы автора практически не выражены (поскольку социальная проблематика не играет в произведении существенной роли), и лишь эстетическая составляющая авторской оценки обозначена достаточно явно.
Не исключено, что именно с данной особенностью художественного завершения в романе Генри Джеймса связано то, что и простые читатели, и исследователи, и коллеги принимали и продолжают принимать прозу англоамериканского писателя весьма неоднозначно. Наряду с восторженными отзывами о творчестве Джеймса встречаются не совсем хвалебные (и даже совсем не хвалебные), принадлежащие, в частности, Марку Твену, Джеку Лондону, Владимиру Набокову.
Выше (см. 1 данной главы) мы упоминали о том, что нередко автора «Женского портрета» упрекают в недостаточном богатстве содержания, в ограничении изображённого мира слишком узкими рамками («Всё это рассказы ни о чём»377, - пишет Герберт Уэллс в главе «Об искусстве, о литературе, о мистере Генри Джеймсе» пародийного романа «Бун»; о «тощих мотивах» 78 прозы Джеймса говорит и Оскар Уайльд; с дамским рукодельем сравнивает её Скотт Фицджеральд), иногда добавляя, что винить в этом приходится не столько его самого, сколько бледность и бездуховность современного ему мира (ему всего лишь «не удалось интересно написать о неинтересном» ).
Не менее часто можно встретить утверждения о вялости и излишней усложнённости стиля англоязычного писателя: философ Уильям Джеймс, к примеру, сетует на «туман», «заплесневелый сюжет», «пикировку в диалогах» и «психологические разъяснения»380, утомляющие его в произведениях брата. Противореча Г.Л.Селитриной, утверждающей, что Генри Джеймсу присущи лаконизм и умение отбирать, что «в мастерстве стилиста он не видел самодовлеющей ценности»381, Д.М.Урнов говорит, используя образ, принадлежащий самому писателю, что «под грузом сложной оснастки его корабль идёт ко дну»382. Герберт Уэллс и вовсе сравнивает Джеймса с тяжеловесным гиппопотамом, который выбивается из сил, пытаясь достать горошину, закатившуюся в дальний угол его логова. Гак же, как и Уэллс, пеняя автору «Женского портрета» на излишнее внимание к техническим тонкостям, Ч.П.Сноу называет неудачной ту главу (сам Джеймс считал её лучшей в романе), где Изабелла, сидя поздней ночью в гостиной палаццо Рокканера, размышляет о своём замужестве. Скованной, тяжеловатой, показалась Сноу и сцена последнего объяснения между Изабеллой и Гудвудом. М.Каули и вовсе пишет о противоестественности языка Джеймса (особенно в поздних произведениях), указывая на «бесконечные предложения, густо усеянные запятыми» , на инверсии, кажущиеся инородными в английском тексте, и построенные по немецкой модели рамочные конструкции.
Иной раз критики и литературоведы говорят о том, что, даже когда в произведениях Генри Джеймса всего в меру и всё вроде бы выверено, «“точные слова” и “настоящие фразы”, тщательно выстроенная авторская “точка зрения” не создают почему-то доступной читательскому восприятию картины, детально описанные персонажи не оживают, искусно построенный сюжет... не увлекает»384. Джеймса часто сравнивают с Сальери, для которого теоретизирование фактически «подменяло творчество»385, добавляя, однако, что Моцарта рядом с ним не было и, несмотря ни на что, его книги в числе лучших из тех, что были написаны на английском языке на рубеже веков, а его идеи, пусть и не до конца им самим воплощённые, стали реальной творческой практикой для писателей следующих поколений.
Многие из приведённых выше критических высказываний в адрес Генри Джеймса представляются нам незаслуженно резкими. Однако трудно, на наш взгляд, не согласиться с тем, что «Женскому портрету», хоть его читатель и получает несомненное эстетическое удовольствие, действительно немного недостаёт той гармонической завершённости, лёгкости и естественности, которая так восхищала М.Е.Салтыкова-Щедрина в прозе Тургенева 386. Это наше впечатление от произведения Джеймса, конечно же, субъективно, однако, вероятно, оно всё же имеет некоторые реальные основания в структуре романа - как на уровне художественного текста, так и на уровне эстетического события.
Одним из таких оснований может быть отмеченный Т.Л.Селитриной оттенок заданности в сюжете «Женского портрета». Тот момент, где Ральф делает Изабеллу наследницей большого состояния, тем самым, по замыслу автора, освобождая её от бремени повседневных житейских забот, сравнивается исследователем с приёмом deus ex machina. Сходную мысль высказывает и Дж.Френд, сравнивающий (правда, не вкладывая в это сравнение отрицательного смысла) саму Изабеллу со сказочной красавицей, Ральфа - с прекрасным принцем, а миссис Тачит, которая появляется в тёмной комнатке старого дома в Олбани и, как по мановению волшебной палочки, переносит героиню в новый для неё большой мир, - с феей-крёстной.
Случайность играет немаловажную роль и в романе Тургенева. Так, досадной прихотью случая может показаться внезапное возвращение Варвары Павловны, разрушающее счастье Лизы и Лаврецкого. Но если в «Женском портрете» случайность сопоставима, на наш взгляд, с «инициативной случайностью греческого авантюрного времени»387 (которая базируется на человеческих ошибках, колебаниях и выборе) или с чудесной и неожиданной случайностью рыцарского романа, то тургеневская случайность всё-таки иного рода: при ближайшем рассмотрении она не воспринимается как нечто удивительное и внезапное, поскольку подготавливается и мотивируется соответствующим развёртыванием всех уровней художественного целого, всех уровней авторской оценки. По наблюдениям таких исследователей как А.И.Батюто, В.М.Маркович и В.А.Свительский, через эту случайность явно просвечивает «бытийная необходимость» , закономерность, даже закон, согласно которому «счастье зависит не от нас» (с. 140). С помощью такого рода случайностей судьба, которая помогает обретать счастье героям «золотой середины» (см. гл. 3, 1), заставляет главных героев сойти с не им предназначенного пути и отказаться от счастья во имя долга.
Налёт определённой неорганичности роману «Женский портрет» могут также придавать некоторые особенности образа Изабеллы Арчер. Как отмечалось в предыдущем параграфе нашей работы, в характере героини Джеймса (вернее, в повествовательном и сюжетно-композиционном развёртывании её характера) нельзя не заметить небольших противоречий. К отмеченному ранее можно, в частности, добавить, что, как следует из предыстории молодой американки, живя в Олбани, она предпочитала надолго уединяться для чтения в маленькой комнате за библиотекой. Ведущая на улицу дверь этой комнаты была закрыта на засов, а смотровое окошко - заклеено бумагой, и Изабелла «ни разу не пыталась отодвинуть засовы и открыть входную дверь или убрать бумагу с окна ...; у неё не было охоты удостовериться, что за ними обычная улица»389 (с. 20), «ей не хотелось выглядывать наружу»390 (там же). Однако всего несколькими страницами далее сообщается нечто противоположное: «ею владела неутолимая жажда знаний, но утолять её она предпочитала не с помощью книг, а из любых других источников; ею владел огромный интерес к жизни, и она не переставала зорко всматриваться в неё...»391 (с 27-28)