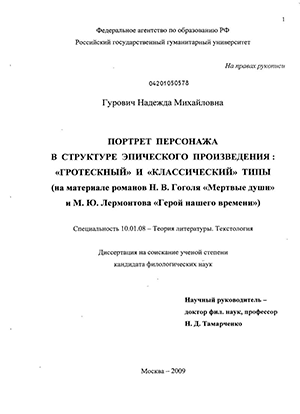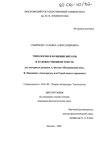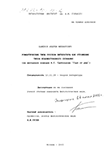Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Форма портрета в литературном произведении. Ее специфика, границы и критерии выделения 6
1. Визуальный образ-знак в литературном и живописном произведении. Проблема изображения облика персонажа в двух видах искусств 7
2. «Портрет» как искусствоведческое и литературоведческое понятие 12
3. Типы портретов в развитии словесного искусства. Гротескная и «классическая» формы образности 27
Глава 2. Форма портрета в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 40
1. Система портретов в «Герое нашего времени» 42
2. Литературные отсылки в портретах в «Герое нашего времени» 64
3. Классический тип портрета в романе 75
Глава 3. Форма портрета в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 86
1. Система портретов в «Мертвых душах»: формы описания и их функции 89
2. «Гротескный параллелизм» как один из признаков гротескного портрета 149
Заключение 162
- «Портрет» как искусствоведческое и литературоведческое понятие
- Литературные отсылки в портретах в «Герое нашего времени»
- Система портретов в «Мертвых душах»: формы описания и их функции
- «Гротескный параллелизм» как один из признаков гротескного портрета
Введение к работе
Диссертация посвящена особой форме изображения литературного персонажа в эпическом произведении. Попытки изучения портрета как одного из видов описаний предпринимались неоднократно, однако из существующих определений термина «портрет» невозможно выделить критерии отграничения этой формы описаний от характеристики и даже от повествования. Определения, которые можно встретить в справочной и специальной литературе, недостаточно учитывают функциональную значимость портрета, а также взаимосвязь между обликом персонажа, созданным посредством описания, и определенной структурой самого высказывания повествователя на эту тему (особой композиционной формой речи). Портреты чаще всего рассматривались исследователями попутно - в ходе анализа системы персонажей, предметного мира или же авторского стиля в произведении. Такой подход не позволяет выделить характерные признаки интересующей нас формы и разработать методику изучения системных соотношений всех существующих её образцов даже внутри одного произведения, не говоря уже о ряде текстов. В результате в должной мере еще не выявлено своеобразие портрета персонажа в эпическом произведении и не уяснены функции этой формы в его структуре.
Как показывает опыт анализа описаний внешности героев в прозе XIX века, изображение облика персонажа реализуется в разных вариантах. Эстетически «полярные» типы образной системы, представленной в том числе и в портретах персонажей, обозначены в книге М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Ученый указывает, что в процессе развития словесного искусства одновременно формировались две равноправные изобразительные нормы: гротескная и классическая. Однако мысль исследователя о существовании двух изобразительных канонов до сих пор остается не вполне воспринятой и освоенной. Поэтому портреты персонажей продолжают рассматриваться в свете исключительно одной изобразительной нормы, от которой, по мнению исследователей, существуют многообразные отклонения.
Таким образом, актуальность исследования определяется, во-первых, необходимостью обосновать и проверить на практике подход к портрету, при котором одновременно учитывается и тематический аспект (комплекс специфических мотивов) и соответствующая композиционная форма речи. Во-вторых, не менее необходимой для развития исследований в этой области представляется попытка проверить и применить идею М.М. Бахтина о двух типах образа тела. Эта задача может быть решена посредством систематического анализа портретов персонажей в достаточно репрезентативных литературных произведениях.
Исходя из высказанных соображений, в качестве основного материала избраны два романа в русской литературе первой половины XIX века: «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова и «Мертвые души» Н.В. Гоголя. В этих произведениях, по нашей гипотезе, с должной, с точки зрения нашей темы, полнотой и глубиной представлены два варианта описания внешности героев, основанные на противоположных эстетических нормах. В романе Лермонтова — тип портрета, который мы будем называть «классическим», в романе Гоголя -гротескный тип. Таков главный предмет предлагаемого исследования. Центральной же его проблемой является осмысление форм реализации и функций двух типов образности в эпическом произведении.
Главная цель настоящей работы заключается в выведении релевантных признаков для гротескного и «классического» типов портрета. В этой связи возник ряд задач:
прояснение содержания понятия «портрет» и границ формы, обозначаемой этим термином в тексте,
систематический анализ всех описаний внешности героев в избранных произведениях,
выделение особенностей каждого из двух типов портрета, в частности соотношения и взаимодействия точек зрения разных субъектов,
выявление взаимосвязей и различий между системой портретов и
системой персонажей в целом,
определение роли описаний внешности героев в сюжетной структуре
произведения
Методологическая основа исследования - работы М.М. Бахтина, в особенности - «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», «Рабле и Гоголь», а также исследования Н.Д. Тамарченко, посвященные теории эпики и анализу текстов эпических произведений разных жанров.
Научная новизна работы состоит, во-первых, в подходе к портрету как особой композиционной форме речи, во-вторых — в разграничении двух типов образности в этом виде описания и, в-третьих, в систематическом анализе с изложенных позиций всех описаний внешности персонажей романов Лермонтова и Гоголя, а также выявлении функций их портретов.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке выдвинутой М.М. Бахтиным идеи о существовании двух равноправных изобразительных канонов в словесном искусстве на материале русской литературы XIX века.
Практическая значимость диссертации в том, что её результаты могут быть широко использованы в изучении портретов персонажей эпических произведений, принадлежащих к разным национальным литературам различных эпох.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Портреты - один из вариантов описаний в литературном
произведении и в то же время - репрезентации особенностей видения
повествующего субъекта. В портретах, как и в других формах описаний,
отражаются изменения, происходящие в характере, временной,
пространственной и ментальной позиции субъекта. В зависимости от
особенностей повествующего лица меняются структура и содержание
портрета. При этом сама природа образа, представленного в портрете, может
тяготеть к одной из изобразительных норм: гротескной или «классической».
От этого зависит и реализация портрета как композиционной формы речи в
произведении. Портрет в эпическом произведении (для которого эта форма
наиболее характерна) реализует свойственный литературному роду в целом
принцип единства в многообразии.
Портреты, в которых представлены гротескная и «классическая» типы образности, могут быть сопоставлены по следующим параметрам: 1) наличие / отсутствие отмеченных границ между предметом изображения и фоном; 2) выделенность / размытость «материальных» границ объекта; 3) очевидность / неопределенность логики видения субъекта; 4) последовательность / непоследовательность возникновения элементов описания; 5) мотивированность / немотвированность акцентирования деталей; 6) демонстративное наличие / отсутствие системы взаимосвязей деталей; 7) противоположные функции сравнений; 8) разграниченность / слитность кругозоров разных субъектов;9) утверждение / отрицание понятий «норма», «граница» (как в прямом, так и в переносном значении).
Избранные для анализа произведения Лермонтова и Гоголя содержат описания внешности персонажей, принадлежащие к двум противоположным видам образности и эстетическим нормам и в этом отношении типологически значимые.
Как свидетельствует текст романа Лермонтова, «классический» портрет характеризуется яркой обозначенностью границ на разных уровнях, тяготением к однозначной интерпретации и поэтому к замкнутости изображаемых объектов: персонаж, как правило, описывается, будучи «остановленным» в одной позе, а также очевидностью оценки предмета изображения субъектом речи и вместе с тем - возможностью выбора читателем той или иной интерпретации внешности персонажа.
В задачи автора «Мертвых душ» не входит создание у читателя
целостного представления об объекте, сочетающего в единство многообразие
деталей. Возможны две формы репрезентации связи внутреннего и внешнего в
облике персонажа: 1) повествующий субъект сам сообщает читателю готовый
вывод, основанный на его личных наблюдениях, но не очевидный читателю; 2)
изображение, отбор тех или иных деталей представляются самоцельными,
поскольку разного рода алогизмы, намеренно внесенные автором,
препятствуют истолкованию предмета. Не отграничены и взаимопроницаемы
как кругозоры наблюдающих субъектов, так и сами предметы изображения (одна из специфических форм демонстрации родства разнородного -«гротескный параллелизм»). Преодоление и размывание всякого рода границ -равно материальных и контекстуальных - способствует формированию образов с избыточной, почти осязаемой телесностью.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования излагались в докладах на студенческой конференции в РГГУ (Москва, октябрь 2003), на аспирантском семинаре при кафедре теоретической и исторической поэтики ИФИ РГГУ, международных Болдинских чтениях (Болдино, сентябрь 2004), международной конференции «Гоголь: проблемы интерпретации» (Самара, июнь 2009). По теме диссертации опубликовано 5 статей.
Структура работы определяется поставленной целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии (250 позиций).
«Портрет» как искусствоведческое и литературоведческое понятие
Большинство исследователей сходятся на том, что первейшим признаком портрета как жанра живописи является схожесть изображения человека, его лица и фигуры с моделью, т. е. реальным человеком . Особую значимость приобретает здесь установка, задаваемая взглядом самого художника. Эта проблема впервые затрагивается в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», где сделано важное замечание относительно изображения в портрете: он акцентирует внимание на избирательности любого изображения, подходя довольно близко к проблеме точки зрения, а также указывает на возможность портретного изображения вымышленного лица.
Здесь необходимо отметить, что сосредоточенность этого жанра на изображении модели обусловлена ходом развития портретной традиции. Еще в статье 1925 г. Л. Тома ставит вопрос о «художественном познании модели» в статье «К вопросу о дифференциации портрета как жанра живописи», где говорится, что в портрете «предметом художественного исследования является человеческая индивидуальность...». Таким образом, в вопросе определения этого жанра намечается сразу две проблемы: 1) всегда ли портрет изображает реально существовавшую модель; 2) каковы художественные задачи портрета.
М. Андроникова в своей книге «Портрет: от наскального рисунка до звукового фильма» дает такое определение: «Изображение конкретного человека или группы людей, в котором переданы индивидуальный облик, раскрыты его внутренний мир, сущность». Она указывает на один из важных критериев портретного изображения — воссоздание портретируемого, т. е. сходство портрета и оригинала. В связи с этим она выделяет два типа портрета: 1) реального конкретного человека; 2) описание внешности, характера поведения вымышленного героя. Таким образом, исследовательница сосредотачивается в первую очередь на мысли, что портрет есть изображение человеческого лица и фигуры, независимо от установки произведения на достоверность.
Схожим определением автопортрета, который можно считать частным случаем портрета, руководствуется в своем исследовании А. В. Ляшка: «чистая» автопортретная форма заключает в своих границах только фигуру худож-ника крупным планом в фигуративно неопределенной среде» . Таким образом, композиционным и смысловом центром в портрете является изображение внешности человека - его фигуры целиком или только лица.
И. Е. Данилова во вступительной статье к книге «Портрет в европейской живописи 15-20 веков» высказывает мысль о сходстве изображенного на картине с моделью, как об определяющем для этого жанра элементе: «Портрет предполагает сходство с моделью, именно в этом состоит его отличительный признак... это изображение человеческого лица, идентифицируемое с оригиналом». Исследовательница показывает, что по мере приближения 20-го столетия внимание художника все больше сосредотачивается на изображении человека в ракурсе «сознательного взгляда на себя». В лице модели зритель наблюдает «проекцию мира», утратившего свою лаконичность, отсюда осознание художниками необходимости «разных экранов» зрения, и, как следствие, появление в живописи кубизма.
То есть, по мнению исследовательницы, в XX веке портрет преодолевает одну из своих первичных задач - передачу внешнего сходства между изображением и моделью. Художник получает право в символической форме передавать те внутренние черты человека, которые собственный взгляд творца определил как ключевые. При этом речь уже не будет идти о внешнем сходстве, но, тем не менее, картина по своему жанру остается портретом, так как будет передавать неочевидное сходство между изображением и моделью, показывающее модель в новом в первую очередь ценностном ракурсе.
Эта задача напрямую связана с тем внешним отграничением объекта от фона, о котором так или иначе говорят все искусствоведческие определения. Только в контексте живописи XX века это отграничение становится не графическим, а смысловым: показать модель так, как ее до этого еще не видели (а следовательно, на нее так и не смотрели) означает выявить ее индивидуальность. Хотя в этом смысле невозможно говорить об окказиональном подборе средств художником. Как правило, приемы, используемые в абстракционистских изображениях, имеют символический смысл, где множественность значений приема ограничивается контекстом и физической формой произведения.
В задачу жанра портрета по мере его становления начинает входить отображение внешнего мира, окружающего модель, через нее саму, и изображение ее собственного внутреннего мира1 . Значимость процесса самопознания или познания модели как основополагающий элемент портрета рассматривает М.Г.Коган в своей книге «Эстетика как философская наука». «В... портрете предметом художнико-человеческого исследования является внешняя сторона своего реального бытия, собственно, телесное существо, в котором раскрывается таящаяся в теле жизнь духа». «Разрешение метафизических задач вкладывается в изображение локального места созерцания, в «конечном куске полотна» посредством пластики, света, цвета отражается бесконечный процесс становления личности»20. Таким образом, ученый подходит к вопросу о приемах в живописном произведении, но не останавливается на этом подробно.
В более ранней работе П.А. Флоренского мы можем видеть стремление разложить живописное произведение на приемы. Проблеме изображения внутреннего мира модели посвящены размышления П. Флоренского в его «Исследованиях по теории искусства». В главке «Портрет и икона» философ сначала рассматривает портрет как способ передачи «внутреннего движения»21 личности. Особенно важным в этой связи ему представляется понятие «движения» не механического, а композиционного.
Здесь совмещаются как бы два понятия, выражаемые в русском языке одним и тем же словом. В теории живописи есть понятие «движения» как соотношения формы, тона и расположения на листе цветовых пятен. Как и любой другой прием, определенное соположение цветовых пятен функционально, на что и указывает Флоренский: «...художественный портрет... по преимуществу должен решать задачу движения... В этом смысле отдельные части лица должны на художественном портрете противоречить друг другу... В противном слу-чае вместо портрета будет гипсовый слепок»". Под «противоречием» опять же следует понимать функциональное композиционное расположение лица на предназначенной для рисунка поверхности. Таким образом, речь снова идет о «движении» как части композиции.
В другом значении используется понятие «движения», когда говорится о человеческой личности, душе. Здесь слово является скорее синонимом «развития», а у Флоренского становится еще и обозначением внутренней жизни в целом: «На портрете... личность изображается сама в себе или выходящею из себя лишь настолько, насколько это свойственно ее строению». Философ обосновывает удачность живописного произведения сочетанием функций одного приема - смыслообразующей композиции.
Таким образом, в рамках живописного произведения неизменно должны совмещаться, по мнению Флоренского, две авторские интенции: стремление передать внутренний мир модели и подчинить этой задаче непосредственно изображение. Сделать это оказывается возможным путем использования определенных композиционных приемов, причем изображение внутреннего мира становится приоритетным по отношению к анатомическому сходству: «Поскольку поставленная задача биографического синтеза достигнута, изображение должно особенно далеко отойти от анатомического тождества, ибо оно передает не тот или иной отдельно выхваченный участок жизни данного лица, а связный ход всего ее развития» .
Здесь мы можем увидеть, что живописный портрет становится гармоничным тогда, когда происходит совмещение функций визуального изображения и психологической характеристики"4. Исследователь разлагает на составляющие то, что в сознании зрителей не подлежит разложению, в отличие от сознания читателей, у которых создается образ героя. В случае с речью соотношение приемов визуализации и характеристики различно в зависимости от авторской задачи, но разграничение этих приемов происходит по мере построения высказывания, поскольку различные задачи получают разную речевую реализацию.
Литературные отсылки в портретах в «Герое нашего времени»
В предыдущем параграфе нами уже затрагивался вопрос о литературных источниках романа «Герой нашего времени». Мы рассмотрели некоторые сходства и различия ситуаций, в которых описываются герои романа Лермонтова и типичных ситуаций романтических произведений. Здесь же мы более подробно рассмотрим литературные отсылки, сделанные в романе в явной форме. Заметим, что если о сходстве некоторых ситуаций романа можно говорить лишь исходя из историко-литературного контекста, в котором находится «Герой нашего времени», то в самих портретах заложены непосредственные аллюзии, входящие при этом не только в кругозор читателя, но и в кругозор рассказчика.
Эти аллюзии не рассматривались в научной литературе специально. Гете и Бальзак, о которых прямо говорит Лермонтов в тексте, не называются как материал, на основе которого создавался «Герой нашего времени», в отличие от многих других произведений романтической литературы . Собственно, в тек сте существует всего две явных отсылки к другим литературным произведениям и обе содержатся как раз в портретных описаниях самого Печорина и Ундины. Есть еще несколько неявных аллюзий, где речь не может идти об одном конкретном тексте, но можно говорить как о литературной традиции в целом, так и о корпусе текстов, к которым отсылает тот или иной образ. Основная часть такого рода отсылок содержится в «Княжне Мери».
Здесь мы сталкиваемся не только с обращением к французской романтической традиции, а точнее, к Бальзаку и его школе, которые явились основоположниками этого жанра, но и с обращением к русской традиции светской повести. Примечательно, что такого рода отсылки и полемика должны быть вычленены в тексте читателями интуитивно, поскольку в повествовании нет явных высказываний, отсылающих к соответствующим литературным произведениям. Тем не менее представляется необходимым рассмотреть механизм их работы, поскольку такого рода скрытая полемика непосредственно влияет на сами портретные описания, а следовательно, и на образы героев и, что еще важнее, на сюжет произведения.
Итак, мы рассмотрим два типа литературных аллюзий, содержащихся в портретных описаниях у Лермонтова, что, с одной стороны, поможет точнее определить границы заимствований и полемики с различными литературными направлениями в сюжете романа, с другой - объяснить характер и функции тех заимствований, которые неоднократно отмечались исследователями.
В предыдущем параграфе мы уже видели, что сама по себе романтическая традиция является отдельным предметом осмысления в ткани романа. В чистом виде она, конечно, - не предмет размышлений героя, но содержание и построение образов в повестях часто прямо указывают на переосмысление романтических традиций.
Так, впервые непосредственное высказывание, связанное уже явным образом с романтической традицией, возникает в развернутом портрете Печорина в повести «Максим Максимыч». Там сказано, что герой сидит как «Бальзакова кокетка». Очевидно, что здесь автор апеллирует к некоему известному читателю культурному контексту. В первую очередь, Бальзак тогда, как и сейчас, воспринимается как автор, наиболее полно и пристально описавший светскую жизнь с ее внутренней стороны. В портрете Печорина нет отсылок к конкретному произведению.
У Бальзака есть несколько романов, описывающих светскую жизнь Парижа, но в одном из них - «Тридцатилетней женщине» - присутствует описание, которое, как нам кажется, может являться прямым источником упоминания о позе «Бальзаковой кокетки», которую принимает Печорин: «Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура... и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан, изящный и словно надломленный, свободная и небрежная поза, усталые движения - все говорило о том, что эту женщину ничто в этой жизни не радует...»76. О той же надломленности в фигуре говорил странствующий писатель, описывая Печорина: «Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто бы в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит Бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала».
Структуры портретов тоже совпадают. Как и в случае Печорина, сначала дается общая оценка облика г-жи д Эглемон: «Маркиза... была хороша собой, хотя хрупка и уж очень изнеженна». К общей оценке добавляются детали, специально акцентированные повествователем: лицо, взгляд, шея, волосы и лишь затем наряд героини. Интересно, что комментарий повествователя встраивается в описание по той же схеме, что и в портрете Печорина. Каждая выделенная деталь получает интерпретацию с отсылкой к читательскому опыту: «Удивительным обаянием дышало ее лицо, спокойствие которого обнаруживало редкостную глубину души. Ее горящий, но словно затуманенный какою-то неотвязной думою взгляд говорил о кипучей внутренней жизни и полнейшей покорности судьбе. Веки ее были почти все время смиренно опущены и поднимались редко. Если она и бросала взгляды вокруг, то они были печальны, и вы сказали бы, что она сберегает огонь глаз для каких-то своих сокровенных созерцаний... Если рассудок и пытался разгадать, отчего она постоянно оказывает внутреннее противодействие настоящему во имя прошедшего, обществу во имя уединения, то душа старалась проникнуть в тайны этого сердца, видимо, гордого своими страданиями»77.
Примечательно, что в этом портрете возникает сходная с лермонтовским портретом система оппозиций. Только здесь они заложены и в самой внешности объекта, как у Печорина, и в возможной интерпретации поведения героини: горящий/затуманенный взор; кипучая внутренняя жизнь/покорность судьбе; настоящее/прошедшее; общество/уединение; рассудок окружающих старается постичь тайну поведения героини/душа других стремится проникнуть в тайны ее сердца. При наличии сходной системы оппозиций облик госпожи д Эглемон не производит впечатление противоречивого7 , хотя именно такой эффект производила внешность Печорина. Кроме того, в этом описании, конечно, отсутствует установка на множественность интерпретаций. Оценка, данная повествователем облику героини, выступает в качестве самоочевидной как для героев, так и для читателей.
Портрет госпожи д Эглемон построен на разного рода удвоениях - как тематических, так и структурных: черты героини сначала описываются, а затем как будто обсуждаются с читателем, и за развернутым описанием героини, прерываемом рассуждениями автора, следует повторное указание на позу и облик госпожи д Эглемон, но уже в сжатом виде, когда финальная оценка не обосновывается, а только закрепляется обращением к позе героини и выводам, которые делает из этой поды повествователь.
При разном отношении к возможной читательской интерпретации у портретов есть ряд сходных элементов, обозначающих одни и те же свойства героев: «У нее была необыкновенно тонкая кожа, а это почти безошибочный признак душевной чувствительности, что подтверждалось всем ее обликом, тою изумительною законченностью черт, которою китайские художники на-деляют свои причудливые творения» . Об особой белизне кожи упоминается также и в описании Печорина, но там это упоминание, скорее, указывает на противоречивость облика героя, а «душевная чувствительность» передана там через набор черт, не присутствующих в этом описании у Бальзака.
После описания внешности, как и в случае с портретом Печорина, следует описание наряда госпожи д Эглемон. Платье героини так же, как и наряд Печорина, подчеркивает их принадлежность к светскому обществу и хороший вкус. Итак, при наличии явно сходных схем в построении описаний и даже общих приемов видно, что установки на позицию читателя в этих портретах различны. Лермонтов предполагает заинтриговать читателя, создав крайне неоднозначную картину, Бальзак в описании госпожи д Эглемон на балу фиксирует состояние героини, не только используя свое знание о внутренней ее жизни, но и намеренно демонстрируя его.
Характерно, что госпожа д Эглемон, запечатлена на балу именно в возрасте 30 лет, и она, равно как и Печорин, ощущает в этот момент повествования полное разочарование в жизни. Таким образом, одним словосочетанием, вставленным в описание героя, Лермонтов сразу характеризует не только его образ мыслей, но и сам источник такого мировосприятия.
Система портретов в «Мертвых душах»: формы описания и их функции
Вначале мы рассмотрим группу портретов, где герои описываются через совершаемые ими действия, что, по сути, замещает изображение предмета рассуждениями о его свойствах. Известно, что портрет может выступать одним из средств характеристики героя. В портретах, образующих эту группу, особенности личности и поведения героя выводятся из его внешности, причем такого рода высказывание повествователя возникает как его безапелляционное видение.
Эти рассуждения выглядят, на первый взгляд, похожими на характеристику, направленную не на шщивидуализацшо героя, а на соотнесение его с определенным типом людей. Высказывания такого рода, как правило, встраиваются в сам портрет, представляя собой развернутый авторский комментарий к позе, высказыванию, детали одежды, черте внешности или действию, жесту героя. Действие, совершаемое героем - значимый компонент большинства описаний в «Мертвых душах». Но во многих случаях сообщение о жесте может замещать собой сам предмет изображения. Тогда движение выступает как форма визуализации облика героя, но не становится ни частью, ни поводом к разговору о свойствах его характера.
Рассмотрим первый тип портретов, где герои характеризуются через регулярно совершаемые ими действия.
Впервые с таким приемом мы сталкиваемся в описании Губернатора, в котором детали внешности намеренно сополагаются с чертами характера в рамках одной фразы: «Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам иногда вышивал по тюлю» . Сообщение о его увлечении выступает как дополнение к характеристике героя; таким образом вышивание по тюлю становится подтверждением доброго нрава Губернатора, что само по себе не вполне убедительно для читателя. Но при этом характер персонажа явным образом связывается с обычно совершаемыми им действиями.
Возможен также и другой вариант «характеристики» героя - через указание на некое внутреннее движение, которое при этом не всегда оказывается в гоголевской системе связанным с внутренним потенциалом . Так, оно обессмысливается в портрете чиновника Ивана Антоновича - «кувшинное рыло». В нем так же, как и в других портретах этой группы, повествователь через облик персонажа проникает в его сущность: «Видно было вдруг, что это был человек уже благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертоп-ляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос, - словом, это было то лицо, которое в общежитье называют кувшинным рылом» [С. 143].
При том, что описание здесь собрано из сведений, которые призваны познакомить читателя с героем, завершается оно очень быстро оценкой внешности, которая подчеркивает типичность облика Ивана Антоновича: «словом, это было то лицо, которое в общежитье называют кувшинным рылом». Но при этом соотношение между самостоятельно «движущимся» лицом персонажа и выводами повествователя не вполне понятно.
Заметим, что наличие внешней динамики не предполагает здесь потенциала во внутреннем мире, поэтому высказывание повествователя не требует никакой дополнительной интерпретации. В его словах снова слышна ирония, поскольку в его речь входит чужой голос: «Видно было вдруг, что это был человек уже благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс». Явно, что это для сознания героев «Мертвых душ» характерна мысль о связи возраста с образом жизни человека. Здесь как раз видна попытка определить внутренний мир героя, но это определение выглядит скорее общим местом, нежели проникновением в существо Ивана Антоновича, т. е. характеристики героя, как и в случае с Губернатором, не получается, а остается лишь ее фикция.
Поведение героя как нечто, вычитываемое из его внешности, изображается также в портрете зятя Ноздрева: «Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то по крайней мере табачный... был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, - словом, начнут гладью, а кончат гадью» [С. 63].
Если начинает повествователь с описания лица и констатации тех выводов, которые по нему можно сделать о самом человеке, то в дальнейшем описание внешности из выводов, только что сделанных повествователем, переходит в рассуждения о типе таких людей. И теперь уже говорится не о внешности, а о том, как ведут себя люди такого рода. Примечательно, что поведение героя характеризуется тем, что и как он обычно говорит, делает: «они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке» [С. 69]. Внутри этой характеристики нарушаются границы между противоположными по своей сути действиями: соглашаться и настаивать на своем. Таким образом первоначальное впечатление, созданное внешностью героя, разрушается, и создается противоположный образ героя; при этом переход к противоположному выглядит чем-то совершенно естественным, поскольку поведение героя повествователь способен предсказать заранее. Описание уже окончательно забыто.
При описании приказчика Манилова субъект рассказывания способен увидеть всю прошлую жизнь героя и вместе с этим его прошлое и нынешнее поведение. Выводы, к которым он приходит, наблюдая приказчика, могут в равной мере принадлежать как повествователю, так и Чичикову: «Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было тотчас видеть, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком» [С. 36]. Опыт, а вместе с этим и взгляд субъекта речи выходят здесь на первый план, а описание внешности -лишь повод продемонстрировать этот опыт.
Точно так же построен и портрет приживалки в доме у Собакевича. Ее наблюдает Чичиков, но характеристику явно дает повествователь, который опять в контексте описания лица приживалки задумывается о характере её вообще: «На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется: ого-го!» [С. 103].
Этот портрет четко разделяется на две части, первая из которых - непосредственное выделение особенностей внешности, которые затем лягут в основу рассуждений субъекта речи о типе таких женщин во второй части. Примечательно, что повествователь с самого начала рассуждает об этом персонаже так, как будто описывает нечто неживое: сравнивает лицо с предметом или даже не с предметом, а с крапинками на нем, говорит о ней «что-то», затем переходит к обобщению и говорит уже не о ней, а о «них», таких же как она. Характеристика этого типа лиц производится через сообщение о том, что может делать обладательница такого лица «где-нибудь в девичьей». При описании типа людей, к которым принадлежит персонаж, фиксируется обычная для него поза. Примечательно, что поза эта статична: «одинаково держат голову»; в противовес этому ее действия и речь даже не подлежат подробному описанию, для этого автору достаточно лишь междометия «ого-го!», которое оказывается красноречивей всяких рассуждений. Этим междометием, не имеющим однозначного смыслового эквивалента в языке, обозначается способность героини к слову, что совершенно не соответствует впечатлению от ее внешности.
В процессе описания лица женщины изменяется сам предмет разговора: от внешности, которая не производит никакого впечатления, к характеру, который оказывается познаваем не из лица, а из опыта самого повествователя. Не случайно свойства лица приживалки «как пятнышки на постороннем предмете» и содержательно, и интонационно, и синтаксически противопоставлены описанию ее поведения в девичьей: «ого-го». Взгляд повествователя способен проникнуть настолько глубоко, чтобы видна стала вся суть характера, который, однако, не раскрывается. Повествователь лишь указывает на явное несоответствие между внешним и внутренним, при этом создавая впечатление двойственности образа героини. Сама интерпретация ее облика, предлагаемая повествователем, становится альтернативной тому, что изначально представлено.
Своего апогея псевдохарактеристика, построенная на основании особенностей внешнего вида, достигает в описании лакея Коробочки в конце восьмой главы: «Запятки были заняты лицом лакейского происхожденья, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью, -лицо, известное под именем „малого"» [С. 176]. Несмотря на то что повествователь формально соблюдает многие признаки портретного описания, сообщая о различных деталях внешности персонажа, портрет оказывается «антииндивидуал ен». Обозначение персонажа как «лица» сразу соотносит его с определенным типом, не допуская никаких отклонений личности персонажа от этого типа. Получается, что его внешность и положение на козлах Коробочкиного тарантаса заранее предопределяют для читателя его суть.
«Гротескный параллелизм» как один из признаков гротескного портрета
В научной литературе давно замечено, что для гоголевских описаний характерны разного рода сравнения, которые в свою очередь размывают границы между предметами, создают возможности для разного рода «превращений» одного объекта в другой Ш6.
Этот прием характерен и для нескольких портретов, рассмотренных нами выше. В предыдущих параграфах мы говорили о портретах с точки зрения их функций и соотносимости с другими описаниями внешности героев, попытавшись таким образом провести типологизацию. Однако представляется необходимым рассмотреть также отдельный прием, характерный для некоторых портретов, так как он является ключевым для понимания особенностей видения субъекта речи и формы портрета у Гоголя в целом.
На первый взгляд, прием, использованный автором в описании внешности героев, представляет собой развернутое сравнение, где два его элемента (т. е. сам предмет изображения и то, с чем его сравнивают) оказываются не «равнозначны». Сравнение очень часто «разворачивается» по мере развития мысли повествователя. Может создаться впечатление, что субъект речи будто забывает о предмете разговора и переходит па другой предмет, совершенно отвлеченный. Именно для этого приема мы предлагаем термин «гротескный параллелизм», который, как представляется, наиболее точно отражает специфику этого приема107.
Основанием для сравнения становится часто не признак предмета, а совершаемое объектом действие, чаще всего у Гоголя - жест героя. Или же другой вариант реализации сопоставления по признаку совершаемого движения - метаморфоза лица героя. Собственно, фиксирование перемены в лице героя можно видеть и в других портретах «Мертвых душ», но в рассматриваемых нами примерах особенно важно, что изображение строится не на описательных элементах, а на сравнении изображаемого с чем-либо. Этот прием нельзя рассматривать как типичное развернутое сравнение, поскольку оно проводится на основе совершаемого объектом действия, и уже оттуда выводятся признаки для сопоставления. Обычное же сравнение строится по обратной логике .
Фрагментов, где используется «гротескный параллелизм», всего 6 в произведении. Они встречаются дважды в описаниях Плюшкина, а также Собакевича, губернаторской дочки, фраков на балу у губернатора и жеста «просто приятной дамы»109. Как мы видели выше, они принадлежат к разным типам конструирования портретов, однако их объединяет наличие общего приема в них. Помимо того, у этих эпизодов есть ряд общих особенностей: во-первых, во фрагментах чаще всего используются неожиданные для читателя ассоциации с внешним обликом героя/героев; во-вторых, переход от основного предмета изображения к предмету сравнения часто совершается внутри одного высказывания субъекта, что делает границу между предметом изображения и сравнения абсолютно проницаемой; не всегда однозначно можно оценить функцию сравнения, так как оно, с одной стороны, становится частью характеристики объекта; с другой - может и не продолжать ранее заданную линию характеристики. И, наконец, последнее: при возникновении сравнения не вполне понятно, чьему кругозору оно принадлежит, повествователя или героя, поскольку их точки зрения очень часто оказываются взаимо проницаемы. Все эти особенности можно проследить последовательно. Эпизоды, где используются развернутые сравнения, можно разделить на три варианта, соответственно функциям сравнений и структуре самих эпизодов.
Первый вариант использования «гротескного параллелизма» возникает в описании фраков на балу в доме губернатора и жеста «просто приятной дамы». «Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами».
Как мы уже указывали, основанием для сравнения в этом эпизоде служат цветовые ассоциации субъекта речи и «жесты» самих мух, похожие на жесты мужчин на балу. Таким образом, начав описание, повествователь очень быстро сочетает его с характеристикой, говоря, что мухи так же, как и мужчины на балу, явились, чтобы «потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами». [С. 14]
Второй фрагмент, где развернутое сравнение имеет подобную функцию -это изображение жеста «просто приятной дамы», когда собеседница, «дама, приятная во всех отношениях», собралась растолковать ей смысл истории с мертвыми душами: «- Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души, - сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух: ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.
Так русский барин собачьей и иора охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку» [С. 179].
Здесь сравнение снова возникает в связи с характеристикой жеста, как и в первом случае. Но если в случае с фраками-мухами читатель может восстановить для себя основание для сравнения, то здесь он всецело должен подчиниться воле субъекта речи и принять его сравнение без логического обоснования. Сравнение не завершается тематически, так как повествователь не возвращается к объекту изображения, а сразу переходит к передаче разговора, словно забыв о только что нарисованной сценке. Такое же построение можно видеть и в первом эпизоде с мухами, где повествователь, дав через сравнение характеристику жесту, движению, не возвращается больше к основному предмету изображения.
Во втором варианте использования «гротескного параллелизма» функцию сравнения можно определить как особую форму характеристики, хотя и не всегда понятной с первого взгляда читателю. При описании Собакевича используется тот же прием развернутого сравнения. Но при том, что по своей структуре оно довольно сходно с предыдущими, есть ряд значительных отличий. «Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, изо которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались»110 [С. 94].
В начале описания возникает явный контраст между лицами мужа и жены, за счет противоположности их форм. Лицу Собакевича, как кажется, уделяется больше внимания, но, по сути, читатель сталкивается не с описанием лица героя, а с предметом, который на него похож. Примечательно, что само описание целого рода тыкв, на который похоже лицо Собакевича, никак не объясняет ни особенностей его внешности, ни особенностей характера. Создается впечатление, что повествователь как будто отвлекается от предмета изображения, чтобы нарисовать совсем другую картину, имеющую отношение к народной жизни, но не имеющую отношения к самому Собакевичу111. От тыкв повествователь переходит к описанию самой ярмарки, в этой жанровой сценке появляются герои, и она таким образом обретает свой собственный колорит. Но неожиданно описание ярмарки прерывается, и повествователь вдруг сообщает: «Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались».
Таким образом, он возвращается к первоначальной теме, но описание ярмарки не встраивается в общий контекст, а «выпадает» из него тематически и стилистически. Возникают два параллельных изображения, где одно по своему положения в тексте должно являться объяснением к другому. Однако от сопоставления лица с тыквой повествователь переходит к особенностям ее формы, которые немного добавляют к уже выстроившемуся образу лица героя.