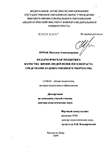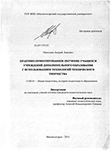Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Почитаемые места: этнографические реалии и тексты 15
1.1. Система почитаемых мест : общие характеристики явления 15
1.1.1. Почитаемое место как предмет исследования 15
1.1.2. Почитаемые места Средней Меты и Верхней Сяси 21
1.2. Специфика бытования нарративов о почитаемых местах 28
1.2.1 Общие характеристики 29
1.2.2. Две стороны беседы: Рассказчик и Собиратель 36
1.2.3. Методика записи 41
Глава 2. Система повествования: объекты описания и действующие лица 44
2.1. Объекты описания видимое пространство почитаемого места 44
2.1.1. Предварительные замечания 44
2.1.2. Завет: границы понятия 48
2.1.3. Пространственные и временные характеристики 57
2.1.4. Объекты и действия 63
2.1.5. Болезнь и исцеление 71
2.1.6. Человек и почитаемое место 75
2.2. Действующие лица: отношения и статусы 77
2.2.1. Мы: Люди и Народ 78
2.2.2. Женский и Мужской взгляд: Две стороны одного явления 82
2.2.3. Старые да малые: Возрастные позиции и конфликты 85
2.2.4. Свои и чужие 90
2.2.5. Священник 92
2.2.6. Устойчивые образы 94
Глава 3. Фольклорные повествования о почитаемых местах 96
3.1. Фольклорные мотивы в нарративах о почитаемых местах 96
3.1.1. Тексты и мотивы 96
3.1.2. Чудесное: Прошлое/Вневременное 98
3.1.3. Мотив чужеземного нашествия и явление чуда 99
3.1.4. Война как универсальный мотив проявления чудесного 103
3.1.5. Ситуативное использование других мотивов 105
3.1.6. Проблема текстов о происхождении святыни 107
3.1.7. Настоящее: «бытовое» чудо 109
3.1.8. Чудо исцеления 111
3.1.9. Праведник 118
3.1.10. Наказание святотатцев 121
3.1.11. Мемораты 122
3.1.12. Чудесное. Выводы 123
3.2. «Текст святыни» и система фольклорных жанров .125
Глава 4. Текст святыни как искусствоведческая проблема 135
4.1. Почитаемое место и храм: диалектика соотношений 135
4.2. Слово и изображение 137
4.3. «Паломнические» изображения святыни 143
4.4. Изображение святыни в живописи 149
4.5.О проблеме «фольклорного мышления» в искусстве 163
Заключение 170
Список литературы 177
- Почитаемые места Средней Меты и Верхней Сяси
- Мы: Люди и Народ
- Чудо исцеления
- Изображение святыни в живописи
Введение к работе
Религиозное сознание предполагает существование и связь двух миров — сакрального и профанного. Граница между ними должна не только отделять один от другого, но и быть проницаема (П. А. Флоренский). В культуре народа вырабатываются способы маркирования таких границ и формы контактов человеческого мира с божественным, «горним». Это находит воплощение как в искусстве (сфера сакрального), так и в устной традиции.
Одно из проявлений таких границ — феномен почитаемых мест. Это развитое многоаспектное явление, известное практически любому народу мира, но каждый раз оно приобретает свою специфическую этнолокальную форму воплощения.
В широком смысле к почитаемому можно отнести любое место, где постоянно отправляется тот или иной культ: святые источники, озера, камни, камни-следовики, памятные/обетные кресты, кладбища, часовни и т. п. Важным представляется уточнение соотношения почитаемого места и православного храма. Церковь — центр постоянной совместной молитвы и общения верующих. На почитаемом месте службы происходят в определенные праздничные дни, сюда могут приходить одиночные богомольцы. Многие века русской истории эти два явления находятся в постоянном динамическом взаимодействии. Соотношение почитаемого места и православных приходов в те или иные исторические периоды было разным, но связь прослеживается практически постоянно. С принятием христианства храмы нередко ставились на святых местах язычников. Исчезновение церкви как сооружения не отменяло почтительного отношения людей к месту, где она стояла. Почитание локуса нередко приводило к возрождению на этом месте храма.
Актуальность настоящего исследования в значительной мере определяется тем, что во времена агрессивно-атеистических гонений, запретов и массового разрушения храмов, часовен и монастырей почитаемые места зачастую оказывались единственно возможными, но потайными местами религиозных праздников и отправления соответствующих обрядов. Естественно, жесткие запреты распространялись и на всю гуманитарную сферу знания, касающуюся народно-духовной жизни. Во всяком случае, до недавнего времени мы практически не имели ни публикаций материалов, ни тем более исследований, касающихся почитаемых мест и всего того, что с ними связано: фольклорных нарративов (преданий, легенд, быличек, примет), регулярных, календарно организованных паломнических посещений святых мест и выполнения там традиционных ритуальных действий и т. д.
В постсоветское время православная церковь получила наконец возможность вновь легально выполнять свою духовную миссию, и это не только вызвало активное восстановление церквей, часовен и монастырей, но и парадоксальным образом реанимировало сеть почитаемых мест и их параллельное функционирование, которое далеко не всегда принимается официальными служителями церкви.
Дело в том, что почитаемые (святые) места материализуют систему воззрений так называемой бытовой религиозности, восходящей к общим представлениям об устройстве мира. В них христианство адаптировалось к специфике дохристианского мировоззрения местного населения, условиям его хозяйства и быта.
Вербализация такого сакрального знания соединяется с его внешним видом, вписанностью в ландшафт. Образуется единство словесного и визуального образа. Святые места подробно описываются русским народным религиозным нарративом; вместе с тем с XVIII в. они предстают в различных изображениях — от паломнической картинки для народа до профессиональной живописи и художественной фотографии. Эта область находится на стыке традиционного художественного творчества («фольклорного»/безавторского) и профессионального (авторского) искусства, и, следовательно, требует комплексного изучения со стороны фольклористики и искусствоведения. Этот феномен предполагает, кроме того, анализ как коллективного, так и индивидуального творчества. На этом основано одно из направлений современного искусствоведения — исследование так называемых пространственных икон (А. М. Лидов). Представления о почитаемом месте находятся на пересечении двух мыслительных процессов: иерофании как обнаружения священного в профанной, мирской сфере (М. Элиаде) и иеротопии как конструирования сакрального пространства (А. М. Лидов). Сакральное пространство по Лидову организуется не спонтанно, а согласно определенной программе, воплощает некую идеальную схему, теологическую программу.
Актуальность исследования определяется также тем, что в нем впервые предпринята попытка сопоставить два плана (слово и изображение) на примере народного религиозного нарратива о почитаемых местах, с одной стороны, и изображений святыни в паломнической картинке и русской живописи конца ХIХ — ХХ в. — с другой. Иначе говоря, как и каким способом воплощается почитаемое место в слове и его изображении.
Объект диссертационного исследования — феномен святых/почитаемых мест как пограничья между сакральным и профанным мирами в русской культуре Северо-Запада России. Предмет исследования — механизмы воспроизводства текстов традиционной культуры, описывающих рассматриваемое явление, а также специфика отражения образа святыни в фольклоре (вербальный нарратив) и художественно-изобразительном искусстве конца XIX — ХХ в.
Цель настоящего исследования — опираясь на комплексный междисциплинарный подход, раскрыть феномен образа святыни в русской традиционной культуре, его воздействие на профессиональное искусство, а также актуализацию глубинных мифологических смыслов при создании авторского произведения.
Задачи или основные аспекты исследования представляются следующими:
специфика феномена святого места в русской традиционной культуре;
функции святыни в системе народного православия;
народный нарратив о почитаемом месте и его структура;
специфические мотивы и образы, используемые для описания святыни;
изображение почитаемого места как устойчивая система образов.
Специфика использованных и представленных в работе материалов (русский народный религиозный нарратив) потребовала выстроить модель описания святыни и знаний о ней, отражающей именно те признаки, на которых акцентировалось внимание людей. При выполнении этой задачи автор использовал главным образом собственные материалы, собранные в процессе многолетних экспедиций по Северо-Западу России и на Русский Север. В приложении к диссертации представлен значительный комплекс народных повествований о почитаемых местах, которые таким образом вводятся в научный оборот.
При анализе способов сопоставления нарративов с произведениями изобразительного искусства, а также для выявления скрытой «программы» этих произведений использованы методы фольклористики. Это дало автору возможность при искусствоведческом анализе не ограничиваться единичными фактами, но учитывать комплекс представлений, восходящих к традиционной картине мира. Такой подход позволяет исследовать глубинные процессы индивидуального художественного творчества, в частности, отражение во внутреннем мире мастера общих традиционных знаний.
Степень изученности и научной разработанности темы. Проблема соотношения фольклора и художественного творчества неизменно затрагивается во многих исследованиях, посвященных изучению отечественной культуры. С конца XVIII в. усиливается внимание к своим древностям, своей «античности». Эти «древности» по тогдашним представлениям сводились к комплексу явлений, относящихся к «старой» России. Постепенно происходила дифференциация исследовательских интересов. Носителем сведений о прошлом в равной степени оказывался памятник (материальный объект) или живое слово. В таких поисках визуальный образ и слово оказываются равноправными источниками познания, «прочувствования старины». На протяжении XIX в. появляются знаковые для русской фольклористики собрания — И. П. Сахарова, А. В. Терещенко, П. В. Киреевского, В. И. Даля, А. Н. Афанасьева и др. Вместе с интересом к фольклору и этнографии, внимание привлекают и материальные памятники — «свидетели прошлого». Достаточно вспомнить копирование отечественных памятников русскими живописцами и архитекторами (Ф. Г. Солнцев, Н. В. Салтанов, А. Н. Стасов), романтический интерес художников XIX в. к «своим» корням, истокам, старине. Постепенно осознается разрыв между культурой высших слоев общества с их ориентацией на общеевропейские ценности и культурой низовой. Это дает возможность увидеть «другого», способствует развитию отечественной фольклористики и этнографии.
Религиозный аспект таких поисков сводился не только к «воссозданию» картин языческого прошлого, но и к вдумчивому изучению памятников христианского искусства (Н. В. Покровский), особенно в создании так называемого национального стиля русского искусства (архитектура, живопись, музыка).
С самых первых шагов отечественной науки слово как свидетельство прошлого соотносилось с образом этого прошлого, запечатленным в сохранившихся памятниках. Религиозная составляющая органично вплеталась в виде христианских или более отдаленных — языческих древностей. Позже, в течение XIX–XX вв., интересы фольклористики то расширялись, то сужались, но внимание к взаимодействию вербального, акционального и визуального планов сохранялось.
К концу ХХ — началу ХХI в. в силу как внутренних закономерностей развития науки, так и благодаря снятию идеологических регламентаций происходит значительное расширение предметного поля традиционной культуры, привлекающее внимание исследователей (Е. В. Гусев, К. В. Чистов, Б. Н. Путилов, С. Ю. Неклюдов). Искусствоведческому анализу подвергаются такие фольклорные, а также околофольклорные, постфольклорные, низовые, массовые явления, как лубок, игрушка, декоративные изразцы, народный театр и др.
В современной науке исследование изображения (в первую очередь имеющего корни в фольклорном видении мира) в связи с его культурно-мифологической семантикой предполагает ряд подходов. В работах, посвященных традиционной культуре, как правило, текст и образ рассматриваются в определенной взаимосвязи. Например, при исследовании народного прикладного искусства чаще всего сопоставляются и соотносятся два плана: технология (материал и его выбор, производственные приемы, стиль отдельного мастера/промысла и т. д.) и реконструируемая в отдельных элементах архетипическая символика (работы Г. С. Масловой, Н. Н. Померанцева, И. Я. Богуславской и др.). «Технология» понимается не только как ‘способ физического создания предмета’, но и его творение, согласно определенным мифологическим представлениям (М. Элиаде, Ш. Маламут).
Заметное место в искусствознании ХХ в. заняли исследования «наивной» живописи. Такие произведения, созданные непосредственно носителями традиции, интересны как самим художественным образом, так и спецификой раскрытия в нем фольклорного сознания. «Самодеятельные живописцы» отражают свое видение мира через значимые события (визуальный ряд, глубинная сущность происходящего) жизни не только своей, но и социальной группы в целом. В искусствоведении ХХ в. проявился устойчивый интерес к наивному искусству (например, творчество Н. Пиросмани, Е. Честнякова).
Современные исследователи повседневных практик (прежде всего — советского времени) активно прибегают как к вербальным/печатным текстам эпохи, так и к визуализированным изображениям (открытки, плакаты, лозунги). Оказывается, что фольклорные элементы народного сознания проявляют себя в разных планах выражения — вербальном, письменном, при помощи языка плаката, кино или в музыке, созданной профессиональными композиторами.
Сближение восприятия слова и изображения как явлений изоморфных не раз возникает в отечественной фольклористике, этнографии и искусствоведении (В. Я. Пропп, Ю. М. Лотман, А. В. Чернецов, Е. Б. Артеменко, В. Н. Топоров). Теперь мы подходим к одной из интереснейших и неоднозначных проблем искусствознания — как фольклорные образы реализуются в произведениях изобразительного искусства и насколько сильно здесь их влияние. При этом важна не только визуализации как таковая, но и ее пути и механизмы (В. Я. Пропп). Непрямолинейность и неоднозначность таких конверсий связана со спецификой переключения с одного выразительного языка (кода) на другой.
Слово и изображение соотносимы друг с другом. Это положение — не столько утверждение, сколько постановка вопроса: как и при помощи каких механизмов одна и та же информация воплощается в вербальном и изобразительном тексте? К его решению можно подойти лишь с позиции комплексного анализа источников, совмещающего методы разных научных дисциплин, при этом соотношение их должно быть равноправным. Требуется выбрать теоретическое поле, дающее возможность выполнить такое исследование и стать его фундаментом.
Основатель иконологического метода в современном искусствознании Эрвин Панофский наметил такой выход от отдельной научной дисциплины к многоаспектному познанию художественного произведения и его смыслов. По его словам, «именно в поиске внутреннего значения, или содержания, различные гуманитарные дисциплины встречаются на равных, вместо того чтобы оставаться друг у друга на подхвате».
Методологические основания. Сложность предмета исследования заставляет обращаться к разным методам:
историко-этнографический метод позволяет изучать феномен почитаемого места с учетом сложной этногенетической истории Северо-Запада России (А. С. Герд, Г. С. Лебедев);
синхронный метод дает срез традиции в конкретном месте в конкретное время и с учетом позиции носителей культуры (П. Г. Богатырев);
функциональный подход позволяет оценить почитаемое место как актуальный социальный институт (Б. Малиновский, Т. А. Бернштам);
структурно-типологический метод дает возможность выявить типологический уровень вариантов в определенной локальной культуре (Б. Н. Путилов);
структурно-семиотический подход позволяет сопоставить семантику словесного образа и изображение святыни (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров);
комплексный анализ культурных фактов. Одним из первых применил комплексный подход в исследовании народной религиозности русский философ первой половины ХХ в. Г. П. Федотов. Во второй половине ХХ в. этот подход развили лидер московской этнолингвистической школы Н. И. Толстой и его ученики — Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая, О. В. Белова, Е. Е. Левкиевская, А. А. Плотникова и другие, а также отечественные лингвофольклористы А. Т. Хроленко, Е. Б. Артеменко, З. К. Тарланов, С. Е. Никитина;
работа опирается на концепцию иеротопии (создание сакрального пространства) как особого вида художественного творчества, предложенную А. М. Лидовым.
Использован ряд конкретных исследовательских методик:
наблюдение (включенное и невключенное) при исследовании функционирования сети почитаемых мест Северо-Запада России. В 19942004 гг. были предприняты 20 полевых выездов для сбора материалов и корректировки полученных выводов;
интервьюирование — в ходе полевых исследований были опрошены примерно сто человек из пятидесяти населенных пунктов. На основе этих записей строятся наши выводы о месте святыни в жизни сельского населения в ХХ в.;
метод контент-анализа полученных текстов. При его помощи выявлялись концепты, наиболее значимые для осмысления текстов о почитаемых местах;
иконографический анализ и описание паломнического изображения и художественного произведения. Выделение устойчивых элементов, характерных для изображения святыни;
иконологический метод, при помощи которого стало возможно свести воедино результаты отдельных штудий.
В настоящей работе затрагивается ряд проблем, обусловленных вопросами изучения религиозности. В связи с этим мы ориентируемся на фундаментальные труды Л. П. Карсавина, О. А. Добиаш-Рождественской, П. А. Флоренского, Г. П. Федотова, А. Ф. Лосева, Э. Эванс-Притчарда и др. Важными оказываются работы последнего времени, посвященные исследованию народного православия (Т. Б. Бернштам, А. А. Панченко, А. Н. Розов, Т. Б. Щепанская).
Источниковедческая база и экспедиционно-полевые материалы. Ограничение исследования территорией Северо-Запада России, и конкретнее — севером Новгородской области и пограничных районов Ленинградской области, вызвано следующими причинами. Народная традиционная культура дана нам в многообразии локальных вариантов (Н. И. Толстой, В. А. Лапин). Следовательно, изучение взаимоотношения слова и образа корректно проводить с учетом определенной традиции, в нашем случае — северо-новгородской. Мы имеем возможность исследовать процесс воплощения важных концептов картины мира в определенных образах в пределах единой системы. Полученные результаты можно экстраполировать на другие территории с учетом их историко-культурной специфики. Север Новгородской земли предоставляется достаточно изученным в историческом, этнографическом, фольклористическом аспектах. Это дает возможность сопоставить народный нарратив и изображения одних и тех же объектов, что является важной методологической установкой и одновременно исследовательской базой.
Весь корпус материалов, содержащих интересующую нас информацию, можно разделить на следующие группы:
1) Народные нарративы о почитаемых местах в записях второй половины XIX — начала XXI в., в том числе полевые материалы автора (19942004 гг.). В них запечатлен образ почитаемого места
2) Русские народные религиозные картинки второй половины XIX — начала XX в., в первую очередь так называемые паломнические картинки — изображения святыни, выполненные профессиональными художниками и граверами
3) Изображения православных святынь в произведениях русской пейзажной и жанровой живописи (в наше время — и на художественной фотографии).
Научная новизна работы
1. Научная новизна работы прежде всего определяется комплексным искусствоведческим анализом, которому впервые в отечественной науке подвергнуты почитаемые/святые места Северо-Запада России. При этом учитывалась и анализировалась не только сама пространственно-территориальная сеть почитаемых мест и их типология, выявленная автором по материалам многочисленных экспедиционных поездок, но и широкий спектр религиозных нарративов, связанных с почитаемыми местами. Это так называемые малые жанры прозаического фольклора — предания, легенды, былички, приметы, «случаи» и т. п.
2. Понятие «картина мира» впервые используется для выяснения места традиционных представлений в системе художественного творчества, взаимовлияния народного и профессионального искусства. С этой целью всестороннему изучению подвергается сфера повседневных религиозных практик наших современников (на основе большого количества полевых интервью).
3. Методологически опираясь на немногие исследования, посвященные религиозному знанию простого человека («мирянина») и его месту в общей системе мировоззрения (Т. А. Бернштам, А. Н. Розов), автор настоящего исследования пытается выявить воздействие этой суммы знаний на глубинные процессы индивидуального художественного творчества.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Типология почитаемых мест Северо-Запада России, выполненная автором, показывает, что это реально функционирующая мировоззренческая система, занимающая важное место в жизни современного сельского населения.
2. Представления о том, как должно выглядеть почитаемое (святое) место, формирует картина мира носителей традиционной культуры. Эти представления составляют национальную специфику искусства.
3. Вербальное описание объекта почитания (нарратив) изоморфно его визуальному образу: они разными кодами несут исчерпывающую информацию о культурном феномене.
4. В творчестве значительной части художников существует образно-изобразительный пласт, восходящий к общему для национальной культуры представлению о мироздании (традиционной этнической картине мира).
Работа прошла всестороннюю апробацию на ряде конференций — конгрессах этнографов и антропологов России (2005, 2009), фольклористов России (2005), других международных конференциях («Рябининские чтнеия», «Полевая этнография», «Петербургские этнографические чтения» и др.). Отдельные положения исследования были обсуждены в рамках исследовательского семинара Российского института истории искусств «Среды в РИИИ». Опубликовано около трех десятков научных работ (опубликованных как в России, так и в странах СНГ), которые развивают основные направления диссертационного исследования.
Практическая значимость работы заключается в специфике предложенного подхода к анализу художественного произведения. Он позволяет выделить его фольклорно-этнографическую составляющую как целостную систему. В связи с этим положения настоящего диссертационного исследования могут быть применены как в научной работе, так и в педагогической практике. Собранные автором диссертационного исследования материалы служат сохранению и всесторонней популяризации духовных основ российского общества.
На основе работы был создан авторский курс «Этнография», прочитанный в рамках детской этнологической экспедиции «Родники» (20072009), проходившей под эгидой природного парка «Вепсский лес» (правительство Ленинградской области). Кроме того, был проведен целый ряд научно-практических семинаров, выступлений и консультаций для работников культуры Ленинградской области (20032010).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (191 наименование) и приложения (иллюстрации и полевые материалы автора).
Почитаемые места Средней Меты и Верхней Сяси
Феномен почитаемого места предполагает несколько аспектов исследования. С одной стороны — нарратив, включающий как отдельные высказывания, погруженные в поток разговорной речи, так и жанрово оформленные единицы повествования. С другой — образы святыни, различные ее изображения. Каждый из этих планов выражения, находясь в сложном взаимодействии с остальными, восходит к общему знанию о сакральном объекте.
Исследование процесса воплощения информации в словах и образах целесообразно проводить на основе данных из одного региона. Полученные результаты можно соотнести с ситуацией, сложившейся в других локальных традициях, определить общее и частное. В настоящем исследовании в качестве базового материала избраны почитаемые места северной Новгородчины, которые представлены здесь не единичными объектами, а сложной многоуровневой сетью сакральных локусов.
Исследование сети почитаемых мест предполагает минимум два ракурса раскрытия проблемы. Во-первых, функционирование ее как некой целостной системы. Во-вторых, комплексное описание отдельных узлов сети . Совмещение этих подходов может придать исследованию необходимую объемность. С конкретной точкой пространства связан комплекс верований, ритуалов, текстов. Вместе с тем, она — лишь «узел» в огромном континууме святых мест региона. Таким образом, частное может быть адекватно описано только на фоне общей системы и, наоборот, особенности функционирования системы почитаемых мест можно понять лишь через изучение отдельных сакральных локусов. Такие задачи поддаются решению только при сплошном исследовании почитаемых мест на определенной территории13.
В 1994-2004 гг. автор изучал систему почитаемых мест в районе Средней Меты и Верхней Сяси (Маловишерский и Любытинский районы Новгородской области, Киришский и Тихвинский районы Ленинградской области)14.
Географически изучаемая территория представляет собой несколько зон. Мстинская впадина сложена рыхлыми породами, что приводит к значительной пересеченности местности. Здесь реки образуют обширные долины, ручьи пробивают глубокие овраги. С востока примыкают поднятия Валдайской возвышенности. Территория к северу от Меты представляет заболоченную равнину, на которой выделяется рад крупных болотных массивов [151. С. 364-366]. Вся территория поросла хвойными и лиственными лесами, перемежающимися с пространствами зарастающих делянок. К концу XX в. население изучаемой территории сильно сократилось, прекратило существование большое количество деревень. В наши дни основные населенные пункты ориентируются на крупные дороги, проходящие через эти земли.
На этих землях в Средние века протекали бурные этногенетические процессы, связанные с контактами славянских и финно-угорских народов15. В итоге сложились отдельные локальные группы севернорусского населения. К нашему времени в исследуемом районе не осталось групп старожильческого финно-угорского населения. В XVII в. сюда переселяются карелы, пришедшие после отхода Швеции Невской земли [172. С. 12-26]. С XI-XIV вв. активно протекает христианизация края [98]. В XVII в. часть местного населения оказалась приверженцами старой веры (особенно характерно для карельских этноконфессиональных групп). В ходе моих исследований работа велась с русскими. Но это не выводит за скобки проблему межэтнических контактов на изучаемой территории. Она становится актуальна при сопоставительных исследованиях, отталкиваясь от которых, можно говорить о важности финно-угорского субстрата в сложении культуры местного северорусского населения.
В ходе полевых исследований мною был изучен фрагмент сети почитаемых мест на территории свыше шести тысяч кв. км. Собранная информация о почитаемых местах относилась к трем уровням святынь относительно их известности среди местного населения.
1. «Местные» святыни. Информация о них бытует в нескольких расположенных рядом деревнях, входящих в одну поселенческую структуру. За пределы этих деревень рассказы, как правило, не выходят, или они актуальны для жителей только небольшого круга населенных пунктов (они могут быть объединены родственными связями).
2. «Региональные» почитаемые места, привлекающие богомольцев с территории нескольких «кустов» деревень. Как правило, их информационный ареал соотносится с окружностью радиусом сорок-пятьдесят километров вокруг сакральной точки16.
3. Национальные святыни, известные на значительных территориях. Для почитаемых мест такого типа существует некоторая двойственность позиций.
Она заключается в четком разграничении отношения к святыне для «дальних богомольцев» и людей, живущих в непосредственной близости от нее. Разница, лежащая в плоскости «далеко — близко», формирует различное поведение человека у почитаемого места. Именно из-за этого трудно провести четкую границу между второй и третьей выделенными группами. Решающее значение имеет конкретное пространственное со-размещение святыни и человека.
В работе нас будет интересовать проблема описания почитаемого места в фольклорном нарративе. Для решения этого вопроса оптимально обратиться к изучению второй выделенной группе. «Местные» святыни (первая группа) исключаются из дальнейшего исследования по нескольким причинам. Во первых, они, будучи актуальными для небольшой территории, образуют самостоятельную подсистему сети почитаемых мест. Она требует отдельного и детального изучения. Во-вторых, тексты рассказов о «местных» святынях ничем принципиально не отличаются от основного объема нарративов, но могут привести к избыточности и громоздкости анализируемого материала. Приведем краткую характеристику важнейших узлов сети почитаемых мест исследуемого региона.
Почитаемый валун у деревни Колмыково (Маловишерский район Новгородской области). Камень располагается в 300-500 м от д. Колмыково на краю коренного берега реки Веребье. С запада культовое место ограничено оврагом. Священный объект, организующий пространство святого места, — камень-следовик . В XIX в. традиция возникновения следов была связана с прп. Зосимой Соловецким [83. С. 230]. При камне стояла часовня, где служили молебен в престольные праздники деревень Подгорье и Колмыково. Тут почитались два праздника: прп. Зосимы Соловецкого (27.IX/10.X ) и Ахтырской иконы Божией Матери (2/15.VII). В конце 1950-х гг. по всей Новгородской области прокатилась волна мероприятий по борьбе с местными культами [143]. Она не обошла стороной и колмыковский валун — его взорвали. Местные жители собрали воедино оставшиеся осколки камня, за чем последовало вторичное разрушение святыни. Теперь «камень» представляет собой груду осколков валуна, оформленную в продолговатую насыпь (по линии север — юг). В ее «изголовье» вкопаны три столба. На одном из них укреплено металлическое распятие. Сооружение обнесено деревянным забором, внутри которого расположены лавки и столик, используемый при молебнах.
«Кресточек» (Любытинский район Новгородской области). Почитаемое место находится на правом берегу реки Меты в сосновом бору в районе впадения в нее реки Мды. Один из основных отличительных его признаков — большой деревянный крест (возобновлен в 1990-х гг.). В связи с этим в народе место известно как «у Креста», «у Крестбчка». Здесь устроен столик для богослужений и навес от дождя. На деревьях, окружающих крест, повешены иконы. Около дороги, в нескольких метрах от креста, лежат два камня с выемками [185. С. 217, карта № 11], в которые богомольцы опускают деньги. В низине располагается источник. От стоявшей здесь когда-то часовни сохранились нижние венцы сруба. Сейчас рядом с ключом устроены мостки для набора воды. Стечение богомольцев происходит в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (14/27.IX).
«Спас» или «Спаситель», «У Спасителя» (Маловишерский район Новгородской области). Почитаемое место расположено в 25 км к северу от Малой Вишеры среди болот, рядом со Спасским озером. Местный праздник — Преображение Господне (6/19.VIII). До 1764 г. тут существовала Спасо-Оскуйская пустынь [5. С. 375; 42. 13. С. 266-269; С. 255, № Ю29]. После 1764 г. монастырские церкви переведены в разряд приходских. Во второй половине XIX в. здесь была построена новая кирпичная церковь, руины которой возвышаются среди болот до сего дня. В наше время почитаемое место Спас состоит из трех сакральных комплексов, из которых наиболее заметный, безусловно, — руины Спасской церкви. Ведущая по болоту тропинка выводит прямо к храму. В одной из ниш, выбитых в его стенах (осмотр 2000 г.), находилось блюдце с денежными подношениями «на свечку». В 200 м от церковного холма располагается озеро, на берегу которого видны следы купальни. Невдалеке от руин церкви, среди болота, на еле заметном песчаном холме, существует святой колодец, представляющий собой поросшую осокой яму квадратной формы. Над ним сохранилось гранитное основание воздвигнутого некогда креста (в советское время он был утоплен в колодце). На каменном основании были навязаны несколько «заветных» полотенец.
Мы: Люди и Народ
Важные признаки почитания святого места — массовость посещения и широкая известность. Человек не одинок в своих надеждах. Он отождествляет себя с той или иной группой людей, объединенных взглядами на мир. Начнем с самой масштабной категории, используемой в повествованиях о почитаемых местах. Она нашла емкое выражение во фразе «люди ходят». В каких смысловых контекстах употребляются наиболее обобщенные номинации богомольцев. Для этого используются два слова: «люди» и «народ» . Им соответствуют следующие действия или характеристики. люди — говорить, сказать. «А раньше кто... люди говорят, старики эти, что там Анфилофий вот жил тут...» (7); «Я слыхала эты Каменны Ворота, но это каки-то... старинные люди только могут сказать...» (40). люди — ходить, приходить, сходиться, подходить, идти, съезжаться, приезжать, ездить. «Там землянку вырыл и там и жил. ... Ну, к ему так ходили с добротой люди... Некоторы ходили — он принимал людей» ... (37); «Я говорю, да ни то, что на наш век, пусть, говорю, люди хоть пользуются эта... приходя, да хоть посмотрят» (79); «Ну, там должен кто-то жить, наверно. Вить уж как же? Так... туда... люди будут приезжать» (109); «Вот туда люди и сейчас вот ездят. ... Во Здвижев день. Ну, вить люди и так сходят» (231). люди —» заветать, ходить по завету. «И людей сколько заветали. Ведь наедут было, дак страшное дело сколько» (65); «Ведь вот ко Спасителю ходили.
Тоже по завету много люда ходило» (164); «Люди по завету тоже ходили, ходили» (221).
- люди — набирать I брать воду. «Люди ходили, этой воды набирали в бутылочки... мылись, эту воду пили» (170); «Люди брали водичку с этих копыт» (172).
- люди — купаться, купать. «Купались и люди и патом, значит, после этого купали лошадей» (95).
- люди — опускать монеты. «Наделаны [лунки] и, значит, люди... опускают [монеты]» (230).
- осветить, раздать — людям. «Вот в кадку болыну таку, накладут этих яблоков... РІ вот потом обсветя их и раздают людям» (9).
- люди — собрать I восстановить святыню. «Эта там одна, наверно, я ни знаю, какая часть этих камней собрана у людей» (181); «Да, люди вот собрали и патом они так взорвали, что вот потом люди-то вот это-то вот и собрали всё» (185).
Представленные действие и поведение «людей» соответствуют обязательным действиям в системе завета. Слово «народ» имеет схожее значение, но подразумевает принятость всеми людьми таких действий (социальную санкцию). Вместе с тем при помощи этого слова выражают процессы в обществе, которые так или иначе затрагивают существование святыни. Кроме того, это слово обозначает количество богомольцев.
- народ — идти крестным ходом. «.. .с этим крестами народ и идёт» (71).
- народ — собираться. «Там стоко народу собираецьй Там сто ко народу собираеца...» (228); «Народу очень много собираетца, конечно, в Здвижев день» (232).
- народ — ездить. «Народу, говоря, на машинах приезжают» (119); «У нас народ здесь автобус... автобус нанимают, машины: кто у кого чего, и туда ездят» (227).
- народ — сохранил. «Народ весь всё сохранил: не ликвидировали никуда» (100). К этому близко: «Свои порядки. Оны и народ... к этому порядку привыкал. А вить, когда пошёл беспорядок, значит всё, уже народ стал портиться» (33).
- народ — состарился. «Сейчас уже того нет. Во-первых, и народ состарился» (198).
- народ — тонул. «У нас озеро такое, народу много тонуло» (73).
Количественная характеристика: «Мало народу-то собираицы: идти-то не из-за чего. ... Много ходило народу, очень много» {11); «Народу-то много в Троицу писали... ... Да я была раза два, много было народу. А так не попасть всё. Много народу собираецы» (141); «Ну здесь вот осень была хорошая, и было очень народу много» (225).
Значения слов «люди» и «народ» в общем совпадают. Это касается места жительства, отношения к одной деревне, приходу: «Поля-то и в Скиту были хороши. Вот и жили стёпински люди» (18); «Жили-то там больше всё деревня Стёпкина... со Стёпкины народ-та» (11). То же можно сказать и о количественных характеристиках (много/мало): «Там очень было людно, напихавши народу, и около церквы народу столько было» (116) .
Наиболее массовая группа персонажей, связанных с почитаемым местом, обозначается как «люди» и «народ». Каждое из этих понятий по-своему отражает векторы взаимодействия крестьянского общества и святыни. Они определяют социальную санкцию «прихода» (по выражению А. А. Панченко) почитаемого места на «правильные» действия, которые приемлемы, апробированы «людьми» и «народом». Эта масса не дифференцируется на отдельные группы богомольцев. Слово «люди» связывается с ритуальным поведением, а «народ» — численностью и принятыми нормами поведения.
Анализируя характерные действия «людей» и «народа», мы в очередной раз сталкиваемся с эффектом «ускользающего» знания. Сокровенный смысл действия подразумевается, собеседник уверен, что его слушатель правильно поймет его фразу. Отмеченные глаголы обозначают общие смыслы. «Ходить», «купаться», «оставлять» могут быть адекватно поняты только с учетом общего знания о завете, его смысле и содержании. Каждое из этих слов может стать своеобразным ключом, который «потянет» цепь вербализованного объяснения. Например, глагол «тонуть» — «у нас озеро такое, народу много тонуло». Объяснение этой фразы выводит на мифологический уровень осмысления действительности и представления об особых святых озерах, требующих себе человеческой жертвы: «Да, через три года брало озеро человека» (73).
В повествованиях о почитаемых местах рассказчик, как правило, обозначает группу, с которой он себя отождествляет. Чаще всего она обозначается просто — «мы». Можно выделить несколько пониманий этой общности. «Мы» — это:
- группа людей, участвующая в событии (семья). «У нас там родственники были. Ну, вот я была там у них, в этот день» (150); «Вот я выкупалась. ... Ну, и другие стали - вот нас четверо ходило» (164). Здесь «мы» относится либо к богомольцам, делающим все «как надо», или к группе родственников, участвующих в «своем» празднике;
- деревенские люди — община. «Мы заветников всегда накормим. Ну вот, он пришёл, а там, видно, на праздники, дак зайдёт в любую избу» (78). «Вот у нас Спас был, дак у нас ecu. У нас не то что, дак у нас округ приезжал за сто километров» (131, см. 21, 147, 153, 190). В этом случае «мы» приравнено ко всему деревенскому миру, отражает единство его взглядов;
- поколение. «И мы вот... это как раньше... Мы маленькие интересовались. Было, у родителей спрашивам» (65); «Она как... война да после... как вроде того, что церковное-то всё отстало. Возраст наш... Ведь нам нечего не подсказывали» (75). Тут «мы» — поколение, связанное общей судьбой и отношением к вере.
Во всех трех случаях «мы» представляет собой группу людей, объединенных одним обычаем, знанием, равным социальным статусом и отношением к святыне. «Нашей» может быть и святыня: «Как жи! Рёконь наша! Наше царство]» (32); «Да-да. Это наша... наша часовня» (68); «Спаситель была церква наша» (128). Подспудно «мы» противостоят неким «им». «Они» могут быть просто «другими», жителями иной деревни, края, относится к старшему или младшему поколению. «Они» даже могут иметь враждебную, «иную» сущность: «Литва, видишь ли, она как там ни знаю как там... Дак, говорили, что она не наша, не русская, ходили ведь» (72).
Слово «человек» используется значительно реже, чем «люди» или «народ». Оно употребляется в двух случаях: Во-первых, при объяснении (предельно обобщенного) механизма завета: «Вот, если человек долго болеет, он завешает» (61). Во-вторых, при описании специфических реалий почитаемого места. Например, про след, похожий на отпечаток ступни человека на почитаемом камне у д. Колмыково, говорят: «Там не только один следок, там и животных следы, и человечий след» (179, см. 195, 196). Или туманное сообщение об Амфилохии Рёконском: «Вот говорили, что человек лежит головой на камню. ... Вот это он хочет быть святым» (53). На самом обобщенном уровне внимание уделяется массовости явления, указанию на обычай: как и что делают «люди» и «народ». «Они», в свою очередь, подразумевают другие, более дифференцированные группы.
Чудо исцеления
Наиболее цельной выглядит группа текстов, рассказывающих об исцелениях, произошедших на святом месте. По своей информационной значимости они наиболее функциональны, т. к. представляют собой примеры «правильного» действия и «открыты» для повторения другими людьми. Их можно представить своего рода «рекламой» почитаемого места, которая может распространяться на значительные расстояния, привлекая новых богомольцев. Все тексты строятся по одной схеме: болезнь —» молитва — исцеление
Информационность рассказа может усиливаться в зависимости от эмоциональности изложения. Все тексты распадаются на определенные информационные блоки. Охарактеризуем их по отдельности:
Отношение. Рассказ об исцелении — безусловно, правдивое повествование. Его функция — поделиться необходимым опытом и передать его другим для возможного использования. Все сказанное может быть кем-либо подтверждено (см.: 45). Рассказчик точно определяет свое отношение к излагаемым событиям. Особо отмечаются те случаи, о которых он слышал, но не видел.
Герой. В связи с установкой на достоверность требуется точно назвать действующих лиц «достопамятного происшествия». Персонаж может быть один, если к почитаемому месту обращается человек взрослый. В случае болезни ребенка, он всегда пассивен, активно борется с болезнью старший (как правило, мать). Из четкого указания на героя рассказа можно без труда представить характеры отношения между ним и рассказчиком — речь чаще всего идет либо о себе, либо о близких родственниках, соседях.
Болезнь — центр, отправная точка для рассказа. Обозначение основной недостачи здоровья. Событие, требующее необходимой реакции. Приводятся основные характеристики «хворобы», которые дают понять, что человек находится в крайне тяжелом положении. В рассказах об исцелении, как правило, не говорится о «простых» недугах. Серьезность болезни должна усиливать «чудесность» развязки.
Действие. Не всегда первая реакция на болезнь — правильная или исчерпывающая. Иногда упоминается о других попытках лечения, не приведших к желаемому результату. В одном нашем примере (172) болезнь просто купируется, вероятно, средствами домашней магии: «Я чего, что могла, то поделала». Часто такое «неправильное» (или «недостаточное», как в приведенном примере) действие упоминается лишь как усиления эффекта чудесной помощи, полученной от святыни. Схожий прием характерен для текстов, бытующих в так называемой прицерковной среде и связанной с ней литературе97. Обращение к врачам безрезультатно, завет и молитва на святом месте дает истинное облегчение страждущему. Возникает и «педагогический» подтекст, который порожден оппозициями верующий/неверующий, свой/чужой.
Совет. Человек получает совет, как поступать в его «сложном» случае. Такой поворот сюжета характерен для прицерковных кругов. Его единичность в наших материалах симптоматична. В крестьянской среде не было необходимости доказывать «единственно правильный путь» преодоления болезни. Не было болезненного противостояния «образованных» и «верующих». При этом совет, куда идти и что делать, может дать и сама святыня.
Завет. О понятии «завет» мы уже подробно говорили, поэтому не будем останавливаться на нем специально. Для рассказов об исцелении завет — ключевое понятие, действие, приводящее к желаемому результату. Объединение в единый комплекс обета, молитвы и действия выражает основной смысл рассказа. Это и есть то самое средство преодоления недостачи.
Событие. Факт свершившегося чуда (исцеления) передается не непосредственно, а через некое происшествие, которое оказывается знаком исполнения завета.
Исцеление. Исходная недостача должна быть компенсирована «правильным» поведением — болезнь навсегда ликвидирована. Это подчеркивается в рассказах указанием на то, что люди, которые прибегли к помощи святыне, «жили долго и счастливо». Такая конкретизация еще раз подтверждает правдивость рассказа — «теперь он за сорок с лишним лет»; «и он поправился у меня и до сих пор живёт»; «вот прожила шестьдесят семь лет». Указание на исцеление становится своеобразным «замковым камнем» для всего «свода» повествований.
Анализ текстов выявляет обобщенную схему рассказа: «герой — болезнь — завет —» исцеление». В начале представляются действующие лица, потом возникает главная интрига повествования. Существует еще несколько дополнительных компонентов. «Герой» может быть детализирован описанием «отношения» между рассказчиком и излагаемым событием. Важность «завета» раскрывается через (дополнительное неправильное) «действие» усиливается «советом». Обнаружению «исцеления» способствует «событие», которое переводит случившееся из «невидимого» в «видимое». Происходит акт своеобразного прозрения . Все это может быть представлено в виде схемы:
Последовательность этих блоков создает границы текста в массиве фольклорной/разговорной речи. Ожидаемость и повторяемость событий, построение рассказа по одной схеме выделяет изучаемые тексты из общего массива повествований о почитаемых местах.
Изображение святыни в живописи
Проанализируем произведения профессиональной живописи с позиции фольклорного знания о святыне и ее свойствах — феномена, который мы обозначаем как текст святыни. Отметим, что такие представления могли и не входить в «основную программу» художественного произведения, но мы вправе искать их за отельными образами. Само их появление могло быть связано с воззрениями на мир как художника, так и зрителя — интерпретатора произведения. Художник не отделен от общих стереотипов культуры своего времени. Мы остановимся на русской живописи второй половины XIX — XX в., в первую очередь пейзажной и жанровой.
Переживание пространства. Во второй половине XIX в. русская пейзажная живопись приобретает новые, несвойственные ей ранее черты. Они связаны с переходом к «двуплановой системе построения пространства — в отличие от классического пейзажа XVII-XVIII вв., рутинное построение которого требовало трех планов (условная кулиса, условный задник, а между ними — доминирующий средний план, панорама торжественно расстилающейся земли)» [36]. Изменения касаются самого восприятия пространства: пейзажная живопись внимательно всматривается в «картины русской природы». Искусствоведы отмечают две основные линии пейзажного искусства, начиная с 1860-х г.: «Одна из них, проникнутая пафосом гражданской скорби, была связана с обличительными тенденциями реализма; другая возникла из стремления передовых художников к утверждению в образах природы положительного идеала» [84. С. 9] .
Для нас крайне важна эта черта русского пейзажа второй половины XIX в. — он переживался и оказывался эмоционально связанным с родной землей — ее прошлым и настоящим, а также размышлениями о будущем. «В середине XIX века "русским" пространство делал сам факт его переживания изнутри, а не извне; а это значит — тактильно и эмоционально, а не визуально. Более того, чистая визуальность осуждалась культурой. Истинно русский пейзаж в этих представлениях прежде всего не является видом» [36]. Такое пристальное, отнюдь не отстраненное, вглядывание в свою землю неизбежно затрагивает целый ряд проблем, связанных со спецификой русской духовности.
Следовательно, мы вправе ставить вопрос о возможности присутствия текста святыни в, пользуясь термином иконологии, программе произведения. Или тех «характерных для определенной нации, эпохи, общественного слоя, религиозных или философских убеждений, которые были невольно восприняты одной личностью и отразились в одном произведении» [111. С. 32]. В свете наших задач необходимо проанализировать пейзажную живопись с точки зрения тех ключевых понятий, которые мы отметили при исследовании религиозного нарратива.
Вначале остановимся на одной особенности художественного изображения пространства. Она проявляется даже при первом сопоставлении изобразительного ряда произведений пейзажной живописи, с одной стороны, и реальным ландшафтом (в том числе и сакральным) русской деревни, — с другой. Ее можно назвать избирательностью внимания художника, акцентировавшегося на интересных для него объектах. Приведем два примера.
В творческой биографии В. Д. Поленова искусствоведы неизменно отмечают роль детских впечатлений, полученных в усадьбе Имоченицы (граница Олонецкой и Новгородской губ.). «С ее чудных берегов [реки Оять], — писал Поленов, — я вынес огромный запас художественных, физических и духовных сил. Живописным материалами, добытыми там, я пользуюсь до сих пор» [116. С. 7]. «С Имоченцами связаны первые дошедшие до нас пейзажные работы художника и этюды, отразившие незамысловатый крестьянский быт, — "Окулова гора" (1860-е гг.), "Холмы. Имоченцы" (1861), "Закат. Имоченцы" (1869), "Северная изба" (1870), "Внутренность избы" (1871) и другие. Насколько сильны были детские впечатления, связанные с жизнью в Имоченцах, свидетельствует одна из работ Поленова, написанная здесь в 1873 году, — "Имоченцы со стороны огородов". В самом мотиве, избранном художником, очень много от того детского восприятия, которое связано с "событиями" заднего двора. Изображены большие, почти сказочно разросшиеся овощи, которые чуть ли не больше фигур людей, работающих на огороде. Теплом и домашним уютом веет от залитой солнцем усадьбы, от размеренности ее повседневных буден. Не случайно собственный усадебный дом Поленова, построенный им на реке Оке, будет напоминать в плане дом в Имоченцах» [116. С. 7-8]. Пространное цитирование искусствоведческого исследования творчества В. Д. Поленова неслучайно. Избранная цитата, в сущности, исчерпывающе характеризует детские годы художника. Подобную информацию мы можно найти во многих текстах, посвященных пейзажисту . Искусствоведческая литература оперирует определенным блоком информации, характеризующим детство художника.
Как бы параллельно с только что процитированными сведениями оказывается, собственно, главное событие, связанное с Имоченицами на Ояти. В памятниках древнерусской литературы оно датировано 1383 г. «Потом чудотворная икона Владычицы явилась также на воздухе за сто поприщ от Тихвины на прежде упомянутой реке Оять, в неком селении, называемом Имоченицы. Чтобы видеть это непостижимое чудо, и сюда собралось множество христоименитых людей, приносивших прилежное моление Богоматери и принимавших Ее благодать. И здесь были дарования Божий: исцеления болящим и здравие страждущим от недугов» [56. С. 42] . Имоченицы — одно из мест явления иконы Божией матери на пути ее к месту своего пребывания — будущему Тихвину. В Средневековье в Имоченицах существовал монастырь [44. С. 161; 92. С. 9]. Почитание места сохранилось до сих пор. В 2007 г. установлен памятный поклонный крест.
Итак, в литературе Имоченицы упоминаются либо как одно из мест явления иконы Божией Матери Тихвинской, либо как имение, где проходили детские годы В. Д. Поленова. Крайне редко эти два факта осмысливаются по отношению к одной географической точке. Такая «параллельность» разных пластов информации об одном и том же месте, в первую очередь, объясняется избирательностью внимания художника . По каким-то причинам он не изобразил почитаемого места — одной из православных святынь Ояти. Это вывело из внимания искусствоведов проблему воздействия на художника сакрального ландшафта. Вместе с тем, на пейзажах В. Д. Поленова, запечатлены деревянные избы и лесные просторы русского Севера [116. № 59, 63, 68]. Этот случай показателен, но его невозможно назвать единственным. Например, Н. К. Рерих в специальном очерке «Марфа Посадница» [138] поэтически описывает почитаемый крест на Мете в Тверской губернии. Но ни на одном эскизе, наброске или картине художника мы не находим его изображения .
Можно предположить существование некой причины, в силу которой почитаемое место не становилось объектом изображения. Это утверждение можно распространить с пейзажа на жанровую живопись. Здесь мы находим явное тяготение как к этнографическим зарисовкам (например, работы В. М. Максимова), так и к изображению «древностей» вообще. Кстати говоря, такая ситуация отражает и общие тенденции в русском обществе того времени. Интерес был обращен к «археологии» в прямом смысле этого слова (исследование древностей). Этот процесс маркируют такие события, как организация Археологических съездов на рубеже XIX—XX вв. или издание
«Поэтических воззрений славян на природу» Н. А. Афанасьева . В том и другом случае наибольший интерес вызвала «живая старина». Деревенские же святыни на тот момент были глубоко инкорпорированы в систему приходской жизни. Здесь же внимание более привлекали многолюдные масштабные действа (см. например, Л. И. Соломаткин «Крестный ход», 1881; И. М. Прянишников «Крестный ход», 1893), чем отдельные объекты.
Пример не единственный. Например, описывая волховскую усадьбу А. Р. Томилова, в которой часто гостили живописцы, искусствовед Н. В. Мурашова недоумевает: «Казалось, художники, которых так гостеприимно принимали хлебосольные хозяева, должны были подробно запечатлеть усадьбу, но только в нескольких работах можно найти ее фрагментарное изображение» [97. С. 216-217].
Итак, в русской живописи второй половины XIX — начала XX в. мы не находим изображения почитаемого места, соотносимого с теми реалиями (конца XX в.), которые отражены в народном нарративе об этих объектах. Но это не снимает самого вопроса, а заставляет его сформулировать другим образом: как и какие объекты, связанные с православной верой, находятся в сфере интереса художников этого времени.
Святыня в произведениях живописи второй половины XIX — начала XX в. Возможно, поиск изображения почитаемых мест не оказался плодотворным еще и по такой причине: Русский религиозный нарратив XX в., проанализированный нами в предыдущей главе, описывал почитаемые места советского времени. Одни находились в «экстремальном» состоянии, доступ к ним искусственно ограничивался. Постройки у почитаемых мест методически уничтожались [143]. Часто только природный объект, например, источник или камень, оказывались их единственным «видимым» символом. Святыни же XIX в., напротив, были обозначены крестами, часовнями, церквями. Они воспринимались в единстве реалий православного прихода. На тот период объекты так называемого народного православия еще не выделились из совокупной массы «древностей» — с одной стороны. С другой, они могли быть поняты как признаки «суеверной необразованности» русского крестьянства. Так или иначе, русская живопись отразила восприятие культурного ландшафта художниками конца XIX — начала XX в.