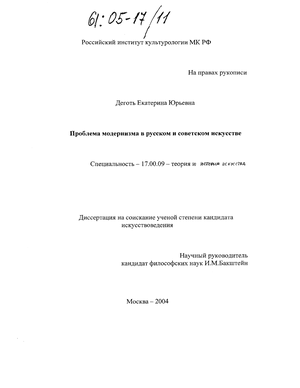Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 ."Заумный" проект 13
1. Кандинский и рождение абстрактного искусства 13
2. Футуризм, лучизм, всёчество 17
3. Владимир Татлин и выход из кубизма 23
4. Казимир Малевич: заумь и алогизмы 26
5. Алексей Крученых и его "заумные гниги" 31
6. Супрематическая революция 36
7. Ольга Розанова и круг Малевича в 1910-е годы 40
8. Матюшин и Филонов: ненасильственная альтернатива 46
Глава 2. Идеологический проект 56
1. Авангард и государство. 1917-1924 56
2. Символическая архитектура 61
3. Конструктивизм: лабораторный период 65
4. Беспредметное искусство 1920-х годов 71
5. Лисицкий и его "проуны" 78
6. Конструктивизм как интеллектуальное производство 81
7. Декоративный модернизм 88
8. Архитектура 1920-х годов: рационализм и конструктивизм 90
Глава 3. Синтетический проект 101
1. Институциональная политика художественных группировок (1921 — 1932) 101
2. Проекционисты: живопись после геометрии 106
3. Поздний конструктивизм: фотомонтаж и «фактография» 112
4. Новые реализмы 119
5. Альтернативы авангарду 125
6. Постсупрематизм Малевича 132
7. Социалистический реализм 137
8. Архитектура 1930 — 1950-х годов 146
Глава 4. Концептуальный проект 155
1. Институции неофициального искусства 155
2. Спектр подпольного модернизма 1950- 1960-х годов 161
3. Илья Кабаков и начало московской концептуальной традиции 167
4. Критическая картина 1970 - 1980-х годов 174
5. Соц-арт 178
6. Минимализм в визуальной поэзии и перформансе 184
7. Художественная сцена 1980-х годов 192
8. Начало постсоветского искусства 201
Заключение 207
Библиография
- Кандинский и рождение абстрактного искусства
- Авангард и государство. 1917-1924
- Институциональная политика художественных группировок (1921 — 1932)
- Институции неофициального искусства
Введение к работе
В течение XX века в России не существовало нормативной, универсальной истории искусства этого столетия: она была раздроблена на несколько различных (так называемые официальную, неофициальную, либеральную, локализованную за рубежом и т.д.), каждая из которых брала только часть материала, игнорируя другие. Актуальность данной работы определяется ожиданием такой универсальной истории искусства, которая позволила бы с определенной методологической позиции объединить феномены, разведенные в старых исторических нарративах. В связи с этим представляется необходимым обращение к понятию модернизма, которое в данной работе используется в узком смысле слова (искусство, специфическое для новейшего времени), а не в широком (эпоха модерна).
Специфика русского модернизма состоит в том, что он с самого начала осознает себя в качестве критического течения по отношению к западному модернизму, проявлением чего является в том числе и советская традиция использования слова «модернизм» как негативного определения. Эту традицию необходимо поставить в историко-теоретический контекст, исходя из анализа русского представления о модернизме как укорененного в западном и не являющегося вульгаризирующим или неправильным.
Исследование строится преимущественно на анализе произведений русского, советского и постсоветского изобразительного искусства, включая живопись, скульптуру, графику, объекты и инсталляции, а также дизайна, архитектуры, фотографии и разнообразной художественной документации, манифестов и теоретических текстов художников, архитекторов, поэтов в период с рубежа XIX-XX веков по конец XX века. Цель работы - проследить специфику русского и советского модернизма как исторически единого целого, выявить его характерные особенности и динамику при сопоставлении с классическим модернизмом Запада. Работа носит теоретический и концептуальный характер и не претендует на статус полной истории искусства указанного периода. Задачи исследования состоят в том, чтобы реинтегрировать понятие модернизма (в том смысле, в котором оно употребляется, например, Клементом Гринбергом и Теодором Адорно) в язык описания русского искусства, а также историзировать представление о русском и советском модернизме, поставить его в определенные исторические рамки, рассмотрев исторические парадигмы модернизма в искусстве России XX в и выявив особенности отдельных этапов как модернистских проектов.
Из главных теоретиков модернизма, методология которых является основополагающей для исследования, следует назвать К.Гринберга (Clement Greenberg), В.Беньямина (Walter Benjamin), Т.Адорно (Theodor Adorno) и
П.Бюргера (Peter Buerger). Поскольку все эти исследователи писали о западном модернизме, модернизме капиталистического мира, применение их подхода к русскому и в особенности советскому искусству немедленно и очень продуктивно обнаруживает ключевые особенности этого искусства. Так, сформулированный Бюргером имманентно-критический характер авангарда в системе капиталистического искусства в советском искусстве сохраняется, однако значительно радикализируется. Выдвинутое Гринбергом положение о медиакритическом характере искусства модернизма, о выявлении в нем «критериев» описания в виде отдельных конституирующих элементов произведения (плоскость, цвет, линия) сыграло роль отправной точки в предпринятой здесь попытке формулировки принципов русского модернизма как альтернативных, противостоящих этой медиакритичности. Эти особенности обретают институциональную поддержку в советское время, когда художественная система строится вокруг понятия медиальной репродукции, а не понятия уникального оригинала (ср. позицию Беньямина в его классической статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»).
Основным методологическим подходом в работе является исторический: исследование .проведено в горизонте метода нового историзма, применяемого прежде всего в американском литературоведении (С. Гринблатт). Эта методика исходит в основных своих положениях из того, что после долгого представления о конце исторического нарратива ("большого нарратива" по Ж.-Ф. Лиотару) в 1990-е гг. наука вновь возвращается к построению "историй" (уже не одной истории: происходит "мультипликация нарративов"), написанных с определенной точки зрения. Они универсальны по охвату материала, но (сознательно) специфичны по подходу.
Позиция автора диссертации заключается в том, что искусство рассматривается не как автономная сфера, а как институт, находящийся в определенных контекстах: культурном, идеологическом, философском, институциональном (именно эти контексты выбраны среди многих других как основополагающие для раскрытия темы данного исследования). В этом отношении автор солидаризируется с позициями В.Беньямина, П.Бюргера и американской школы искусствознания, концентрирующейся вокруг журнала «Октобер» (Б.Бухло в первую очередь, автор содержательного исследования о советском конструктивизме). Искусство исследуется как один из способов трансляции идей. С этой установкой связано и использование слова проект в качестве термина.
Термин проект, хотя и восходит к 1920-м годам («проун» Эль Лисицкого), по характеру своего современного употребления в искусствознании базируется на художественной практике 1970-1980-х гг. Хотя развернутой теории проекта не существует, характерна постоянная
отсылка авторов к инсталляции И. Кабакова "Дворец проектов". Из искусствоведов, применяющих аналогичный подход, должны быть названы прежде всего американские авторы Т.Дж. Кларк, И.-А. Буа и Р. Краусс, писавшие среди прочего и о русском искусстве XX в.
Таким образом, методологическая база работы в связи с ее задачами может быть описана в понятиях контекстуального анализа, построения новой интегрированной истории, историзации термина "модернизм". Предшественников такого интегрирующего подхода в отношении русского искусства рассматриваемого периода у данного исследования два. Это работы В. Паперного "Культура Два" и Б. Гройса "Гезамткунстверк Сталин"1. Обе они в той или иной степени повлияли на формирование методологии данного исследования.
Впервые точка зрения, согласно которой советское искусство, и социалистический реализм в частности, является наследником идей авангарда и одним из вариантов общемирового развития искусства 1930-х годов (но вариантом, претендовавшим на собственную абсолютность), был высказан в указанной книге Бориса Гройса (1988). Солидаризируясь с этой мыслью, автор настоящей работы хотел бы развить и конкретизировать ее. Тезис «социалистический реализм есть продолжение идей авангарда другими средствами» должен был дополнен анализом того, какими именно средствами этот проект был продолжен и почему именно такими (обращение к синтезирующей живописи). Кроме того, хотелось бы прописать подробнее ту линию русского авангарда, которая вела не через Малевича, а через его соратриков, представлявших, по сути дела, альтернативные программы (А.Крученых, Е.Гуро, М.Матюшин, О.Розанова, П.Филонов, в значительной степени и В.Кандинский) и выявить их влияние на советское искусство.
В работе В.Паперного «Культура Два», написанной преимущественно на материале архитектуры, история русского искусства и культуры в целом рассматривается как циклическая, как вечное возвращение одной из двух эстетико-институциональных моделей. Не разделяя идею цикличности и придерживаясь более историзирующего подхода, автор данной диссертации находит тем не менее противопоставление культуры рпаннего конструктивизма (Культуры Один) и синтетического реализма (Культуры Два) во многом весьма продуктивным; целый ряд положений Паперного очень точно описывают позиции этих - с точки зрения автора диссертации -двух стадий одного авангардистского проекта.
Целостное историческое рассмотрении изучаемого материала (русского-советского изобразительного искусства и архитектуры последнего столетия) в контексте мировой истории искусства требует усилия по расчищению авгиевых конюшен терминологии. Дело в том, что выражение
«модернизм» на протяжении века почти не звучало, а в вытеснившем его словосочетании "советское искусство" были без остатка стерты и географическая, и временная координаты. Искусство СССР (как, впрочем и предшествовавший ему русский авангард начала XX века) мыслилось как сверхисторическая, синтетическая уникальность, объединяющая в себе все лучшее из мирового художественного опыта, — за исключением параллельного ему западного модернизма, от которого оно решило быть резко отличным. Однако сама претензия на абсолютную новизну и выдает в советском искусстве часть мирового модернистского проекта.
Первые шаги к модернизму — постклассическому искусству — были сделаны европейским искусством в конце XVIII века, когда разорвалась безусловность связи искусства с двумя сферами его легитимного существования — церковью и двором. Искусство нового, буржуазного мира нащупывало свое институциональное поле, на котором возникли общедоступные музеи и коммерческие галереи, критическая пресса и свободный художник. Эмансипация искусства поставила вопрос о его статусе, и Гегель в своей написанной в 1820-е годы «Эстетике» пророчески поместил его в ряд науки и философии. Действительно, модернистское искусство, вырастающее из романтизма (который впервые провозгласил нетрадиционность в качестве художественного достоинства), постепенно становится своего рода философией или даже религией современности. Художник новейшего времени, одинокий новатор, отчужденный и от канонической традиции, и от не понимающей его толпы, доказательство своей гениальности находил лишь в принадлежности касте понимающих дух настоящего; единственной его родиной становилась современность. Идеологом модернистской революции стал Шарль Бодлер, в середине XIX века заявивший, что "современное искусство" требует особого таланта быть в настоящем и веры в ценности современного, — новизну, моду, урбанизм, скорость. Тогда же в живописи Эдуарда Мане стартовала стремительная пластическая эволюция, фабула которой состояла в выражении этой новой автономии, в освобождении формы от обязанности изображать: импрессионизм — сезаннизм — кубизм — абстракция.
Мощный финал этой пьесы, рождение абстракции в начале 1910-х годов одновременно в творчестве нескольких художников разных стран, стало высшей реализацией идеи автономии, в том числе автономии искусства как такового от его частных проявлений — картин и скульптур: "живопись с помощью своих сил вырастает до искусства в абстрактном смысле", как это сформулировано Кандинским 2. "Свои силы", или, как принято говорить в XX веке, средства, живопись обретает в результате дистиллирующей работы художника, который сводит картину к плоскости (а скульптуру — к объему). Произведение редуцируется к критериям его описания, а искусство становится критикой самого себя : предупреждая все
критические суждения, оно с горечью и стоицизмом заявляет о том, что средства его всегда ограничены, и оно всегда меньше того, что хочет сказать. Модернизм, таким образом, всегда драматичен, он построен на отчуждении, на дистанции между средствами искусства и его смыслами: он уравнивает искусство с языком, а произведение с текстом. Очевиднее всего этот "панлингвизм" в "Черном квадрате" Малевича — одинокой букве на белом фоне. Как и предсказывал Гегель, новейшее искусство отказывает зрителю в непосредственном удовольствии (он считал это концом искусства, его смертью), но уводит его в сферу рефлексии, давая пищу для размышлений о том, что есть искусство вообще.
Когда же запечатленный в произведении вопрос "что есть искусство?" принял форму вопроса "что же не будет являться искусством?", на сцену — это произошло накануне I Мировой войны — вышел авангард. Авангард — это стратегия не-искусства или, что то же самое, постоянная тематизация смерти искусства. Авангард оспаривает границы художественного; от модернизма он наследует утопию поступательного движения, но теперь это бесконечная радикализация, нескончаемое критическое преследование искусством самого себя 4. В авангарде вопрос о статусе искусства решается особенно радикально: он покидает область "искусства только" и выходит в область межпрофессиональной "вообще инновации", граничащей с литературным, политическим, философским, научным полем, а также тем, что принято называть жизнью. Если модернистская история XX века начинается с французского кубизма (1907), верного картине, то авангардная — с итальянского футуризма (1909), в котором поэзия, живопись, перформанс, политика, теория и поведенческие стратегии сплавлены воедино. Художник авангарда перестает мыслить отдельными произведениями и выступает с проектом, авторство которого нередко выходит за пределы одной личности. Манифестациями этого проекта выступают проекты в узком смысле — картины или их серии, трехмерные объекты или жесты, тексты или фотографии.
Короткая первая стадия авангарда, от футуризма до абстракции 1910-х годов, была разрушительной и креативной: мир был раздроблен на фрагменты, прочитанные в качестве знаков. Вторую волну авангарда, наступившую во всем мире во время и после I Мировой войны, можно назвать комбинирующей и манипулятивной, поскольку она посвятила себя уже не разрушению, но работе со знаками. Областью искусства стала не сфера производства форм (это скорее модернистская позиция), но сфера их потребления: аппроприация (присвоение), манипуляция (использование и частичное изменение), репродукция. Дадаизм и сюрреализм, главные феномены этой второй волны, критикуют модернистскую идею оригинальности и строятся на аппроприации любых художественных языков и реальных предметов. Практика "реди-мейд", экспонирования вещей
массового производства, была инициирована в 1917 году Марселем Дюшаном и во второй половине века стала методом столь же обычным, как в XIX веке живопись с натуры. Авангард всегда понимал себя в качестве критики модернизма (подвергая сомнению аксиомы авторства, линейного прогресса, элитарности), а после II Мировой войны, в искусстве поп-арта, концептуализма и направлений, которые называли себя "постмодернистскими", был поставлен вопрос о возможности продолжения модернистского проекта. Ответ на него — не "нет" и не "да", но необходимость длить сам вопрос. В конце XX века стало ясно, что модернистская идеология приобрела статус неуничтожимой основы современной культуры, главного объекта критических и апологетических апелляций — "нового христианства".
Россия XIX века, будучи страной, далекой от урбанизма и прогресса, модернизм заимствовала, создав локальные варианты модерна, импрессионизма и сезаннизма. Но русский авангард, начавшийся около 1909 года, стал совершенно оригинальным явлением, прежде всего в силу своего поразительного радикализма, постоянно потрясавшего свои собственные основы и выводившего искусство на новые и новые пути. Ни в одной другой стране не было создано столько гениальных произведений о смерти искусства и превращении его в текст, но нигде эта риторическая фигура не воспринималась столь страстно и буквально, порой в образах гибели, сожжения и гниения.
Причина этого в амбивалентности позиций русского авангарда. Хотя именно русский авангард стоял у истоков теорий мира-как-текста, достигших в XX веке колоссальной влиятельности (международный структурализм вышел из русской формальной школы, которую с футуризмом связала общая платформа — теория "заумного языка"), его спецификой был не только "панлингвизм", но и сильнейшая утопическая воля к преодолению любых отчуждений, в частности, средств искусства от его целей, то есть языка как такового. Высочайшей амбицией русского авангарда было абсолютно непосредственное, превозмогающее технику, воплощение мира — прежде всего мира идей — во всей его полноте. Западный модернизм, в частности, кубизм, осуждался за его негативный, расчленяющий характер. Воля к колоссальному синтезу проявились в лучизме и "всёчестве" Ларионова и Зданевича; они же определили масштаб супрематизма Малевича. Желание отрицать отрицание лежало в основе многого в русском авангарде 1910-х годов — "самописьма" Крученых, беспредметности Розановой, органической абстракции Матюшина, синтетизма Филонова. Главной мишенью уничтожающей критики была станковая картина, символ слишком ограниченного индивидуального творчества и потребления, и финальной точкой раннего русского авангарда стали сверхрадикальные, почти катастрофические решения об уничтожении картины, то есть
фактически искусства в его традиционном виде. В 1919 году Малевич отказывается от живописи ради прямого воздействия на человеческое сознание; в 1921 году Родченко задачей художника называет создание масштабного идеологического проекта; тогда же Татлин помещает искусство в контекст новых media (находившиеся в зачатке радио и телевидение), подставляя на место картины колоссальный медиальный проект (свою радиомачту-Башню). Все эти решения далеко опередили свое время, предвещая искусство конца XX века, участие художника в рекламе, media, политике, Интернете.
Представление об искусстве как части медиального проекта продолжилось в русском (уже советском) искусстве 1920-х — 1930-х годов. Хотя на поверхности лежало возвращение к фигуративности. (оно отнюдь не было чисто советским феноменом: реставрация целостного, не разрушенного изображения в 1920-е годы затронула искусство всей Европы), новое, поставангардное изображение было цитатой, реди-мейдом — особенно в СССР, где нехватка вещей массового производства искупалась изобилием готовых визуальных образов. Используя их, художники создавали идеологические и медиальные нео-иконы: с середины 1920-х годов языком позднего авангарда стали фотомонтаж (Родченко, Лисицкий), цитатная изобразительность (Малевич), тиражная репродукция (живописцы будущего социалистического реализма).
Специфика советского искусства окончательно определяется в этот момент через коллективизацию его авторов и зрителей, его нацеленность на одновременное восприятие массой людей. Советское искусство — это проект модернизма без отчуждения граждан друг от друга, искусства от жизни и зрителя от искусства 5; модернизма, этика, эстетика и институциональное устройство которого базируются на презумпции солидарности и добровольном отказе от критики. На институциональном уровне синтез призван был вылиться в форму единого союза художников (создан в 1932 году). На эстетическом — узнать себя в методе диалектического "развертывания" (термин Сергея Третьякова), видения жизни одновременно со всех сторон. Сильнее всего эта позднеавангардная синтетическая и "феерическая" эстетика рубежа 1920-х — 1930-х годов проявилась в тотальных пространствах, генерирующих экстаз единения: фотоинсталляциях Лисицкого, архитектурных проектах Мельникова, Ладовского, Леонидова, а также, уже в 1930-е годы, в кино. Кинематограф, с его потенциалом многомерной иллюзии и безграничными ресурсами массовой эйфории, легко принял на себя роль высшего воплощения амбиций советского искусства: именно кино сталинского времени — от Дзиги Вертова и Эйзенштейна до Григория Александрова и Михаила Чиаурели — является завершающей фазой позднего русского авангарда. Изобразительное искусство 1930-х — 1950-х годов, "социалистический реализм", также часть
позднего авангарда: оно наследует цели "развертывания", аппроприируя при этом стиль XIX века. И хотя внутри Союза художников наблюдались постоянные склоки и смены лидеров, в искусстве до конца 1950-х годов имел место фундаментальный консенсус относительно главных ценностей — образности (то есть оперирования визуальными цитатами), коллективного характера автора и зрителя и их отказа от критики.
После II Мировой войны всему этому начала выстраиваться альтернатива, радикальная часть которой по цензурным причинам в 1962-1987 годах имела статус "неофициального", то есть не выставляемого, искусства. Это искусство подвергло сомнению аксиомы образности и коллективности (абстракция 1960-х годов), а затем сняло запрет на критичность (московский концептуализм, соц-арт и минимализм 1970-х — 1980-х, посвятившие себя критике текста). Последний большой проект русского искусства XX века — концептуальный — исполнил по отношению к советскому искусству долг рефлексии, осознав и исследовав сделанные им выборы — в частности, в пользу тотальной фигуративности. Подведя итог под этой традицией и уже не завися от нее, в 1990-е годы искусство вступило в постсоветский этап, в котором впервые за все столетие заканчивается изоляция русского искусства, оказавшаяся для него одновременно мучительной и плодотворной.
Если сравнивать русское искусство XX века с хрестоматийным вариантом модернизма, который строится на логике "вычитания" и аскетизма, то очевидно, что с 1920-х годов и вплоть до конца XX века в нем действует обратная логика, — антиминимализм, возвращение к фигуративности (Малевич), эскалация всеохватности (Лисицкий), возвращение повествовательности (московский концептуализм). Противясь безотходной экономике целей и средств, русское искусство проявляет избыточность формы; традиционная внешность может поставить в тупик в сравнении с крайним радикализмом идей. Одной из причин этого была институциональная сторона истории русского искусства XX века, отличная от стандартного европейского варианта. Условия экспонирования искусства в XX веке — "белый куб", нейтральное выставочное пространство — породили "выставочность" самих произведений, демонстрирующих собственные средства б. Но Россия XX века до самого конца не узнала этих белых кубов. Искусство жило не в галереях и музеях, но в мастерских, на квартирах и дачах. На протяжении всего столетия частного рынка на искусство почти не существовало; больше, чем прагматическое выставочное и коммерческое объединение, значил круг, сращенный узами соратничества. Это, однако, не облегчало авангардистскую проекцию искусства в жизнь, а удлиняло путь: прежде чем предъявить требования жизни, искусство должно было очиститься от нее само, — возможно, отсюда поражающая в русском искусстве XX века готовность к самоотрицанию.
Примечания
1 Гройс Б. Утопия и обмен. Стиль Сталин. О новом. Статьи. М, 1993.
Паперный В. Культура Два. М., 1996.
2 Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992, с. 46.
См. об этом авторитетные труды Клемента Гринберга, прежде всего классическую статью "Towards a New Laocoon", впервые опубликованную в журнале Partisan Review, VII, № 4, New York, 1940.
4 Первой систематической работой об авангарде, до сих пор
сохранившей свое значение, была книга: Buerger P. Theorie der Avantgarde.
Frankfurt am Main, 1974.
5 Виктор Тупицын предлагает для такого модернизма плодотворный
термин "соцмодернизм". См.: Тупицын В. "Другое" искусства: Беседы с
художественными критиками, философами 1980- 1995. М., 1997.
6 См.: Krauss R.E. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist
Myths. Cambridge, Mass; London, England, 1986, p. 133.
Кандинский и рождение абстрактного искусства
Искусство XX века интернационально: художники и информация о них постоянно курсируют в разных направлениях, международные течения затмевают местные школы. На этом фоне русское искусство XX века выглядит то несколько изолированным (в начале и в конце века, когда лишь немногие художники были интегрированы в мировую систему), то крайне изолированным (в 1914-1920 и с 1940-х по середину 1980-х годов, когда даже для информации границы были непроницаемы). Именно в периоды сильной изоляции болезненным становился вопрос, считать ли частью русского искусства творчество художников, работающих вне России. Граница тогда выстраивалась (сознательно или бессознательно) не столько между "русским русским" и "зарубежным русским" искусством, сколько между художниками, получившими прижизненную известность на Западе (преодолевшими изоляцию), и теми, кто не снискал ее.
К первым должен быть прежде всего отнесен Василий Кандинский. В 1896 году в возрасте тридцати лет он внезапно бросил карьеру юриста и из Москвы уехал в Мюнхен учиться искусству. Там ему суждено было стать активным участником местной художественной сцены, организатором объединения «Синий всадник» (1911), главного оплота раннего немецкого экспрессионизма, и одним из пионеров абстрактного искусства. Кандинский так и проработал всю жизнь в Европе, за исключением периода с 1914 по 1921 год, которые он провел в России, уехав при первой же возможности, чтобы стать единственным (наряду с Марком Шагалом) знаменитым в мире художником российского происхождения. Но уже после своей смерти, в 1960-е годы, когда "русский русский" авангард получил мировую известность, Кандинский оказался в тени Малевича; живопись его стала видеться оплотом гуманизма в укор супрематизму и конструктивизму, которые в 1917-1921 годах были языком власти (Кандинский, действительно, менее охотно сотрудничал с режимом), но по той же причине он стал выглядеть менее радикальным и, значит, менее интересным художником, чем Малевич.
Однако значение Кандинского выходит за рамки открытия абстрактной "манеры": он не меньше, чем Малевич, является создателем основ современного искусства. Его книга «О духовном в искусстве» (1911), уже в 1912 году ставшая известной и в России, — без преувеличения самая влиятельная художественная теория столетия. Кандинский первым приструнил зрителя нового века, запретив ему ждать от искусства исполнения его обывательских желаний и потребовав судить творца по его намерениям, по степени "внутренней необходимости" его работ (главный термин книги): "Та картина хорошо написана, которая живет внутренне полной жизнью... Если художник живет живой жизнью души, то его подражание природе не может быть мертвенным ее воспроизведением" . С легкой руки Кандинского оправдание произведения его сходством не с прекрасной природой, а с прекрасной душой художника, стало банальным приемом безответственной художественной критики XX века, в том числе и советской. На самом деле "внутренняя необходимость" совершенно не доказуема, и в этом и состоит новация: зритель не может измерить ее, поскольку она есть не что иное как форма манипуляции его, зрительским, восприятием. Между средствами искусства и их воздействием устанавливается "планомерная" (тут Кандинский предвосхищает строгий голос Малевича) связь: "Цвет — это клавиш, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу" . Кандинский первым описал трехтактовый метод раннего авангарда: художник выделяет средства искусства; ему открывается их бессознательно-знаковый характер (Кандинским много написано о том, как действуют на человека различные формы и цвета); он строит из этих знаков новую систему, чье воздействие на зрителя уже находится, как верит авангард, под полным контролем художника. Книга заканчивается прогнозом (полностью сбывшимся): "Художник скоро будет гордиться тем, что сможет объяснить свои произведения, анализируя их конструкцию"3. Если художник утверждает, что все его действия намеренны, то он не может быть обвинен в неудаче; так он приобретает неограниченную власть над зрителем. Кандинский первым взял эту власть.
Путь Кандинского к абстракции лежал через символизм и экспрессионизм: он был одним из немногих русских художников начала XX века, кто пренебрег эффектным кубистическим приемом. Первые самостоятельные работы были созданы им в 1908-1909 годах в городке Мурнау: широко и ярко написанные картины с едва различимыми в них символистскими мотивами и евангельскими сценами. С 1909 года Кандинский делит свои работы на "импрессии" (выражение впечатлений от природы), "импровизации" (выражение впечатлений от "внутренней природы", души) и "композиции" (пик сознательных творческих амбиций). Композиция — синоним творчества, преодоление искушения "человеческим, слишком человеческим" фрагментом и титаническое созидание целого; ее наивысшим воплощением является абстракция, хотя художник пришел к ней не сразу. В импровизациях еще видны силуэты лодок, воинов, ангела с мечом, контур Небесного Града, в композициях 1909-1912 годов — трубящие фигуры и падающие башни: это сцены Апокалипсиса, необходимое развоплощение вещественного мира перед его новым, запредельным существованием. Распад указывает на то усилие отвлечения от материального, которое помогает художнику прозреть истинный облик мира. Поэтому вопрос, какая картина стала первой абстракцией Кандинского (на него нет ясного ответа), оказывается неверно поставленным: степень абстрактности определяется здесь способностью зрителя к аналогичному отвлечению, способностью "прозевывать предмет" (слова художника). Кандинскому всегда хотелось "не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить"4, и того же вращения — оно, как легко понять, делает затруднительным рациональное чтение форм, — требует он и от зрителя.
Абстракция не была для Кандинского однажды принятым решением о строительстве нового мира, как для Малевича и его последователей; для него каждая картина была новым актом внутреннего созерцания, расфокусирования мысленного зрения (он серьезно занимался теософской медитацией). Картины Кандинского вплоть до 1920-х годов сохраняют намеки на изображения даже в самых радикальных работах, например, в двух огромных полотнах 1913 года — "Композиции VI"5 и "Композиции № 7" (ГТГ), каждая из которых представляет собой мрачное видение космического потопа.
Авангард и государство. 1917-1924
Февральская революция 1917 года уничтожила главную институцию российской власти — самодержавие. Немедленно новые демократические институции стали создаваться и в искусстве, по образцу политических (символические "парламенты" деятелей искусств всех направлений) и социальных (их реальные профсоюзы). Часть мест и в тех, и в других завоевывают художники авангарда, или "левые" — этот термин, впервые прозвучавший в 1915 году, в 1917 году вытесняет слово "футуристы". Летом 1917 года левые художники разделяют либеральные лозунги, суть которых — свобода конкуренции на рынке: независимость от власти и выставки без жюри. Однако на буржуазном рынке авангард был неконкурентоспособен, что и явилось одной из причин того, что вскоре почти все художники этого круга поддержали социалистическую революцию. Для наиболее радикальных из них масштаб ее амбиций давал возможность выиграть на ином, нежели рынок, поле, — переписать всю прошлую и будущую историю так, чтобы занять в ней главное место.
В этот момент формируются две позиции, между которыми до начала 1920-х годов колеблются художники авангарда. По первой, "марксистской", художник должен, как пролетарий, сбросить цепи рыночного угнетения; это неизбежно означало переориентацию на государство как единственного мецената. По второй, "анархической", искусство должно создать свое государство и свое мироустройство. Малевич требует учреждения "мирового коллектива по делам искусств", "посольств искусств" в других странах и музеев "искусства творческого" по всей стране1. Фактически именно эта программа была после Второй мировой войны реализована на Западе: сеть музеев современного искусства, защищенных от массового вкуса, система международных форумов и даже "фабрика изготовления частей, чтобы разносить по миру, как рельсы" — дизайн как пропаганда авангарда. "Марксистская" же программа осуществилась в СССР, где художник на долгие годы получил защиту от рынка из рук власти.
В октябре власть переходит к большевикам, а в области культуры — к народному комиссариату просвещения под руководством Анатолия Луначарского. Желание сотрудничать с властью проявляют именно левые, вдохновленные идеей творчества на чистой странице истории. В Наркомпросе создается Отдел ИЗО под руководством вернувшегося из парижской эмиграции живописца-кубиста Давида Штеренберга. Уникальный шанс получает анархическая программа искусства как альтернативной государству системы: именно в эту сторону ведет реформа (1918), по которой петроградская Академия художеств преобразовывается в Свободные мастерские (Свомас). В Свомас принимают без экзаменов; обучение идет в мастерских по принципу мастер-подмастерье, или, по желанию, вообще без руководства. В семинарах участвует публика, порой многотысячная, а художники выставляются на улицах. Отдел ИЗО призывает объединить мировой авангард в Интернационал (национализм 1910-х годов к этому моменту преодолен). С наибольшей силой программу альтернативной партийности и государственности реализует Малевич в Витебске, создав там коммуну "утвердителей нового искусства" Уновис (1920 — 1921). Малевич воспринял революцию мировоззренчески и антропологически; новыми людьми и пропагандистами супрематической веры — по отношению к которой старая религия, новая власть и мировая революция выступали лишь как частный случай — должны были стать члены Уновиса, носившие на рукаве нашивку в виде черного квадрата. Малевич проповедовал уничтожение себя перед коллективом: работы художников Уновиса (в том числе и Малевича) были анонимными.
Однако все сильнее становится после революции и голос социально-политического, марксистского (уже в буквальном смысле слова) искусства. На этих позициях стояла созданная в 1919 году группа "Комфут" (коммунисты-футуристы: Маяковский, теоретики Борис Кушнер и Осип Брик, художники Натан Альтман и Штеренберг), получившая трибуну на страницах газеты "Искусство коммуны", издаваемой в Петрограде Отделом ИЗО (1918 — 1919, главный редактор — Николай Пунин). Согласно комфутам, художник должен осознать свою роль пролетария кисти. Вопрос о пролетарском, или социалистическом, искусстве широко дебатировался в это время, но что это такое, ясно не было. Просветительская организация «Пролеткульт», основанная при февральском режиме, в духе социологии XIX века видела в нем художественную самодеятельность рабочих. Левые художники утверждали, что всякая футуристическая картина носит пролетарский характер, так как она по своей природе коллективна, в ней нельзя выделить одну часть так же, как в толпе пролетариев нельзя выделить отдельное лицо. Теоретики-марксисты (Александр Богданов и др.) считали, что социалистическое искусство исключает понятие собственности, это не более чем фабрика по производству вещей (эта позиция получила развитие в конструктивизме). Наконец, Брик первым понял вопрос о пролетарском характере искусства как требование, призвав художника сознательно исполнять заказ победившего класса. Последняя точка зрения восторжествует в социалистическом реализме 1930-х годов.
В 1918-1921 годах поддержка государством нового искусства носит беспрецедентный характер. В отсутствие частных меценатов, после национализации выставочных площадок, Отдел ИЗО распределяет пайки, материалы, заказы на агитационные работы, устраивает выставки без жюри. Общественные институции сменяются государственными: объединение художников теперь конституируется не как круг собеседников и не как коммерческое предприятие, но как одно из подразделений Отдела ИЗО. В Отделе работают, среди прочих, Кандинский, Малевич, Татлин, Розанова, Родченко. По их инициативе организуются закупки современного искусства для Музеев живописной (или художественной) культуры. В них впервые, минуя мнение критики и потребителя (музеи создаются художниками), выстраивается история искусства XIX — XX веков, доказывающая закономерность авангарда. Эти первые в мире музеи современного искусства (то есть музеи модернизма) открываются и в провинции. Теоретические основания работе музея должна была дать другая уникальная институция — Институт художественной культуры (Инхук), открывшийся в Москве в мае 1920 года, государственный лабораторный центр под руководством Кандинского. К концу эпохи военного коммунизма (1921) почти все эти институции перестают существовать: закрываются Уновис и Свомас, Отдел ИЗО переподчиняется Главполитпросвету, который получает право политического вето. Складывается система государственного контроля и цензуры в области культуры. Анархический период заканчивается, как и монополия авангарда на право быть визуальным образом новой власти.
Окончание гражданской войны делает возможным отъезд художников за границу. Для таких фигур, как Коровин или Сомов, это была, без сомнения, эмиграция; сложнее обстоит дело с левыми художниками, особенно теми, кто и раньше был частью международной сцены. Кандинский и Лисицкий уезжают в Германию одновременно, в конце 1921 года, оба в статусе полпредов советского искусства. Первый вскоре принимает приглашение на работу в школе Баухауз в Веймаре, второй в 1922 году издает в Берлине (вместе с Ильей Эренбургом) два номера журнала "Вещь", задуманного как трибуна международного авангарда. Лисицкий в 1925 году возвратится в Москву, Кандинский уже не вернется. Однако и Кандинский, и Пуни, и Бурлюк, уехавшие из страны, до конца 1920-х сохраняют контакты с СССР. То, что позже эти связи прерываются, говорит не об их эмиграции, а о закрытости страны. В конце 1920-х годов выезд за границу и приглашение зарубежных художников на выставки становятся почти невозможными.
Институциональная политика художественных группировок (1921 — 1932)
1920-е годы представляют собой период относительного художественного плюрализма. Тематическая цензура уже сложилась, эстетическая — пока нет: государство могло контролировать лишь темы произведений, но не их форму, так как для последней, как признавала сама власть, четких критериев советскости пока выработано не было. В 1920-е годы на художественной сцене действовало множество группировок, хотя под этим понятием могли подразумеваться совершенно разные типы институций.
Авангард исходил из убеждения, что место искусства не на рынке, поскольку и индивидуальный зритель-покупатель, и картина, и сам рынок уничтожены вместе с буржуазным строем. Поэтому художники авангарда видели себя или научным коллективом (Малевич и Матюшин возглавляли такие коллективы в стенах ленинградского Гинхука, Филонов руководил группой «Мастера аналитического искусства»), или партией, трибуна которой — пресса, а не выставка (круг журнала "ЛЕФ", 1923 — 1925, и особенно "Новый ЛЕФ", 1927 — 1928). НЭП вновь позволил обращаться к частному человеку — как коммерчески, так и эстетически, и стали возникать новые выставочные объединения, либеральные по идеологии и коммерческие по своим задачам. Художники, как и десятилетием раньше, пытались опираться на издательскую практику: на основе частного издательства и журнала в 1921 году группой неосимволистов и религиозных художников во главе с Василием Чекрыгиным было создано первое либерально-консервативное объединение — «Маковец». «Бубновый валет» пытался возродить свое коммерческое выставочное предприятие под названием «Московские живописцы» (1924 — 1926), затем «Общество московских художников» (ОМХ; 1927 — 1932).
К середине 1920-х, однако, стало ясно, что частный рынок искусства не сложился, и новые группы начали делать ставку на государственные субсидии и протекции. Так, личной поддержки Луначарского удалось добиться либеральным «Четырем искусствам» (1925-1932), где нашли приют неоклассики с буржуазным художественным прошлым — живописцы, графики, скульпторы и архитекторы (Петров-Водкин, Фаворский, Мухина, Жолтовский, Щусев и другие). Группа делала акцент не на журнале, а на домашних вечерах с музицированием и литературными чтениями, а затем форма музыкального салона переносилась прямо на выставку1. В конце 1930-х либеральное искусство отступит именно в мир частного музыкально-артистического салона, который станет стилем жизни верхушки советской интеллигенции. Там же для него найдется хотя и ограниченный, но рынок.
Одной из последних либеральных группировок стала группа «Тринадцать» (1929 — 1932), однако ей пришлось существовать уже на иной основе — не коммерческой и не государственной. Ее участники разделили службу и творчество (многие имели постоянную работу ретушеров в газетах), и, опираясь на членство в профсоюзе графиков, сумели получить помещение для разовой выставки (затем удалось провести еще одну). Хотя инициаторы выставки (Владимир Милашевский, Николай Кузьмин) тщательно отбирали соратников, речь шла не о создании группы или движения (манифест не был написан), но просто о возможности публичного показа (не продажи) работ, для чего при усилении монополии власти на культуру была выбрана скромная площадка. Все это напоминает ситуацию неофициального искусства 1960 — 1970-х годов.
Художники «Маковца», «Четырех искусств», «Тринадцати» видели себя не столько выразителями новой эпохи, сколько продолжателями традиций станкового искусства, несущего в себе гуманистические ценности индивидуального. Левые же выступали за коллективизированного автора, массового зрителя, медиальность и пропагандистскую действенность произведения — и против станковой картины. Однако в середине 20-х годов появляется ревизионистское движение молодых выпускников Вхутемаса, тоже левых, которые полагают, что все искомое возможно и в новой станковой картине. Это была точка зрения группы ОСТ (Общество станковистов, 1925-1932), в которую вошли бывшие ученики Штеренберга (Александр Дейнека, Юрий Пименов и другие).
Особое место среди группировок 1920-х годов занимала «Ассоциация художников революционной России» (АХРР), которая вела собственную институциональную политику, предвосхитившую советское искусство 1930-х — 1980-х годов. Поначалу АХРР была скромным коммерческим предприятием, созданным от отчаяния группой молодых неудачливых передвижников; в начале 1922 года они обратились в ЦК РКП(б) с вопросом, в какого рода услугах есть нужда. Получив в ответ призыв идти в рабочую массу и исполнив ряд зарисовок на заводе, художники устроили выставку, однако продать ничего не смогли. После этого вожак группы Евгений Кацман переориентировал ее с частного покупателя на власть непосредственно. При поддержке Главполитпросвета (то есть вне сферы влияния руководителя Наркомпроса Луначарского) он основал Ассоциацию под девизом "героического реализма". "Героический" означало "мифотворческий" (в отличие от натурализма XIX века): АХРР, как и авангард, ставила перед собой задачу "организации психики грядущих поколений" , но не путем изобретения новых форм, а путем аппроприации различных манер живописи XIX века. Как и конструктивисты, АХРРовцы ориентировались на тиражированное искусство: художники видели себя сотрудниками медиального аппарата государства, отправлялись в командировки как корреспонденты газет, писали картины в расчете на их немедленное репродуцирование (для этого АХРР создала свое издательство) и даже экспонировали свои картины вперемежку с документами (впервые на выставке «Уголок Ленина», 1923, АХРР совместно с Институтом Ленина). Тематические выставки («Жизнь и быт Красной армии» и др.) финансировались политуправлением армии и профсоюзами, которые из картин ахрровцев составили целые музеи: по аналогии с музеями современного искусства, но на тематической, а не формальной, основе.
Если в 1918-1921 годах государство поддерживало авангард, то в 1922-1928 был высок авторитет либеральных группировок; линией партии было привлечение "попутчиков" на свою сторону . Ректором Вхутемаса в 1923-1925 годах был один из лидеров либерально-консервативного искусства Владимир Фаворский. Свертывание НЭПа, принятие пятилетнего плана в конце 1928 года и начало коллективизации в 1929 году изменили ситуацию коренным образом; представление о том, что советское искусство есть искусство коллективизированного автора и массового зрителя, стало общепринятым, но левые ошибочно восприняли это как свой триумф и реванш, удар по буржуазии и поворот к идеалам революции. Начало индустриализации создало спрос на плакаты и фотомонтажи — левое искусство пережило новый всплеск востребованности. В 1926 году ректором Вхутемаса стал теоретик-марксист Павел Новицкий, и традиционалисты оттуда стали постепенно изгоняться. Новицкий обязал студентов работать на производстве, но не в качестве инженеров (как при конструктивистах), а в качестве идеологических руководителей. Во главу угла была поставлена архитектура, а визуальному искусству отведена роль по ее монументальному оформлению. Весной 1928 года было создано последнее объединение левых — «Октябрь», куда вошли художники и теоретики (Клуцис, Лисицкий, Родченко, Ган), архитекторы-конструктивисты (Александр и Виктор Веснины, Гинзбург) кинематографисты (Сергей Эйзенштейн, Эсфирь Шуб), а также жившие в СССР представители международного левого политического искусства — венгр Бела Уитц и мексиканец Диего Ривера. «Октябрь» отрицал станковое "искусство для выставок" и требовал технологически и социально новых видов искусств: фотомонтажа и типографического дизайна, архитектуры и кино, монументальных росписей, оформления массовых празднеств и идеологического производства (плакатов, карикатур).
Институции неофициального искусства
После II мировой войны стало ясно, что проект коллективного советского искусства так и не стал тотальным, — а в его системе это означало не что иное, как тотальное поражение. Приватные формы существования искусства показали свою неистребимость. Старые частные студии (прежде всего Фалька и Фаворского); салоны коллекционеров, своего рода домашние музеи, где можно было увидеть авангард начала XX века, к этому времени удаленный из музеев официальных (салон Георгия Костаки); даже специальные хранения библиотек, где находились запрещенные цензурой книги, — ко всему открывался доступ при личном знакомстве. Членства в Союзе художников можно было избежать, работая в кружках для любителей; после войны культура, совершенно потерявшая коллективистский пыл, махнула на них рукой, и там стало можно заниматься даже абстракцией (студия Элия Белютина, с 1958 года), чего власть не запрещала, нуждаясь в управляемой оппозиции. Многие художники постсталинского времени (особенно те, кто прошел лагерь и ссылку) уже не идентифицировались с государством и желали расторгнуть для себя негласный договор, к которому сводилось советское искусство, — о коллективном творчестве, о делегировании смысловой стороны искусства институтам власти и об обязательной фигуративное.
Во время короткого периода либерализации, продолжавшегося от смерти Сталина (1953) до 1962 года, это нонконформистское (по отношению к соцреализму) искусство запрещено не было, но имело молодежный и "экспортный" статус. На московском Фестивале молодежи и студентов 1957 года молодые советские "авангардисты" увидели первую в СССР выставку современного американского искусства, что сыграло свою роль в формировании моды на абстрактную живопись. Впрочем, художественная свобода была ограниченной, и не слишком неожиданным оказалось переход этого искусства в статус запретного, которое произошло в конце 1962 года: на юбилейной выставке "30 лет МОСХ" в московском Манеже тогдашний лидер страны Хрущев назвал несколько работ антисоветскими, после чего публично выставиться для тех, кто не был членом Союза художников, стало так же невозможно, как вступить в этот Союз. В результате искусство, которое лишилось сферы публичности (стало "подпольным"), создало особую систему институций.
Подпольный характер искусства означал, что оно не располагает такими банальными приметами искусства новейшего времени, как нейтральные стены и зритель, не знакомый с художником лично. Средой искусства оказывалась не "белая" галерея, а "темное" коммунальное жилище, в котором творчество неразличимо с жизнью, а круг зрителей сводится к близким автора. При этом частный рынок у многих подпольных авторов 1950-х — 1960-х годов, в отличие от членов Союза художников, был; однако это был черный рынок, лишенный публичности. Покупатель (иностранный дипломат, тайно посещавший художников дома) приобретал не товар, а своего рода знаки страдания: ценность этическую, а не рыночную, и следовательно, абсолютную, а не исчислимую. Иначе и не могло быть в отсутствие физического и интеллектуального пространства сравнения в закрытой стране и закрытой культуре.
В начале 1970-х годов изменилось как институциональное положение неофициальных авторов в СССР, так и характер проекта в этой среде. Новое поколение начало борьбу за публичность и выиграло ее, хотя и парадоксальным образом. 15 сентября 1974 года несколько художников во главе с Оскаром Рабиным (в том числе Виталий Комар и Александр Меламид) попытались устроить в Москве бесцензурный показ картин на пустыре; власти преградили им путь бульдозерами, но позже (поскольку это вызвало скандал) выставку разрешили и даже открыли специальный, подконтрольный власти зал для художников, не располагающих членским билетом творческого союза. И все же эстетическим итогом "Бульдозерной выставки" стало не создание еще одного выставочного зала (возможности институции такого типа модернизмом были уже исчерпаны), но открытие более перспективного экспозиционного поля: эфира. Организаторы "Бульдозерной", учтя опыт диссидентов, эффектно передавали нужные им сведения в разных направлениях (властям — при помощи прослушивающихся телефонов, а западной прессе — через пресс-конференции), и институцией нового искусства стало в конце концов открытое пространство текста, информации, media. Этим свободным воздухом воспользовалось прежде всего поколение концептуалистов 1970-х — 1980-х годов.
Концептуализм во всем мире начинается почти одновременно — как искусство "после 1968 года" или "около 1968 года". На Западе, где 1968 год принес студенческую революцию, это был проект эры новой политической свободы и мобильности, эры странствий как авторов, так и произведений (последние, перестав быть громоздкими картинами и скульптурами, теперь легко помещались в чемоданах, а то и в конвертах). Но и в СССР, где 1968 год связан не с темой свободы, но с темой угнетения (вторжение советских войск в Чехословакию и, как следствие, начало диссидентского движения), происходило то же самое: диссидентская политика была программно антиизоляционистской, построенной на идее единства мира и на представлении о том, что даже "железный занавес" проницаем, — не для тел, так для идей. Диссидентское движение в СССР пошло по пути создания реальных медиальных каналов перемещения этих идей. Концептуализм разыграл тот же самый процесс в пространстве искусства. Именно в 1970-е годы художники создали свой печатный орган, журнал "А-Я", выходивший в Париже в 1979 — 1986 годах. Однако еще большее значение имело то, что коммуникация как таковая (диалог), место для нее (журналы, сборники), ее участники (зрители, комментаторы) — все то, чего не было, оказалось полностью выдумано поколением 1970-х годов, стало его проектом. Вся сфера коммуникации стала институцией и заменила сферу рынка. Местом для искусства в СССР в 1970-е годы перестала быть "темная" комната в коммуналке, но ее место заняла не "белая" галерея, а светлая мастерская на чердаке высокого дома (именно такие были у Ильи Кабакова и Эрика Булатова), где шли не выставки или купля-продажа работ, а обсуждения, диалоги и документация этих диалогов. Такая модель потребления, которая одновременно является и творчеством, — коллективная стимулирующая сама себя рефлексия — восходит еще к концу 1900-х годов и к "Союзу молодежи", который целью своей деятельности сделал самообразование.
В произведения все больше включались тексты, и наиболее оригинальной художественной формой (изобретенной в 1972 году Ильей Кабаковым) стал альбом, в котором рисунки перемежались комментариями к ним. Диалоги, доклады, статьи художников и философов (фигура критика все еще отсутствовала) издавались в машинописных сборниках тиражом в несколько экземпляров, где граница между искусством и текстом о нем оказалась уничтоженной, как и граница между текстом литературным и исследовательским. Самые важные "литературные памятники" такого рода были собраны Андреем Монастырским и его кругом: сброшюрованные тома "Поездок за город" (документация перформансов группы "Коллективные действия", издание начато в 1980 году) и папки и сборники МАНИ (Московского архива нового искусства, 1982 — 1988) с оригиналами произведений, фотографиями и машинописными текстами. В конце 1980-х годов поздняя концептуалистская группа "Инспекция Медицинская Герменевтика" довела потребность в комментарии до предела: работы группы состояли почти исключительно в самом скольжении диалога.