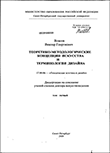Содержание к диссертации
Введение
Глава 1: Фотография: ранняя история эстетической адаптации
1.1. Против фотографии с. 37
1.2. «Реализм» и «модернизм» с. 43
1.3. Авангардные опыты с. 55
Глава 2: Искусство современной жизни vers. искусство жизнестроения
2.1 Поэзия современной жизни с. 69
2.2. К «коллективной, реальной и действенной культуре» с. 87
2.3. В защиту формального метода с. 103
Глава 3: Диалектика фотомонтажа
3.1. Конструкция и элемент с. 120
3.2. Фотомонтаж на основе супрематизма с. 134
3.3. Дадаистская концепция фотомонтажа с. 145
Глава 4: Поэтика и политика моментального снимка
4.1. Фотография против живописи с. 158
4.2. Отражение или искажение? с. 173
4.3. «Что» и «как» фотографии с. 188
Глава 5: От фотокадра к фотосерии
5.1. Чем скреплять внесюжетные вещи? с. 205
5.2. Вокруг фотосерии «Один день из жизни Филипповых» с. 216
5.3. «Гигант и строитель» с. 224
Глава 6: Документальный эпос
6.1. В сторону нового эпоса с. 237
6.2. Прошлое, настоящее и будущее с. 245
6.3. Деформации с. 257
Заключение с. 272
Примечания с. 292
Список литературы с. 304
Иллюстрации с. 321
Список иллюстраций с. 399
- Против фотографии
- К «коллективной, реальной и действенной культуре»
- Отражение или искажение?
- Деформации
Против фотографии
В ранний период своей истории фотография не считалась полноценной художественной формой, обладающей специфическими выразительными возможностями. Однако попытки повысить эстетическую репутацию фотографии и включить ее в сферу искусства предпринимались по крайней мере с середины XIX столетия. На протяжении почти полувека фотографы, которых не устраивал параэстетический статус их техники, осаждали - в основном безуспешно - цитадель контролируемого Академией художеств Салона и требовали признания своего ремесла в качестве полноценного средства выражения. Эта не слишком настойчивая и не слишком заметная борьба за признание фотографии велась параллельно другой, куда более прославленной войне, которую вели представители зарождающегося модернизма, предпринимавшие в те же самые годы аналогичные попытки. Но параллели этой никто не замечал. О консолидации усилий речи тем более не велось.
О том, как воспринимала эстетические претензии новой техники художественная общественность, можно судить по небольшому тексту Бодлера, включенному автором в обзор Салона 1859 года. Обличительный пафос этой статьи может показаться чрезмерным, учитывая обстоятельства, послужившие поводом для ее написания. Дело в том, что в 1859 году художественная выставка, традиционно размещавшаяся во Дворце на улице Монтень, переехала в более вместительный Дворец промышленности, где оказалась в непосредственной близости к выставке фотографий, расположившейся в том же здании, хотя и в другой его части. Бодлер отреагировал на это раздраженной филиппикой, обвинив своих современников в полной утрате чувства возвышенного, позволяющей им смешивать высокое искусство и одно из проявлений «мате-риального прогресса» . Сам Бодлер находит такое смешение недопустимым в силу взаимной антагонистичности этих двух сфер. Поэт не вдается в причины этого конфликта, но их реконструкция не составит большого труда.
Бодлер воспроизводит точку зрения романтиков, противопоставивших искусство основным тенденциям современного общественного развития вообще и товарному производству в особенности. Основной протест при этом вызывало распространение принципов капиталистической экономики на сферу духовной жизни. В перспективе подобного «расширения» художник попадал в положение, напоминающее положение индустриального рабочего, отчужденного и от средств производства и от конечного продукта и располагающего единственной собственностью - трудом, продаваемым на рынке, как любой другой товар.
По сравнению с этой деградацией положение средневекового ремесленника навевало ностальгические чувства - недаром в XIX веке предпринимались попытки возродить принципы цехового уклада или хотя бы воспроизвести его внешний фасад и общую эстетику. Разумеется, такие стилизаторские попытки были уделом слабейших и вызывали критику со стороны наиболее бескомпромиссных художников той эпохи, которые, напротив, стремились развернуть свое искусство лицом к современности, проникнуться ее духом и дать сражение, так сказать, на территории противника. Но оружие для этого должно было быть прежним — из арсенала классического искусства. Только в этом случае художник сохранял свое достоинство, даже невзирая на неминуемое поражение — как средневековый рыцарь с копьем наперевес против роты аркебузиров. Воспользоваться оружием противника значило бы отказаться от своего единственного преимущества — от трансцендентности искусства «материальному прогрессу» - и фактически перейти на его сторону.
Художник-романтик инсценирует в своем искусстве собственную гибель - гибель индивидуальности, терпящей поражение от некой безличной силы. В роли последней нередко выступает природная стихия или сопоставимый с ней по масштабу исторический катаклизм. Иначе говоря, романтик выбирает себе действительно достойного противника, от которого не стыдно принять роковой удар, и придает конфликту вневременной, космический масштаб - уж слишком негероическими кажутся коллизии современной эпохи. Поэтому сама современность должна была рассматриваться в контексте классической традиции - на этом основывается концепция «современной античности» у Бодлера, ключевую роль в которой опять же играют мотивы гибели и упадка — своеобразной деутилизации современности, оборачивающейся миром руин, эмблематических обломков26.
Романтизм пытался оградить сферу эстетического от вторжения новых технологий - машин, уже подчинивших себе сферу материального производства. Характерно, что у прежних исторических эпох мысль о частичной механизации художественного процесса не вызывала столь явного протеста. Напротив, художники Ренессанса и Постренессанса испытывали постоянный интерес к всевозможным «машинам», в частности, камере-обскуре, представляющей собой прообраз современного фотоаппарата. Художник-луддит - современник луддита-ремесленника. Однако антифотографический пафос раннего модернизма имеет и более глубокую причину. Для того чтобы разобраться в ней, приведу один относительно поздний пример.
В конце 70-х годов XIX века европейская научная и художественная общественность познакомилась с работами калифорнийского фотографа Идверда Майбриджа, демонстрирующими последовательность фаз движения человека и животных. Майбридж использовал технологию, включавшую в себя серию фотокамер, установленных вдоль беговой дорожки и срабатывающих в момент прохождения объекта перед объективом. Короткая выдержка (1/25 секунды) позволяла фотографу произвести анализ движения, разложив его на отдельные статичные моменты. Цель Майбриджа заключалась в том, чтобы установить точное положение тела животного в тот или иной момент движения. В 1881 году фотограф совершил поездку во Францию, где выступал с лекциями, сопровождая их анимированной демонстрацией своих работ (он использовал одно из приспособлений, хорошо известных его эпохе и позволяющих создавать иллюзию движения посредством быстрого чередования статичных картинок, - зоопраксиноскоп).
Исследования Майбриджа были поддержаны Филадельфийским университетом и Академией художеств, и в середине 80-х годов Майбридж провел серию опытов на ветеринарном отделении университета и в Филадельфийском зоопарке. В итоге было изготовлено 20000 стеклянных негативов, сгруппированных в 781 таблицу, демонстрирующую разные типы движения. Комплект был опубликован в 1887 году под названием «Движение животных: электрофотографическое исследование последовательных фаз движений животных, 1872—1885». Издание распространялось по подписке и среди подписчиков было много известных художников - Мейссонье, Бугро, Жером, Пюви де Шаванн, Роден, Мен-цель, Милле и др.
К «коллективной, реальной и действенной культуре»
Вся история авангарда представляет собой серию более или менее радикальных «переломов» и «разрывов» - и производственное движение есть результат одного из них. Однако этот разрыв кажется одним из самых решительных - ведь речь идет о программе самоликвидации искусства или, как выразился один из теоретиков производственного движения, Борис Арватов, перехода от «формирования идей» к «формированию вещей». В этой связи встает вопрос об отношении между беспредметным авангардом второй половины 10-х годов и конструктивизмом. В какой степени можно говорить о преемственности между ними, а в какой - о размежевании? Насколько конструктивистский поворот подготовлен имманентной логикой развития модернистского искусства?
В 1918 - 1920 годах идея отказа от станковизма и перехода к иным, проективным, формам искусства, направленным на преобразование самой реальности, разделялась почти всеми представителями радикального авангарда, включая обоих его лидеров и соперников - Малевича и Татлина. Современники склонны были противопоставлять «предметные», «материалистические» конструкции Татлина «концепту-альному экспрессионизму» Малевича . Для самосознания советского авангарда конца 10-х - начала 20-х годов Малевич и Татлин играют примерно ту же парадигматическую роль, что и фигуры Платона и Аристотеля на известной фреске Рафаэля. Один указывает на небо как на царство эйдосов — идеальных прототипов реальных вещей. Другой призывает обратить внимание на землю, на мир оформленной, организованной материи. Производственники вняли последнему призыву. Однако их отношение к «земле» было далеко не пассивным. Напротив, именно в связи с контррельефами Татлина критик Николай Пунин определил ту задачу, решению которой и посвятили себя конструктивисты: «Земля должна быть обновлена и пересмотрена, как статья устава»64. Земной порядок лишается незыблемости и постоянства: отныне он не предмет отражения, а поле для активной, преобразовательной работы. Различие между Малевичем и Татлиным - это различие между миром энергий и миром субстанций. Конструктивизм рождается из стремления свести эти два мира воедино.
Необходимой предпосылкой провозглашенного конструктивистами перехода «от организации идей к организации вещей» было свойственное авангарду понимание самого произведения искусства как некой вещи (а не копии, пусть даже самой вольной, других вещей), как автореферентной конструкции, честно демонстрирующей свое устройство и свое медиальное качество. На теоретическом уровне эта логика с максимальной четкостью была сформулирована Николаем- Пуниным в понятии «материальной художественной культуры». Под нею Пунин понимал «такую профессиональную организацию материальных элементов, специфических для каждого данного вида искусства, которая создала и создает тот остов, тот чисто материальный остов, каким является всякое произведение искусства» . В работах Татлина Пунин увидел шаг, ведущий за пределы иллюзорного картинного пространства в пространство самой жизни и открывающий перспективу полного преодоления отчуждения между искусством и реальностью, между индивидуумом и социумом, между созерцанием и действием. «Мы на пороге монистической, коллективной, реальной и действенной культуры [...], -писал он. - На обломках старой живописи, скульптуры и архитектуры вырастают новые роды художественного творчества; они стремятся населить мир не индивидуальными и прекрасными образцами-отражениями, а конкретными предметами. [...] Мир личности и вооб 66 ражения - там, здесь начинается мир коллективный и реальный» .
В этих словах уже содержится в сжатом виде та программа, которая будет развернута в текстах Осипа Брика, Бориса Арватова, Николая Чужака, Сергея Третьякова, Бориса Кушнера, Николая Тарабукина и других теоретиков производственного движения, работавших в сотрудничестве с художниками и писателями, еще недавно писавшими абстрактные картины и тексты на «заумном» языке. Возникает впечатление, что внутренняя логика развития модернизма в определенный момент приводит его к необходимости самоотрицания. А самоотрицание модернизма означает отрицание автономии искусства, на уровне художественной практики выражающейся в культивации «минимальных и необходимых» условий того или иного медиума.
Одним из поворотных пунктов в формировании концепции производственного искусства стала дискуссия о соотношении «конструкции» и «композиции», происходившая в начале 1921 года в Московском Ин-хуке среди будущих производственников. При этом ее участники уже исходили из убеждения, что такое различие существует, и связано оно с тем, что конструкция является формой организации материальных элементов, выражающей физический смысл отношений между ними, тогда как композиция носит более «идеологический» характер и навязывает материалу такой тип отношений, который физически ему не свойствен и потому менее эффективен. Некоторые участники дискуссии — в частности Александр Веснин — пытались проиллюстрировать этот тезис графическими средствами. Глядя сегодня на эти иллюстрации, мы не видим между ними никакой принципиальной разницы — и образцы «композиции» и примеры «конструкции» представляют собой типичные геометрические абстракции из динамических линий, штрихов и пятен. Разве что «композиции» носят чуть более неуравновешенный, «иррациональный» характер — но в сущности речь идет о вариациях в пределах единой формальной системы геометрической абстракции. То, что вырабатывается в ходе этой дискуссии - это не новая морфология, а новая программа. В соответствии с этой программой осуществляется переосмысление существующего формального арсенала. Происходит его трансформация - за счет использования новых материалов, за счет стремления минимизировать, унифицировать его в расчете на промышленное использование, а затем и путем внедрения новых технологий, отвечающих стратегическим задачам левого искусства.
Меняется и терминологический аппарат авангардистов. В частности, понятие «конструктивизм», взятое в качестве самоназвания группой наиболее радикально настроенных членов Инхука, к концу 1922 года уступает место таким терминам, как «производственничество», «производственно-утилитарное искусство» или «производственное движение». Смысл такого предпочтения вполне понятен. Конструктивизм — понятие стилевого характера, оно обозначает некий набор устойчивых формальных признаков, характеризующих определенный исто-рико-художественный феномен . Но авангардисты стремились не просто к размежеванию с другими художественными течениями - а к выходу за пределы истории искусства, понятой как история стилей и направлений. Отныне мерилом искусства должна было стать его практическое участие в «реальной жизни».
В начале 20-х годов авангард вырабатывает не столько новые художественные приемы, сколько новую установку в отношении искусства, соответствующую изменению точки зрения на его социальные функции, а главное, общему смещению внимания с уровня «эволюции» на уровень «генезиса», — назовем ее установкой на утилитарность и на социальный заказ. Хронологически (и логически) ей предшествовала установка дореволюционного авангарда, для которого решение узкоформальных проблем, связанных с выделением базовых основ языка живописи, означало соучастие в деле сотворения мира. Основная гипотеза, воодушевлявшая авангард начала XX века, состоит в том, что этот процесс не закончен, что он продолжается здесь и сейчас — и одна из главных ролей в нем отводится художнику.
Часто утверждается, что художественный авангард был своего рода саморефлексией искусства относительно собственных медиальных оснований, попыткой свести произведение искусства к тавтологичному утверждению своей фактической данности. Действительно, на протяжении всей истории модернизма мы сталкиваемся с такими попытками, наиболее последовательными среди которых можно считать попытки, предпринятые Малевичем, Мондрианом, Татлиным, Дюшаном, американскими минималистами 60-х годов и концептуалистами 70-х. Однако медиум искусства при этом понимается по-разному, и каждое новое его определение ведет к пересмотру конвенций, регулирующих художественный процесс. Изменяется само представление о том, что есть искусство и каково его отношение к неискусству. Например, в абстрактной живописи медиум идентифицируется с носителем художественного знака (картиной) и, соответственно, с теми качествами и параметрами, которые этому носителю присущи. Данное определение, в принципе, касается любой картины, в том числе натуралистической. Но художник-абстракционист стремится эксплицировать его и ради этого отказывается от иконической репрезентации. Следующим шагом в этом направлении является приравнивание картины к материальной конструкции, объекту, открыто демонстрирующему свою «сделанность». Соответственно, горизонт рефлексии смещается. Искусство теперь понимается не как отражение, а как производство par excellence, производство в его идеальном, неотчужденном, креативном, рефлексивном качестве. И опять же возникает необходимость «исправления» существующего, фактического порядка вещей, которое противоречит принципиальному тождеству художественного и материального производства. Программа жизнестроения и есть программа исправления этого «неправильного», т. е. изжитого, преодоленного в процессе развития производительных сил искусства, отношения искусства к «быту». Речь идет о том, чтобы установить соответствие между фактическими нормами и конвенциями культуры и абсолютной, универсальной нормой, формулируемой искусством в результате исследования собственных условий и границ.
Отражение или искажение?
Фотография оказывается одним из решающих факторов, предопределивших общую трансформацию модернизма в начале 20-х годов. Встреча с ней поставила перед искусством определенную проблему, которая не могла быть решена средствами классической модернистской поэтики. Прибегнув к некоторому упрощению, можно сказать, что классический авангард был сосредоточен на уровне означающих, рассматривая его как фундамент художественной культуры, основанной на те-матизации специфических качеств материала и способов его организации. В своем стремлении устранить раскол между означающими и означаемыми авангард принимает сторону означающих: семантика понимается им как производная от синтагматики, от чисто структурных отношений, складывающихся на поверхности знаковой системы. Модель монтажа, в основе которой лежит описанная выше дихотомия «конструкции» и «элемента», служит манифестацией этой установки и одновременно открывает возможность для ее преодоления и формирования новой эстетической парадигмы.
Почему же фотография не могла быть просто интегрирована модернизмом? Чтобы ответить на этот вопрос, следует понять, чем же фотография отличается от других форм изобразительности (прежде всего от живописи), что нового она привносит в мир визуальной репрезентации.
В качестве начального пункта анализа обратимся к одному из первых опытов теоретической рефлексии относительно феномена фотографии в авангардной культуре 20-х годов - к тексту Юрия Тынянова «Об основах кино». Характерно, что Тынянова мало интересует фотография сама по себе — он рассматривает ее лишь в связи с основной темой своего эссе. В отличие от кино, считает Тынянов, фотография эстетически неполноценна, поскольку присущие ей медиальные качества, которые могли бы стать базой для фотографической поэтики, противоречат ее основной «установке». Последняя заключается в «сходстве» фотографического знака с референтом, в то время как потенциальная эстетическая функция фотографии связана с деформацией означаемого материала. А для формалистов деформация тождественна оформлению, т. е. организации материала по правилам определенной медиальной грамматики.
Фотография (де)формирует свой материал прежде всего путем его рамирования, или, иначе говоря, выделения из неопределенной пространственно-временной протяженности. «Выделение материала на фото ведет к единству каждого фото, к особой тесноте соотношения всех предметов или элементов одного предмета внутри фото, — пишет Тынянов. - В результате этого внутреннего единства соотношение между предметами или внутри предмета - между его элементами - перерас-пределяется. Предметы деформируются» .
Добавим к этому, что фотография не только устанавливает рамку кадра, но и «вычитает» из реальности одно из измерений: трехмерный вещественный мир проецируется на двумерную плоскость. Между плоскостными элементами устанавливаются такие отношения, которых не существует между вещами. При этом плоскостная геометрия изображения одновременно несет информацию об устраненной глубине: мы реконструируем третье измерение, исходя из соотношения плоскостных компонентов. Отсюда можно сделать простой вывод: фотография является знаковой системой, подобной другим - а значит, обладает собственной синтагматикой. Иначе говоря, означающий уровень фотографии конституируется такими структурными отношениями, которые обладают определенной спецификой, не выводимой напрямую из обозначаемого ими порядка вещей. Как это ни парадоксально, но сходство икони-ческого знака с предметом есть следствие их различия.
«Несходство» между порядком вещей, к которому фотография обращается как к своему материалу, и синтаксическим порядком самой фотографии, между означаемым и означающим уровнем фотоизображения и является, согласно Тынянову, источником «деформации». Деформация же есть показатель искусства как такового. Отразить что-либо значит исказить. В обыденной практике мы склонны игнорировать данное обстоятельство, но искусство эксплицирует искажения, демонстрирующие непрозрачность языка. О чем бы ни говорило искусство, оно в первую очередь говорит о себе. Искусство деформирует свой материал, потому что материально само и при этом выступает как зеркало окружающей реальности. Подобное зеркало неизбежно оказывается кривым.
Такова модернистская точка зрения, ориентированная на выявление «несходства» и специфичности каждого медиума. А поскольку, как говорит Тынянов, «установкой» фотографии является как раз сходство, то и деформация исходного материала в ней оказывается ущербной (как ущербны, по его мнению, звуковое кино и книжная иллюстрация - ведь они тоже, хотя и разными способами, отрицают специфическую меди-альность искусства и маскируют эффект деформирующего преломления вещей в призме языка). Фотография как бы противоречит сама себе, и это не позволяет выстроить полноценную фотографическую поэтику, базирующуюся на выявлении определенных медиальных параметров. Категория сходства подавляет автономную работу означающих.
Но попытаемся понять, в чем состоит это «сходство». Тынянов не дает на этот счет никаких разъяснений. Возникает ощущение, что он просто некритически воспроизводит общее мнение относительно фотографии, которое, впрочем, само по себе является важной частью ее эстетического потенциала.
Правильнее было бы сказать, что не сходство как таковое является внутренней установкой фотографии, а то, что между знаком и референтом в данном случае существует отношение прямой причинно-следственной связи. Фотография есть не изображение, а отражение предмета - в этом ее отличие от самой натуралистически-точной живописной картины или рисунка. Это означает, помимо прочего, что если рассматривать фотографию в рамках системы иконической репрезентации, то она не привносит в эту систему ничего принципиально нового: фотография остается картиной, и по отношению к ней справедливо все, что касается особенностей структурной организации картинных означающих. Однако в самом средоточии иконического изображения с его диалектикой сходства и различия в фотографии обнаруживается индек-сальное отражение — след, эманация самой реальности. Как заметил Ро-лан Барт, «фотография как бы постоянно носит свой референт с собой»137.
Строго говоря, живопись (и вообще «рукотворные» средства выражения) также двойственна по своей природе: наряду с иконическим означиванием в ней присутствует также индексальный уровень. Ведь любая картина несет информацию не только об изображенном предмете, но и о технике и процессе своего создания. Любая картина является следом активности художника. Нетрудно заметить, что на протяжении всей истории европейской живописи нового времени значение этого индексального уровня в целом возрастает. Если искусство эпохи Возрождения стремится свести значение чисто живописной текстуры к минимуму, сделать поверхность картины как можно более однородной и, если так можно выразиться, индексально неинформативной, то в эпоху барокко живописцы все чаще тематизируют именно этот уровень живописной репрезентации. Живопись Хальса или Веласкеса как бы обнажает технику создания картины. Еще в большей степени это верно по отношению к живописи импрессионистов. Наконец, абстрактная живопись, полностью исключающая из картины иконический уровень означивания, в некоторых своих версиях тяготеет к окончательному превращению в индексальный след технологического процесса. Так, Род-ченко в серии «Черное на черном» дифференцировал картинную плоскость, прибегая к различным технологиям обработки монохромного красочного слоя и тем самым создавая разницу фактур. Но это превращение неразрывно связано с отказом от изобразительности.
Действительно, индексальная функция живописной репрезентации, так сказать, противоположна ее иконической функции, так что речь может идти лишь о достижении некоторого баланса между ними (как в искусстве барокко). Ведь индексальное означивание в живописи — это означивание не объекта, а субъекта - активной, одушевленной силы, вступающей во взаимодействие с косной материей и преображающей ее. Материал искусства приобретает даже определенную содержательность и начинает выражать значения, не выводимые напрямую из сюжета (впоследствии Кандинский попытался выстроить на этом фундаменте целую теорию «духовного в искусстве» ). 1 ак, сравнивая живописную технику мастеров барокко, Борис Виппер говорит о «мощных, но мягких» мазках Рубенса, «взволнованных и бурных, как бы взрывающихся» Ван Дейка, «жалящих и меланхолических» Хальса, о «чувственности» синего у Мурильо и «нереальности», «бестелссности» того же цвета у Эль Греко...
Деформации
Проект конструирования коллективного субъекта задействовал глубоко архаические пласты смысла, в особенности неожиданные в контексте использования новейших средств репрезентации. Рационализм и утилитаризм производственного движения отнюдь не исключает мифологизации. Так, Лисицкий в одной из своих работ (плакат к советской выставке в Цюрихе) методом двойной экспозиции совмещает изображения мужского и женского лица, воскрешая тем самым платоновский миф о первых, «удвоенных» людях, позднее разделенных пополам, но сохранивших волю к единению. В другом фотомонтаже Лисицкого это шарообразное тело - символ абсолютной полноты — оказывается изображением земного шара, образованного решеткой параллелей и меридианов, внутри которой помещены рабочие, конструирующие это тело.
Практикуя методы «деканонизации» или, как пишет Родченко, постоянного «изменения достигнутого», авангардисты не останавливаются на культурных конвенциях. Естественный, природный порядок — в частности, структура человеческого организма - также подлежит пересмотру. Эта сторона производственнической поэтики заслуживает особого внимания по двум причинам. В ней проявляется, с одной стороны, принципиальное расхождение советского авангарда и официальной сталинской культуры, а с другой - его связь с другими (по сути альтернативными конструктивизму) проектами в авангардном движении 20-30-х годов.
В период массированной критики «формализма» критик Л. Авербах писал о «Пионере» Родченко: «...он снимал пионера, поставив аппарат углом, и вместо пионера получилось какое-то чудовище с одной громадной рукой, кривое и вообще с нарушением всякой симметрии тела» .
Прислушаемся к этому замечанию: разве не уместна эта аналогия с патологией, с телесной деформацией? Такие ассоциации нередко возникают в фотографиях Родченко - можно вспомнить, к примеру, деформированное, монструозное лицо «Горниста» или «Прыжок в высоту», где тело нырялыцицы утрачивает антропоморфные черты, становится похожим на какой-то странный летающий аппарат и одновременно на куколку насекомого в состоянии метаморфоза.
В 30-е годы тема телесных де- и трансформаций становится одной из центральных в искусстве (особенно для художников сюрреалистического круга). По мнению Бориса Гройса, интерес к этой теме является закономерным продолжением авангардного проекта: тело полагало границу экспериментам, направленным на преобразование реальности. Сделать тело трансформируемым, пластичным, податливым — значило бы сломить сопротивление самой природы . Это замечание справедливо, но требует уточнения. Источник сопротивления, косности, с точки зрения авангардистов, следует искать не в природе вещей как таковой. Напротив, сущность этой природы - в бесконечной креативности, которая подобна всепорождающей и всепожирающей стихии огня, «мерно воспламеняющегося и мерно угасающего», у Гераклита Эфесского. Вещи представляют собой отчужденную форму существования огня: произведенные им, они заставляют его отступить, угаснуть. Задача авангарда — снова разжечь это пламя, возобновить процесс творения, необходимым условием которого является уничтожение уже сотворенного.
Кандинский в своих, лишь на первый взгляд «абстрактных», картинах инсценировал этот процесс разложения вещей на первоэлементы цвета и формы. Малевич мечтал о возникновении новой, супрематической, природы, новых форм жизни, созданных энергией всемирного динамизма, и называл свой «Черный квадрат» (пепел всех когда-либо написанных картин) «живым царственным младенцем» - мессией супрематического царства. Конструктивисты попытались реализовать эту задачу методами трезвой и планомерной работы по созданию «реальной и действенной культуры». Однако возникало опасение, что такая культура будет порождением не столько «всемирного динамизма», не столько универсальной, трансисторической «интуиции», сколько исторически ограниченной и ныне уже устаревшей формы человеческой рациональности - в том виде, в каком она сформировалась в новое время. Это опасение сквозит уже в малевичевской иронии по поводу «булочной культуры» и в его полемике с производственниками.
Но в особенности благодатной пищей для такого сомнения - и, соответственно, для поисков альтернативных путей - служили социологические и этнографические исследования. Они показывали, что законы функционирования экономики, политики, культуры и даже человеческого мышления отнюдь не сводятся к понятиям и принципам, выработанным европейской цивилизацией. В институтах и ритуалах архаических обществ авангардисты нового поколения нашли источник вдохновения, целью которого по-прежнему являлось радикальное преобразование реальности, построение нового общества, нового человека. Но это общество конституируется уже не законами рационализма и утилитаризма, а взаимодействием куда более универсальных сил бытия — столь же созидательных, сколь и разрушительных. Разработка такого «альтернативного» проекта жизнестроения была целью знаменитого «Коллежа социологии», созданного в 30-е годы французскими интеллектуалами -так называемыми «диссидентами сюрреализма», отколовшимися от сюрреалистического мейнстрима235. Один из учредителей этой квазиинституции, Роже Кайуа, так сформулировал присущее данному кругу понимание законов, определяющих жизнь общества:
Общество, как и отдельные люди, руководствуется не абстрактными соображениями о справедливости и разуме и не утилитарно-приобретательскими мотивами. В нем тоже царят законы жизни и страсти. [...] на уровне целого общества закон интереса и даже инстинкт самосохранения являются не хозяином, а рабом, ... здесь, как у отдельного индивида, жизнь беспощадно осуществляет свой жестокий императив экзальтации23 .
Теоретическая работа совмещалась «диссидентами сюрреализма» с художественной практикой, в основе которой лежит своеобразная антропологическая и эстетическая концепция, наиболее последовательно разрабатывавшаяся Жоржем Батаем. Ключевую роль в данной концепции играет понятие бесформенного, «исполненное презрительной силы, относящейся к общей предпосылке, согласно которой все должно иметь форму»237. Как утверждает Розалинд Краусс, изучавшая влияние идей Батая на таких художников как Альберто Джакометти и Ханс Беллмер, речь идет не только и не столько о преодолении пластического пуризма и механицизма в духе геометрической абстракции или раннего конструктивизма, сколько о смешении и взаимообращении понятий, «невозможности определения как такового, обусловленной стратегией буксования в рамках самой категориальной логики, логики, построенной на самоидентичности» . Так что принцип «бесформенного» может быть осуществлен и в рамках «пуристской» и «рационалистической» эстетики. Дело в том, что в сюрреализме категория «формы» как таковая дисквалифицируется, лишается определяющей роли.
Бесформенное, примерами которого у Батая служат «паук и червь»239 (образы, стирающие границу между жизнью и ее отходами), в конечном счете манифестирует вечное бытие материи, оставленной сознанием и обладающей ничем не ограниченным метаморфическим потенциалом, способностью принимать любую форму и тут же с ней расставаться. Иначе говоря, понятие «бесформенного» является частью радикального материализма — веры в вечное бытие тела по ту сторону телесных границ. Распад, деструкция, фрагментация понимаются здесь как источник креативности.