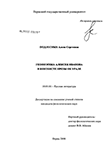Введение к работе
Данная работа представляет собой попытку рассмотрения творчества Эдгара По с точки зрения традиционной мистики. Прежде чем обратиться к основному предмету, укажем, что мы подразумеваем под выражением «традиционная мистика».
Мистицизмом в широком смысле слова можно назвать любой способ познания мира, отличный от рационального, т.е. такого, который имеет дело с понятиями и выражается в формах научных и философских дисциплин; мистицизм принципиально «антипонятиен» и антилогичен, что неоднократно приводило к тому, что этим термином пользовались как бранным словом, забывая об одном важном моменте - мистицизм не только противостоит рационализму, он еще и претендует на превосходство над ним. Мистицизм, согласно определению его сторонников, есть высшее знание, устраняющее все противоречия между интеллектуальной и эмоциональной сферой; он отбрасывает все понятийные категории только по той причине, что не видит за ними никакой реальности, а вовсе не из-за своей мнимой склонности к сумбурным и хаотическим «переживаниям», которую ему часто ставили в вину (подобные «переживания» следует отнести скорее к области псевдомистицизма, о котором речь пойдет ниже). Настоящий мистицизм всегда является попыткой целостного переживания мира, и у нас нет никаких оснований утверждать, что такое переживание в принципе неосуществимо.
Последние три века европейской истории, как достаточно хорошо известно, были временем почти безраздельного господства рационализма, который ныне переживает довольно серьезный и.возможно, окончательный кризис. На протяжении этих трех веков предпринимались самые разнообразные попытки рационального «объяснения мира», история взаимной смены которых является наглядным доказательством принципиальной бесплодности усилий подобного рода. Наш век в этом смысле является неким поворотным пунктом, поскольку реакция против рационализма приняла в нем такие размеры, которые позволяют говорить о ней как о довольно значительном культурном явлении, находящемся на уровне, который был немыслим, например, в прошлом столетии. Говоря иными словами, в двадцатом веке европейский мир заново открывает для себя традиционную м и с т и к у, хотя процесс этот, как всегда и бывает в подобных случаях, в немалой степени осложнен всевозможными побочными явлениями.
Что же такое «традиционная мистика»? В «Философском энциклопедическом словаре» в статье «Мистика» мы находим перечисление практически всего, что может быть определено этим понятием: учение «Упанишад», даосизм, неоплатонизм, суфизм, каббала, исихазм и т.п. (23, с.368). О существенном родстве между всеми этими учениями говорилось так много, что нам нет никакойц необходимости еще раз останавливаться на этом; основная проблема для нас заключается в том, чтобы «перекинуть мост» между этими традициями и современностью.
Попытки такого рода предпринимались и предпринимались довольно успешно -мы можем сослаться на труды Рене Гено-на, Ананды Кумарасвами, Анри Корбена, Сеида Хоссейна Насра, Генриха Циммера и др., немало сделавших для того, чтобы традиционная мистика, равно как и являющаяся ее выражением традиционная культура перестали быть некой «terra incognita» для современного сознания. Но проблем остается еще довольно много, и главная из них заключается в следующем: настоящая мистика находится за пределами чисто словесной сферы выражения; во всех традиционных эзотерических учениях знание передается только от учителя к ученику, и никаким другим способом - не для того, как это часто думают, чтобы скрыть его от непосвященных (хотя и эти соображения могут играть определенную роль в определенных обстоятельствах), а только по той простой причине, что никакая иная передача его попросту невозможна. Слово в традиционной мистике имеет смысл только тогда, когда оно «подтверждено» всей личностью наставника; только он может заставить слово «светиться» бесконечным количеством значений, в нем содержащихся; записанное на бумаге, то же самое слово - мертво.
Эта проблема имеет более серьезное значение для всей европейской истории, чем это может показаться на первый взгляд: традиционная мистика потому и называется традиционной, что она предполагает традицию, непосредственную передачу знания, а традиция возможна только при наличии ее носителей. Без существования такой живой традиции, как это прекрасно показал Рене Генон в своем «Общем введении в изучение доктрин индуизма» (55), изучение мировой эзотерики может представлять из себя только ряд недоразумений: в этом отношении показателен случай с учением «Веданты», которое многие исследователи до сих пор пытаются рассматривать как философию в западном смысле слова, т.е. определенные, выраженные на бумаге взгляды, предполагающие возможность полемики, противопоставления им других взглядов и т.п., - тогда как на самом деле известные нам тексты «Веданты» представляют из себя только видимую над водой часть айсберга, и главное, разумеется, заключается не в них, авучителе, который призван разъяснить эти тексты; «Веданта» - это живая традиция, продолжающаяся до нашего времени и требующая для своего понимания изменения всей жизни, а не просто знакомства с текстом (24, с.39).
На этом примере мы можем понять одну из серьезнейших проблем европейской культуры - отсутствие подобной живой традиции, которая, судя по многим признакам, была насильственно прекращена еще в начале четырнадцатого века (по этому поводу существует довольно обширная литература, так что нам нет надобности более подробно останавливаться на этом вопросе). Когда, несколько веков спустя, на Западе началось знакомство с «Ведантой», с суфийской мистикой и прочими восточными учениями, их поначалу воспринимали как нечто экзотическое и сугубо «восточное», пока не вспомнили, что в свое время подобная «экзотика» не чужда была и западной мысли; мы можем назвать по крайней мере два серьезных исследования, где проводится прямая параллель между идеями «Веданты» и учением одного из крупнейших христианских мистиков Мейстера Экхарта (63, 64, 90), которое иногда даже называют «Упаниша-дами» Запада; однако, как мы уже говорили, дальнейшее развитие в этом направлении было прервано, и с тех пор традиционная мистика в Европе была вынуждена перейти к «полулегальному» существованию, что имело для западной культуры скорее отрицательные последствия.
Главное из них - то, что все постоянно приходится начинать сначала; стремление к мистическому переживанию мира заложено в человеческой природе, и люди с соответствующими способностями рождаются, конечно, не только на Востоке, но в Европе, в отсутствии живой традиции они постоянно вынуждены продвигаться «на-ощупь», что нередко приводит ко всевозможным кризисам, срывам и т.п. Один из примеров такого «срыва» -романтическое движение, блестяще начинавшееся, пода
вавшее большие надежды и... как-то незаметно сошедшее на нет (причины чему мы будем рассматривать ниже).
Подобное положение вещей порождает многочисленные недоразумения, когда одно постоянно принимается за другое: в обширной литературе об Эдгаре По, которому посвящена наша работа, можно найти только очень скудные намеки на его мистическую одаренность, которая тем не менее была настолько велика, что позволила ему самостоятельно создать учение, близкое в своих основных положениях «Веданте», о чем также будет идти речь в нашем исследовании; между тем на эту близость почти никто не обратил должного внимания, и символика творчества По постоянно подвергалась самым превратным толкованиям. По мере сил мы попытаемся исправить создавшееся положение, отдавая себе полный отчет в трудностях, ожидающих нас на этом пути.
Следует сказать несколько слов о самом термине «мистицизм», употребляемом нами в данной работе. Этот термин использовы-вался и истолковывался самыми разнообразными способами, что привело в конце концов к самой настоящей путанице, когда «мистиками» объявлялись самые, казалось бы, далекие от мистицизма фигуры (так Александр Блок, к примеру, считал мистиком Канта, (6, с.237), Д.С.Мережковский -Герберта Спенсера (14, с.177-178) и т.д.). Подобная неразбериха привела, в конце концов, к тому, что Рене Генон вообще отказался от термина «мистицизм» как от слишком туманного и дающего повод ко всевозможным «подстановкам» и произвольным истолкованиям. Однако из чисто практических соображений мы позволим себе отступить от введенного Геноном правила, обоснованием чему нам послужит следующее рассуждение Сеида Хоссейна Насра по поводу суфизма: «Если мы избегаем называть суфизм «исламским мистицизмом», это происходит только из-за «пассивного» и «анти-интеллектуального» оттенка, которое приобрело это слово в большинстве современных европейских языков в результате вековой борьбы между христианством и рационализмом... Однако, если мы вспомним о первоначальном значении слова «мистицизм», имеющем отношение к «Божественным Таинствам», и будем считать мистиками таких людей как Блаженный Августин, Экхарт или Григорий Палама, мы с полным правом сможем назвать суфизм исламским мистицизмом, а суфиев - мистиками. Но тогда нам придется избавить это слово от его современного оттенка и восстановить в его первоначальном значении» (87, с.132). Именно в «первоначальном значении» будем употреблять это слово и мы, всячески «открещиваясь» от всевозможных форм псевдомистицизма, которые безошибочно распознаются благодаря их неопределенно-сентиментальному и, как верно подметил Сеид Хоссейн Наср, «анти-интеллектуальному» характеру.
Однако даже с этой оговоркой по-прежнему остается неясным, что же такое «мистическое переживание мира» пусть даже и в самом подлинном смысле слова. Американский философ Уильям Стейс, проана лизировав мировую традицию, пришел к выводу, что всякое подобное переживание имеет семь неотъемлемых признаков:
1) Во всех объектах и сквозь все объекты этого мира чувствами воспринимается Единое, так что кажется, что ничего, кроме Единого, в мире не существует (All is One);
2) Это Единое постигается как внутренняя жизнь всего сущего, и таким образом кажется, что ничего мертвого в мире быть не может;
3) Все переживаемое воспринимается как объективно существующее и истинное;
4) Испытывается радость, блаженство и т.п.;
5) Переживаемая реальность воспринимается как священная, сакральная и т.п.;
6) Переживание ощущается как парадоксальное;
7) Переживание ощущается как невыразимое в слове (103, с.79)
В основных чертах перечень Стейса, разумеется, верен, однако, некоторые его пункты требуют особого разъяснения, как, например, важный для понимания нашей работы первый пункт; хотя и справедливый сам по себе, он довольно мало говорит современному сознанию, о чем превосходно писал в свое время Рудольф Отто: «мы говорим о «созерцании Единого». Однако мы не должны воображать, что тем самым хоть что-то удовлетворительно объясняем. Ибо чисто формальное определение, что что-либо созерцается в единстве или как единство, не говорит нам практически ничего о том, почему это Бытие в Единстве так интересно, так захватывающе, так насыщенно ценностью и возвышенно, почему оно дарует нам свободу и блаженство, почему, наконец, оно называется «unum necessarium». Этот момент единства -не более, чем видимый над поверхностью моря вымпел погрузившейся подводной лодки. Этот момент - единственный, который может быть хоть как-то определен и рассмотрен. И однако рассмотрение его не даст нам даже отдаленно удовлетворительных результатов. Ибо что такое это «Единство»? Уж конечно не то, что может хоть как-то соотноситься с логическими формами единства» (90, с.48-49).
Итак, центральное понятие всякой мистики - «Единое» или «Единство», - не имеет к логике или математике никакого отношения; это - символ, а, согласно определению С.Т.Кольриджа, «за исключением геометрических, все символы неизбежно должны заключать в себе очевидное противоречие» (43, с.77). Мистическое «Единое» принадлежит к числу именно таких символов; на чисто словесном уровне о нем можно сообщить только то, что это Одно и одновременно Всё, чем, конечно, весьма трудно будет удовлетворить рациональное мышление. Однако нам следует помнить, что настоящее понимание этой главной мистической истины возможно только на чисто интуитивном уровне; только так нам удастся избежать всевозможных недоразумений, связанных с буквальным истолкованием того, что выражено в символической форме.
Также в некотором уточнении нуждается и пятый пункт перечня Стейса, который тоже будет иметь особую важность для нашей работы. «Священное», «сакральное» или, пользуясь более точным и более объемным термином Рудольфа Отто, «numinosum» и есть та сфера, с которой неизбежно должно соотноситься любое мистическое переживание. Эта взаимосвязь слишком очевидна, чтобы тут возможны были какие-либо разногласия. Разногласия обычно начинаются при истолковании самого понятия «сакральное», и здесь мы должны сделать некоторые уточнения и
таким образом расставить акценты, чтобы как можно точнее выразить суть занимающей нас проблемы.
Владимир Соловьев в «Оправдании добра» сводит весь положительный психологический опыт к трем основным переживаниям: стыду по отношению к тому, что мы ощущаем как низшее, жалости по отношению к тому, что мы ощущаем как равное и благоговению по отношению к тому, что мы ощущаем как высшее (20, т.1). Понятно, что здесь нас занимает именно третья категория, очевидно охватывающая собою всю область мистики; естественно, мы не можем не признать тут правоты Соловьева относительно благоговения как эмоции более чем уместной для данной сферы, однако нам хотелось бы подчеркнуть еще один момент, на наш взгляд не менее важный; он заключается в самом буквальном значении слова «мистическое», означающего «таинственное». Мы расставим акценты несколько иначе, чем Владимир Соловьев: для нас мистическим переживанием мира явится всякое непосредственное соприкосновение с таинственной стороной бытия, в ощущении неразделимо связанной с переживающей душой и как бы отражающей в себе ее собственную тайну; связь эта может переживаться сильнее или слабее - в сильнейшем своем проявлении она описывается в классической мистике как исчезновение различий между познающим и познаваемым.
Мейстер Экхарт, говоря о таинственном начале, являющимся содержанием этих переживаний, употребляет слово «Wunder» - чудо, удивительное, тайна (38, т.1, с.31); в первой главе «Дао-дэ-цзин», одного из наиболее ранних известных в истории мистических трактатов, оно передается иероглифом «сюань» - сокровенное, глубочайшее, темное (25, с. 115); наш символист Андрей Белый, говоря о такого рода переживаниях, подчеркивает их, если можно так выразиться, «метафизическую странность» (4, с.464); эти три примера из различных культурных эпох ясно дают понять, что при всем различии оттенков речь у выдающихся мистиков всегда идет об одном и том же - о «таинственном», которое и явится для нас одним из наиболее важных исходных понятий.
Это «таинственное», как мы уже говорили, представляется как-то связанным с самой сутью переживающего сознания - связь эта всегда ощущается как нечто довременное, как воспоминание о некоем предсущес-твовании и т.п. Этот момент «метафизического воспоминания», равно как и разбуженного этим воспоминанием томления, тоски, «Selige Sehnsucht» и т.п. является настолько общим для мировой мистики, что здесь нет смысла останавливаться на нем подробнее - уже из платоновской концепции «анамнесиса» мы можем получить вполне достаточное о нем представление.
Еще одним весьма важным моментом мистического переживания мира является ощущение внезапного и головокружительного расширения сознания («Durchbruch» по определению Мейстера Экхарта (38, т.1, с. 176); он же весьма точно характеризует это переживание следующими словами: «когда душа притягивает к себе Бога, тогда капля становится морем» (93, с. 19) Другое выразительное описание этого состояния мы находим у Анджелы да Фолиньо: «И когда я об этом не думаю и не надеюсь на это, подымается вдруг моя душа Господом Богом, и я охватываю весь мир, и мне кажется, что я больше не на земле, но пребываю в небесах, в Боге. И это возвышенное состояние превосходит все прочие состояния, которые со мной случались, и оно превосходит их своей полнотой, ясностью, определенностью, благородством и обширностью. И это откровение Божие нисходило на меня более тысячи раз и всегда по-новому и по-другому» (37, с.144-145).
Символы капли, ставшей морем, и души, охватившей весь мир, здесь неслучайны - это мистическое переживание походит на ощущения человека, поднявшегося на высокую гору; горизонты расширяются перед ним, и новое, доселе неведомое содержание вторгается в его сознание; подобно тому, как предметы, воспринимаемые на равнине как бы в их отдельности, выступают подчиненные единому целому, если смотреть на них с вершины, таки в мистическом переживании, по выражению С.Радхакришнана, «чувства сливаются в одно, идеи переходят одна в другую, границы разрушаются и привычные различия упраздняются... В этой полноте жизни и свободы исчезает различие между познающим и познаваемым. Оболочка уединенной души как бы прорывается (is broken into; ср. Durchbruch) вселенской душою, ко-торую индивидуум ощущает как свою собственную» (97, с.91-92).
Таковы формальные описания этого переживания. Что может явиться его содержанием? Это весьма нелегкий вопрос для тех, кто изучает традиционную мистику, -не говоря уже о том, что содержание это постоянно определяется как не выразимое никакими словами, все попытки его описания также часто граничат с невыразимостью: Генрих Сузо, например, говорит о чем-то, что «лишено формы и образа, но заключает в себе радость всех форм и образов» (37, с.85); Анджела да Фолиньо сообщает о мраке, в котором душа не видит ничего и видит одновременно все» (37, с. 137) и т.д. На первый взгляд, это сбивает с толку, однако, неразрешимость этой проблемы - кажущаяся.
Герой одного из романов Мережковского, русский, побывавший в шестнадцатом веке во Флоренции, сумел описать все, что он видел, за исключением одного и, пожалуй, самого интересного - барельефов Джотто (15, т.2, с.307). Эти последние настолько превосходили все его выразительные средства, настолько были несовместимы со всей привычной для него реальностью, что он только и мог, что воскликнуть по их поводу: «Пречудно есть отнюдь и несказанно!» Но большинство всех мистических описаний и сводится по сути дела к этой единственной фразе; реальность, которая предстает перед духовным взором мистика, по своей сложности, утонченности и многообразию вполне может быть уподоблена барельефам Джотто, однако язык, имеющийся в распоряжении мистика, столь же мало приспособлен для выражения этой реальности, как и русский язык шестнадцатого века - для описания барельефов Джотто.
Разумеется, все вышесказанное справедливо, в основном, только для европейской мистики, которой, как мы уже отмечали раньше, постоянно приходится «все начинать сначала». Для восточного человека смысл парадоксальной фразы Генриха Сузо о том, что «лишено формы и образа, но заключает в себе радость всех форм и образов» может быть выражен одним словом - «Атма-н», многообразие оттенков которого не может быть передано ни на одном европейском языке. Даосское понятие «сюань», о котором уже шла речь выше, вполне заменяет «мрак, в котором душа не видит ничего и видит одновременно все»; подобные примеры можно приводить до бесконечности, и с некоторыми из них нам придется столкнуться в ходе нашего исследования. Пока же надлежит помнить об одном: европейские языки (а, еле
довательно, и европейская литература) весьма мало приспособлены для выражения мистических идеалов, что постоянно приводит к типичной ошибке, когда мистическое переживание принимается за о д н о из переживаний в ряду прочих, - пусть даже наиболее интенсивное, полное смысла и т.п. Сходную ошибку делали поначалу в Европе и в определении индийского понятия «турия», которое считали неким таинственным четвертым состоянием, отличным от трех известных, -пока, благодаря разъяснениям современных ведан-тистов, не стало ясно, что «турия» не состояние, а о с н о в а всех потенциально возможных состояний, нечто фактически тождественное понятию «атман», взятому в аспекте его самосозерцания (28, с. 16-17). Но термин «мистическое переживание мира», который употребляется в данной работе, есть не что иное, как один из вариантов перевода слова «турия», следовательно все сказанное выше, справедливо и для данного случая; поэтому нам надо постоянно помнить о разнице между «мистическим переживанием мира» в указанном нами смысле и всевозможными екстазами, видениями, «прорывами космического сознания» и т.п., которые обычно относят к области мистики, но которые, на самом деле, имеют к ней только косвенное отношение (и то далеко не во всех случаях).
Наконец, следует сказать несколько слов о связи между мистицизмом и художественным творчеством, каковая связь, по утверждению Джеффри Пэрриндера, вовсе не является необходимой (91, с. 27), поскольку мистический дар не обязательно должен сочетаться со способностью к художественному творчеству. Однако, в тех случаях, когда это происходит, мы имеем неоценимую возможность интуитивного постижения того, что выражается в символах, поскольку мистическое искусство, (или, согласно терминологии K.I .IOHra,»visionaere Kunst», см. 73, т.9, с. 130), в определенном смысле вполне может быть названо «словесно оформленной моделью того или иного типа мистического созерцания»; творчество Эдгара По, равно как и многих других романтиков, вполне может быть отнесено к сфере мистического искусства, доказательством чему и призвана послужить наша работа.