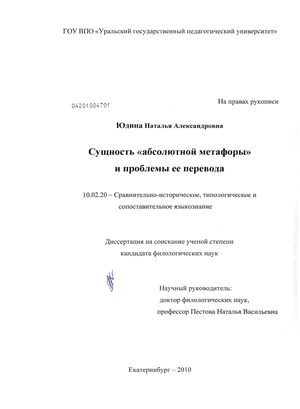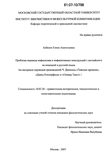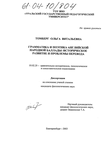Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Абсолютная метафора как пограничное образование литературного и философского дискурсов 12
1.1. Абсолютная метафора в поэзии модернизма 12
1.2. Абсолютная метафора в философском дискурсе 17
1.2.1. Абсолютная метафора как «умолчание» 18
1.2.2. Возникновение и становление термина «абсолютная метафора» 23
1.2.3. Особенности модернистского творчества как необходимое условие возникновения абсолютной метафоры 35
1.3. Выводы по первой главе 44
Глава 2. Методология выделения абсолютной метафоры и ее предпереводческий анализ 46
2.1. Абсолютная метафора как ассоциативный процесс 47
2.1.1. Сущность ассоциативно-когнитивного подхода 47
2.1.2. Понятие ядра и периферии ассоциативного поля 52
2.1.3. Ассоциативно-контекстуальный анализ абсолютной метафоры 55
2.1.4. Абсолютная метафора с точки зрения метафорической модели 62
2.2. Абсолютная метафора как способ моделирования авторской реальности г 66
2.2.1. Отчуждающий аспект моделирования 67
2.2.2. Гносеологический аспект моделирования 72
2.2.3. Онтологический аспект моделирования 77
2.3. Выводы по второй главе 82
Глава 3. Способы перевода абсолютной метафоры на русский язык — 85
3.1. Алгоритм анализа перевода абсолютной метафоры — 85
3.1.1. Терминологический аппарат 85
3.1.2. Алгоритм анализа перевода абсолютной метафоры на основании трансформационной и семантической теорий перевода 94
3.2. Перевод основных подвидов абсолютной метафоры 96
3.2.1. Абсолютная метафора Nichts 96
3.2.2. Абсолютная метафора, построенная на основании субстантивированного атрибута 111
3.2.3. Цветовая абсолютная метафора 123
3.2.4. Конкретизация лексических трансформаций, ведущих к нарушению абсолютного субъекта 132
3.3. Выводы по третьей главе 135
Заключение 138
Библиография 141
Список научной литературы 141
Словари и справочники 156
Источники материала 157
Приложения 158
Приложение 1. Полный текст произведения А. Рембо «Пьяный корабль» с переводом
Приложение 2. Дополнительные примеры апофатических абсолютных метафор с ядерным компонентом Nichts nAlles
Приложение 3. Дополнительные примеры абсолютных метафор с ядерным компонентом, выраженным субстантивированным атрибутом 166
Приложение 4. Дополнительные примеры цветовых абсолютных метафор 170
- Абсолютная метафора в поэзии модернизма
- Абсолютная метафора в философском дискурсе
- Сущность ассоциативно-когнитивного подхода
- Терминологический аппарат
Введение к работе
Настоящая диссертация посвящена уникальному феномену, возникающему в модернистских художественных текстах - абсолютной метафоре. В работе данное явление рассмотрено в русле общей теории метафоры на примере немецкоязычного материала и исследовано с точки зрения проблем перевода абсолютной метафоры на русский язык.
Термин «абсолютная метафора» вводится и активно разрабатывается с 1950-х гг. в рамках немецкоязычной метафорологии (Г.Фридрих, Х.Блюмен-берг, Г.Нойман) и отечественной германистики (Н.С.Павлова, Н.В. Пестова). Наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день становится вопрос о природе подобных метафор и их объяснимости с точки зрения современной ассоциативно-когнитивной метафорологии. Современные исследователи трактуют ассоциативно-когнитивную метафору как одну из основных ментальных операций, констатируют ее ведущую роль в процессе формирования концептов, а также полагают в качестве механизма создания метафоры ассоциативный, т.е. метафора с точки зрения данной теории трактуется как моментальная ассоциативная связь между двумя концептами с последующим порождением нового. Также современные исследователи предлагают ряд теорий и классификаций метафор, вполне допускающие в свой круг метафоры абсолютные, однако, такая работа на сегодняшний день не проведена.
Анализ абсолютной метафоры осуществляется на фоне художественно-эстетической ситуации начала XX века, времени становления и развития модернизма. Интерес в этом контексте представляют творческие установки модернистов, а также современная им философия, питавшаяся идеями философии классической. Значение термина абсолютная метафора раскрывают философско-религиозные теории Абсолюта: античная философия, средневековая мистика, немецкая классическая философия.
Современная метафорология способствует обоснованию абсолютной метафоры как сложного ассоциативного комплекса. В этой связи продуктив-
ной для анализа абсолютной метафоры оказалась теория ядра и периферии ассоциативного поля, а также стратификация элементов периферии с точки зрения степени их удаленности от центра. Абсолютная метафора была проанализирована через призму теории метафорической модели, что позволило констатировать факт снятия в тексте донора и реципиента традиционной метафоры и доминирование tertium comparationis. На этом основании была проведена гипотетическая реконструкция донора и реципиента традиционной метафоры.
В контексте исследования абсолютной метафоры через призму породившей ее эпохи модернизма абсолютная метафора предстает в качестве логического этапа осознания авторами возможности и даже необходимости конструирования реальности мира искусства в противовес объективной действительности. Абсолютная метафора, интегрировано реализуя свои основные аспекты, а именно, гносеологический, онтологический и аспект отчуждения, предстает в качестве ресурсного элемента творческого конструирования.
В центре внимания диссертации стоит проблема механизма и качества перевода абсолютных метафор на русский язык. Так как материалом исследования послужила немецкоязычная абсолютная метафора, то ее природа в большой степени подлежит обоснованию посредством структурных особенностей именно немецкого языка. По причине отсутствия изоморфизма между русским и немецким языками эквивалентный перевод абсолютной метафоры оказывается затрудненным. В этом контексте особое значение приобретают понятия стратегии перевода и переводческих трансформаций.
Таким образом, настоящее исследование состоялось в рамках ассоциативно-когнитивной метафорологии, критического анализа философско-религиозной категории Абсолюта и философских течений начала XX века, общего и сравнительного литературоведения и критики перевода.
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что абсолютная метафора на сегодняшний день недостаточно конкретизирована с точки зрения ее сущности, а также с точки зрения ее перевода на русский язык.
В ходе проведенного исследования такие современные аспекты анализа перевода, как стратегия перевода, переводческая трансформация, а также эквивалентность и адекватность перевода, предстали в ином ракурсе. Эквивалентный, т.е. максимально близкий к тексту, перевод в случае художественного, а особенно поэтического, текста, традиционно принято оценивать как некачественный или неадекватный. Настоящая работа обосновывает в случае абсолютной метафоры прямую зависимость адекватности перевода от его эквивалентности.
Объектом исследования послужили абсолютные метафоры в поэтических текстах немецкоязычного модернизма и их переводы на русский язык.
Предметом исследования стали механизмы возникновения и функции абсолютной метафоры и способы их воспроизведения в языке перевода.
В качестве эмпирического базиса использовались абсолютные метафоры, отобранные методом сплошной выборки из поэтических текстов немецких и австрийских поэтов Г. Бенна, Г. Тракля, Р.-М. Рильке и П. Целана. Общий объем проанализированных произведений составил 2717 страниц немецкоязычного текста. Общее количество рассмотренных метафор - 83.
Теоретической базой исследования послужили работы по следующим направлениям:
современная теория метафоры зарубежных исследователей: Блэк 1990; Лакофф, Джонсон 1990, 2004; Маккормак 1990; Рикер 1990; Biebuyk 1998; Blumenberg 1960, 1996, 2001; Haverkamp 1998, 2007; Ludi 1973; Neumann 1970; Weinrich 1967,1996;
современная отечественная теория метафоры: Арутюнова 1979, 1999; Баранов 1991; Гак 1988; Лагута 2003; Москвин 2006; Полозова 2003, 2004, Скляревская 1993; Телия 1988; Харченко 2007; Чудинов 2001, 2003, 2006;
общее языкознание: Апресян 1974; Гумбольдт 2000; Жирмунский 1996; Пауль 1960;
психологическое направление в языкознании: Леонтьев 1977, 2003; Потебня 1999; Сахарный 1989; Фрумкина 2001; Хомский 1972;
- когнитивная лингвистика: Баранов 1991; Зимняя 2001; Кубрякова 1992;
Лурия 1998, 2002;
ассоциативная и когнитивная психология: Бэн 1998; Величковский 1982; Рубинштейн 2000; Солсо 2002; Эббингауз 1998;
теория модернизма: Жеребин 2003, 2006; Лейдерман 2005; Маритен 2004; Павлова 1968, 1986, 1987, 2000; Пестова 1999, 2004, 2005; Поляков 1998; Сарабьянов 1989; Цветков 2003; Brinkmann 1970, 1980; Friedrich 1956; Rothe 1977;
современная, классическая и религиозная философия: Бергсон 1992, 1999; Бердяев 1990; Витгенштейн 1994; Вундт 2001; Гегель 1970, 1974, 1999; Гуссерль 2000, 2005; Кант 1966; Локк 1960; Ницше 1997, 2004; Риккерт 1922; Фихте 1993; Шеллинг 1936, 1966; Шлегель 1983; Штирнер 2001; Экхарт 1991;
теория и критика перевода: Алексеева 2004; Гарбовский 2004; Казакова 2006; Комиссаров 2000, 2004; Латышев 2003, 2005; Сдобников, Петрова 2006; Тюленев 2004.
Целью настоящей диссертации является установление сущности абсолютной метафоры и разработка алгоритма анализа и оценки ее перевода на русский язык.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
На основании анализа научной литературы рассмотреть основные теории и классификации, сложившиеся в рамках ассоциативно-когнитивного подхода, обосновать в данном контексте структуру абсолютной метафоры и-обозначить ее место среди подвидов ассоциативно-когнитивных метафор.
Проследить историю использования термина абсолютная метафора в рамках немецкой метафорологии и отечественной германистики, установить сущность абсолютной метафоры, дать ей максимально полное описание и дефиницию, констатировать основные функции абсолютной метафоры, выделить доминирующую функцию.
Произвести структурно-семантическую классификацию абсолютных метафор, произвести выборку абсолютных метафор и осуществить их предпереводческий анализ с точки зрения выполняемых ими функций, трансформации метафорической модели и ассоциативного воздействия входящих в нее лексем.
Разработать алгоритм оценки качества перевода абсолютной метафоры на русский язык.
5. Проанализировать переводы абсолютных метафор с точки зрения примененных способов перевода и эквивалентности, зафиксировать и классифицировать регулярно применяемые переводческие трансформации, конкретизировать условия наиболее адекватного перевода.
Методологию и методику работы составили: логико-философская основа, постклассическая гносеология, эпистемология, эмпирический подход (составление сплошной выборки), ассоциативно-когнитивный анализ, моделирование, классификация, контекстуальный анализ, сопоставительный анализ, критика перевода.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в расширении и конкретизации теории абсолютной метафоры и предложенных методиках ее анализа, а также в разработанном алгоритме анализа и оценки качества ее перевода на русский язык.
Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы в лекционных курсах и практических занятиях по стилистике немецкого и русского языка, сопоставительной лингвистике и психолингвистике, общим литературоведению и метафорологии, а также в практике художественного перевода.
Научная новизна работы заключается в раскрытии сущности абсолютной метафоры, уточнении механизма ее создания и системном анализе возможностей ее перевода на русский язык. Предложен оригинальный алгоритм анализа и оценки качества перевода абсолютной метафоры. Впервые в оценке качества перевода применена теория поля.
Апробация работы проводилась в процессе обсуждения материалов исследования на заседаниях кафедры немецкой филологии УрГПУ (2006-2009 гг.), результаты исследования излагались в докладе на Третьей межвузовской научно-практической конференции аспирантов и соискателей (Екатеринбург, 2004), на конференции «Уральские лингвистические чтения» (Екатеринбург 2008) и «Язык. Система. Личность» (Екатеринбург, 2008).
Основные положения, выносимые на защиту:
Абсолютная метафора представляет собой тем или иным способом отчужденный от объективной реальной действительности признак, воспринимаемый иррационально, интуитивно и субъективно интерпретируемый в ходе ассоциативного процесса.
Абсолютная метафора логично вписывается в сформировавшуюся ассоциативно-когнитивную метафорологию и соответствует теориям метафорической интеракции или конфронтации, когнитивной теории метафоры, теории метафоры-загадки и тотальной метафоры, отвечая всем требованиям, предъявляемым современной метафорологией к метафоре как одной из основных ментальных операций. Абсолютная метафора представляет собой ассоциативное образование с доминантой парадигматических ассоциативных связей слова. Абсолютная метафора предстает в качестве конструирующего элемента авторской реальности, демонстрируя выполнение онтологической и гносеологической функций, а также характерной для модернизма функции очуждения.
"3. Абсолютная метафора представляет собой полную трансформацию метафорической модели: донор и реципиент замалчиваются, а на передний план выходит tertium comparationis.
4. В случае абсолютной метафоры адекватным ее переводом следует признать эквивалентный перевод; на уровне ядра ассоциативного поля текста перевод должен быть дословным. Значительный процент переводов абсолютной метафоры демонстрирует нарушение структуры абсолютного образа по причине примененных к абсолютному субъекту переводческих трансформаций.
Композиция диссертации определяется ее задачами и отражает основные этапы и логику развития исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и библиографического списка (192 источников, из которых 33 на немецком языке). Объем диссертации без библиографии и приложения составляет 140 страниц.
Первая глава формирует философский и культурологический базис исследования. Проведен анализ базовых характеристик модернизма как доминирующей художественно-эстетической системы XX века, обосновывающих появление в поэтических текстах метафоры нового типа. Констатирована связь между абсолютной метафорой в творчестве немецкоязычного модернизма и аналогичными образованиями в поэтических текстах французского символизма. В первой главе конкретизируется понятие Абсолюта как философско-религиозной категории в рамках античной философии, средневековой апофа-тической теологии и немецкой классической философии. Обоснованы термин абсолютная метафора, а также абсолютная метафора как фигура умолчания.
Во второй главе проанализировано состояние современной метафороло-гии с точки зрения ассоциативно-когнитивных теорий и классификаций метафоры (отечественные и американские теории, а также теории немецкой германистики). Обоснован ассоциативный механизм создания метафоры, перечислены ее основные функции, дано определение метафорической модели и ассоциативных связей слова. Разрабатывается алгоритм анализа абсолютной метафоры с точки зрения теории ядра и периферии ассоциативного поля.
Третья глава посвящена анализу перевода абсолютных метафор на русский язык. Проясняются понятия способ перевода и переводческая трансформация, адекватный и эквивалентный перевод. Предлагается алгоритм анализа и оценки качества перевода абсолютной метафоры. На конкретных поэтических примерах определяются наиболее частотные переводческие трансформации, оценивается качество переводов. Проводится класси-
фикация способов нарушения структуры абсолютной метафоры в переводном тексте.
В заключении делаются основные выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования как непосредственно абсолютной метафоры в рамках ассоциативно-когнитивного подхода, так и ее художественного перевода.
Приложение содержит дополнительные примеры абсолютных метафор из наследия авторов немецкоязычного модернизма.
Процесс и результаты исследования позволили предложить следующее определение абсолютной метафоры: абсолютная метафора есть тем или иным способом отчужденный от реальной действительности признак, базирующийся на создании творческим субъектом тотального тождества между объектами этой действительности, что достигается посредством снятия в микроконтексте, создающем абсолютную метафору, донора и реципиента и доминирование tertium comparationis.
По теме диссертации опубликовано 11 работ.
Абсолютная метафора в поэзии модернизма
В рамках литературного дискурса термин «абсолютная метафора» возникает и получает обоснование в работе Г. Фридриха «Структура современной лирики» [Friedrich 1956]. Исследователь прослеживает трансформацию и обновление самой сущности такого древнего языкового явления, как метафора, на протяжение периода с середины XIX до середины XX веков, получившего в научной традиции название «модернизм».
Данный глобальный культурно-исторический процесс заявил о себе как о чем-то принципиально новом и альтернативном, что заложено уже непосредственно в самом термине (от лат. modern — новое, необычное, свежее, модное) [Цветков 2003: 108-109]. Обозначенная тенденция имеет под собой следующее культурно-историческое обоснование. В рамках историко-социального подхода к искусству начала XX в. подробно изучена культурно-историческая эпоха, выделены и проанализированы глобальные общественно-политические процессы, на фоне которых происходило зарождение и развитие модернизма и авангарда: Первая мировая война, революции, смена идеологий, кризис общественного сознания, связанный с переоценкой религиозных ценностей; технический прогресс, урбанизация [Бердяев 1990; Сарабьянов 1989; Смирнов 1997; Эткинд 1989; Rothe 1977].
Перед лицом общественно-исторических катаклизмов первых десятилетий XX века представители модернизма не видели возможности пользоваться «устаревшими», традиционными художественными средствами. Данная тенденция получила выражение в отрицании предшествующих традиций, в «отрыве от корней, доходящем до драматических масштабов» [Якимович 2003: 162]. По мнению Н. А. Бердяева, человек «в своем творческом исступлении преступает все пределы, все границы» [Бердяев 1990: 3]. Модернизм ориентируется на вызывающе смелый эксперимент с целью разработки новых, неканоничных способов воссоздания, интерпретации, оценки явлений действительности, что было продиктовано глубоким общественно-политическим и духовно-нравственным кризисом. Как пишет Н. А. Бердяев, «мир перевоплощается», следовательно, искусство также «не может сохраниться в старых своих воплощениях» [Бердяев 1990: 16].
Искусство отказывается от достоверного и жизнеподобного изображения действительности в системе реально присущих ей связей и провозглашает одной из своих основных задач «постоянное обновление» [Сарабьянов 1995: 69-70]. Подчеркивается невозможность конечных, непререкаемых истин о мире и человеке. Картины строятся на идее художественной деформации реальности, алогизма, игры смыслами. Мир больше не ощущается завершенным, провозглашается эстетика Хаоса и абсурда [Лейдерман 2005]. Хаос поэтизируется то отстраненно, как в творчестве Ф. Кафки и Дж. Джойса, то элегически, с оттенком драматизма, что характерно для М. Пруста и В. Набокова, подчас приобретает трагифарсовую трактовку с элементами черного юмора и пародии, как в «театре абурда» Э. Ионеско, С. Беккета, в творчестве дадаистов.
Художественные произведения модернизма не представляют собой возможности для «отдыха» и эстетического наслаждения, напротив, автор прилагает все усилия для «пробуждения» реципиента, побуждения его к напряженной эмоциональной и интеллектуальной работе. Г. Фридрих в упомянутой выше работе отзывается о поэзии модернизма как о «празднике интеллекта»: акт поэтического творчества сравнивается с работой хирурга, причем в качестве «пациента на операционном столе» оказывается окружающая действительность и собственная душа поэта, который, рефлектируя над творимым актом, еще усиливает интеллектуальное и эмоциональное напряжение, заложенное в произведении [ср: Friedrich 1956: 140-146].
На примере творчества французского поэта А. Рембо Г. Фридрих прослеживает процесс «раздробления» ограничивающей внешней реальности на фрагменты с последующим их произвольным соединением, результатом чего становится проникновение в сокровенную суть мироздания.
Данное «разрушение реальности» достигается, в том числе, методом переосмысления сущности метафоры, которая более не выполняет функции сопоставления, но творит «свою собственную реальность», что Г.Фридрих и ком- ментирует на примере произведения А. Рембо «Le bateau ivre» («Пьяный корабль»)1.
Общий сюжет произведения таков: команда убита на берегу, и пустой корабль отправляется в одинокое плавание. Фоном данного странного путешествия служат всевозможные экзотические страны и уголки Земли, которые, согласно исследователям жизни и творчества поэта, могли быть знакомы ему только по иллюстрированным путеводителям. Однако этот факт не имеет значения, поскольку произведение следует рассматривать в отрыве от реальности. Нагромождение картин позволяет только из целого гипотетически воссоздать символическое сравнение между кораблем и человеком, одиноким и потерпевшим крушение, прототипом которого служит, по всей вероятности, сам автор. Речь идет только о корабле, в котором лирическое «Я» полностью растворяется. Вся текстовая структура есть повторение тончайшего узора души поэта. Данная техника, создающая тотальную идентичность, получает в работе Г. Фридриха название абсолютной метафоры [ср.: Там же: 73-74].
Новаторство французских символистов, выразившееся, в основном, в «радикальной эмансипации от любой реальности» [Neumann 1970: 194; Пестова 2004: 87], получило широкий резонанс в европейском, и, в частности, в немецкоязычном модернизме. Например, отличительной чертой творчества австрийского поэта Г. Тракля является нетрадиционное использование цветового признака, оторванного от своего носителя. Рассмотрим следующий пример:
Абсолютная метафора в философском дискурсе
Как таковая, принадлежность метафоры к философскому дискурсу обосновывается тем фактом, что уже сам термин «метафора» является общепризнанным для обозначения языковой конструкции, формулирующей и выражающей содержание философского знания. Одна из центральных задач философского поиска, сформулированная еще Сократом, состоит в отыскании, по возможности, предельно точных дефиниций фундаментальных категорий (таких, как истина, добро, красота).
Философская мысль выражает и замещает тот или иной фрагмент сущего с помощью строго дефинированных понятий, однако, в тех случаях, когда философия не в силах опереться на них, она вынужденно прибегает к неявным определениям, характеристикам, сравнениям, иносказаниям и метафорам.
Метафора становится неотъемлемой составляющей философского дискурса, равноправно функционируя наряду со строго упорядоченными дефинициями и терминами как «осмысленная знаковая (языковая) конструкция с условно-фиксированным числом интерпретаций, ограничиваемых спецификой познаваемого объекта, эпистемическими интерсубъективными нормами и экзистенциальными усилиями познающего субъекта» [Фатенков 2005].
В рамках метафорологического проекта, целью которого стало создание типологии основополагающих составных человеческого бытия, образующих «субструктуру» мышления, немецкий философ-постструктуралист X. Блумен-берг противопоставил философским метафорам, легко могущим быть отнесенными к проявленному в бытии, особые метафоры, не сводимые ни к чему логически постижимому - метафоры абсолютные. Программная в этом контексте работа Блуменберга «Парадигмы к метафорологии» («Paradigmen zu einer Metaphorologie») [Blumenberg 1960] представляет собой исторический обзор философских и теологических систем в их стремлении «выразить невыразимое», извлечь последнее из небытия. Озвученная цель достигается методом создания абсолютных метафор, преодолевающих ограниченность языковых средств и конструирующих на их материале невоспроизводимое на языке конкретных понятий представление о целостной структуре бытия. Основной сферой функционирования абсолютных метафор являются семантические поля с такими ядерными компонентами как, например, правда, свобода, государство, история. Таким образом, мы, вслед за философом, выделяем в качестве одной из основных особенностей AM способность, к выражению принципиально невыразимых идей [Blumenberg 1960].
Все философские проблемы в контексте изучения AM аккумулируются в тенденции к «замалчиванию» того, о чем невозможно говорить. Данная идея возникает и разрабатывается в рамках лингвистической философии XX века, вызвавшей к жизни теоретические положения, которые могут быть кратко ре зюмированы следующим образом: внутренний мир человека представляет собой нечто настолько многогранное, что невозможно выразить ограниченными языковыми средствами.
Уже Ф. Ницше поднимает вопрос о том, является ли язык адекватным выражением реальности. Обыденный язык загоняет говорящего в определенные рамки, заставляет следовать некоему образцу и мыслить, как все остальные, делая невозможным выражение индивидуального опыта. Ницше выступает с критикой человека, который больше не позволяет себе увлекаться внезапным впечатлением, предаваться созерцанию. Вместо этого он обобщает эти впечатления, делает их холодными понятиями, для того, чтобы «привязать к ним челнок своей жизни» [Ницше 1997: 54-55]. Ницше вкладывает в уста Зара-тустры призыв к обновлению языка: «Новыми путями иду я, новая речь приходит ко мне; устал я, подобно всем созидающим от старых щелкающих языков. Не хочет мой дух больше ходить на стоптанных подошвах» [Ницше 2004: 218]. С этой мыслью солидарны другие представители «философии жизни».
А. Бергсон обращается к понятию глубинного и поверхностного «я». Переживания находятся на глубинном уровне, задача поверхностного «я» - выразить их посредством языка, которым оно вынуждено пользоваться, что заранее обречено на неуспех, поскольку «мысль не соизмерима с языком», язык, обозначая многогранные переживания одними и теми же словами, тем самым нивелирует их [Бергсон 1992: 104-104; Там же: 121-122].
Наиболее значимый представитель «лингвистической» философии Л.Витгенштейн уделяет большое внимание проблеме достоверности в языке. Философ подвергает сомнению саму возможность уверенности в чем-то, выражаемом в языке на уровне субъективного, бытового плана. Достоверность, по мнению Витгенштейна, носит крайне субъективный характер и обретает смысл только в контексте личной веры каждого индивидуума в то, о чем он говорит. Таким образом, употребляемое повсеместно «я знаю» должно быть заменено на «я верю», «я полагаю», что подчеркивает невыразимость в языке конечных представлений о мире. Критикуя обыденный язык, Витгенштейн подчеркивает негативный аспект полисемии.
Философ анализирует употребление естественного разговорного языка с тем, чтобы устранить недоразумения, возникающие вследствие неправильного его применения. Причиной неадекватности слова обозначаемому денотату признается зависимость слова от его ситуативного употребления. Соответственно, значением слова является не предмет, но вся ситуация, в которой оно использовано.
Философ отрицает реальность общих понятий, объявляя язык деятельностью, формой жизни, игрой, в процессе которых формируются значения слов как разовые ситуативные образования [Витгенштейн 1991: 84-88]. В «Логико-философском трактате» Витгенштейн обосновывает зависимость модели мира от логических свойств языка и связь логических структур и допустимых способов рассуждения с определенными онтологическими предпосылками: «Границы моего языка означают границы моего мира». Достигая своей границы, язык перестает действовать за ней, далее допустимо только молчание.
Философ считает бессмысленными предложения, которые не могут быть ни истинными, ни ложными, т.к. им не соответствует ни один предмет действительности: «О чем невозможно говорить — о том следует молчать» [Витгенштейн 1958: 79-80; Там же: 6.54]1. Таким образом, формы элементарных предложений отвечают на вопрос о сущности картины мира. Предложение должно порождать то, что Витгенштейн называет «связью вещей» [Витгенштейн 1958: 79-80]. Логика создает «каркас» мира с помощью различных «сеток», которые могут иметь квадратные, треугольные, шестиугольные ячейки [Там же: 90-91]. От использования конкретной ячейки зависит элемент модели мира. Язык и мир, согласно трактату, имеют общую логическую структуру, взаимозависимы и немыслимы один без другого.
Возвращаясь к упомянутой выше теории интенциональности Э. Гуссерля, следует кратко охарактеризовать роль языка в мире феноменов. По мнению философа, язык по отношению к интенции значения играет роль лишь сопровождения, замещения, является «вторичным средством» для коммуникации. «Вещь» не нуждается в языке, между нею и языком нет ничего общего. Она является дологическим образованием, приписывание же ей предиката есть логическая операция, выражающая лишь потребность человека в номинации, сама сущность вещи остается незатронутой [ср.: Михайлов 1999: 146-147]. Также Л.Витгенштейн относит феномен достоверности к «допредикативному» уровню человеческой психики, уровню более глубинному, чем субъективные отношения.
Итак, следующим основополагающим маркером AM как порождения литературно-философского дискурса рубежа XIX-XX вв. становится умолчание, снятие носителя образа, продиктованные охватившим поэтов модернизма глубочайшим языковым скепсисом. Лирика модернизма имеет целью выразить «тончайшие движения души, порождающие не значения, а едва уловимые ощущения», не подлежащие выражению методом обыденного языка, представляющие собой некую «точку», в которой «язык на пути к действительности умолкает, не достигнув ее» [Neumann 1970: 209]. На помощь бессильному здесь языку конкретных понятий приходит AM как «конгломерат языка и молчания (или умолчания)», как средство поэтико-философского познания [Там же: 215].
Сущность ассоциативно-когнитивного подхода
На сегодняшний день принято выделять два основных подхода к метафоре: традиционный и когнитивный. Первый уходит корнями в античную риторику, второй возникает в русле ассоциативно-когнитивного подхода в психологии и лингвистике XX века и доказывает тот факт, что рассмотрение метафоры только в риторико-стилистическом аспекте не удовлетворяет современным требованиям науки: «Метафора принадлежит не только языку, т.е. не только словам. Мы утверждаем, что процессы человеческого мышления во многом метафоричны ... Концептуальная система человека структурирована и определена с помощью метафор» [Лакофф, Джонсон 2004: 27].
Метафора рассматривается как основная ментальная операция: «Метафора — это феномен не лингвистический, а ментальный: языковой уровень лишь отражает мыслительные процессы. Метафорические значения слов — это не украшение мыслей, а лишь поверхностное отражение концептуальных метафор, заложенных в понятийной системе человека и структурирующих его восприятие, мышление, деятельность» [Чудинов, Будаев 2006: 35].
Роль метафоры в ментальных процессах констатируется не только филологами, но и психологами: «Метафорические выражения были бы совершенно никчемным украшением, и, собственно, излишним балластом, если бы образ ничего не прибавлял к общей мысли ... Метафорические образы выражения общей мысли имеют смысл, только поскольку они содержат больше того, что дает формулировка мысли в общем положении» [Рубинштейн 2000: 335]. Приведенные положения являются кратким резюме постулатов современной когнитивной метафорологии.
Фундаментальную и исчерпывающую разработку когнитивная теория метафоры получает в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» [Лакофф, Джонсон 2004]. Суть предложенной в данной работе теории заключается в том, что метафора является не лингвистическим, а ментальным феноменом. Авторы утверждают способность метафоры конструировать языковую картину мира, благодаря чему весь наш язык и, соответственно, вся наша жизнь оказываются пронизаны метафорами, которые представляют собой осмысление объектов одной сферы в терминах другой сферы. События, явления окружающей действительности, наши собственные переживания структурированы в сознании в виде концептов, которые определяют наши ощущения, поведение, отношение к другим людям.
Положение о метафоричности нашей системы концептов является в рамках данной теории основным: «Концептуальная система человека структурирована и определена с помощью метафоры. Метафоры как выражения естественного языка возможны именно потому, что они являются метафорами концептуальной системы человека» [Там же: 27].
Концепты, как и соответствующие им метафорические выражения, образуют четкую систему, структурированы и могут развиваться только в определенных рамках и направлениях. Структура того или иного концептуально-метафорического тандема имеет онтологические обоснования. Объяснение этих структур следует искать в человеческой телесности, прямохождении (хорошее находится наверху, плохое - внизу), конечности нашего существования [ср.: Pielenz 1993: 61-81].
Однако, рассматривая метафору как основную ментальную операцию, когнитивный подход оставляет за скобками довербальный механизм образования метафоры. Объясняя данный механизм, ассоциативный подход является, на наш взгляд, необходимым дополнением к когнитивному.
Термин «ассоциативно-когнитивный подход» впервые появляется в монографии О. Н. Лагуты [Лагута 2003: 102]. Истоки данного подхода необходимо искать в ассоциативной и когнитивной психологии, признающих ассоциативный процесс основным механизмом познания и формирования новых представлений [Солсо 2002: 32, 223; Роммвейт 1972: 64-66].
Термин «ассоциация» восходит к латинскому assiciatio (соединение) и означает возникающую в опыте индивида закономерную связь между двумя содержаниями сознания (такими, как ощущения, представления, мысли, чувства), которая выражается в том, что появление в сознании одного из содержаний влечет за собой появление другого [БПС 2004: 42].
Термин «ассоциативный» впервые вводится Дж. Локком в «Опыте о человеческом разуме» [Локк 1960: 141, 180] и получает развитие в философско-психологической системе Д. Юма и ориентированных на естественные науки трудах Д. Гартли, Дж. Милля, Т. Брауна и Г. Спенсера [ср.: Ждан 1990].
Г. Эббингауз также уделяет внимание трактовке языка с точки зрения ассоциативной психологии. Согласно исследователю, язык есть «скрепленное прочными ассоциациями соединение двух элементов: с одной стороны — слов и предложений с их значением, с другой - вещей» [Там же: 123; ср.: Леонтьев 2003: 85].
Ассоциативный подход к языку восходит к трудам младограмматиков, помещающих в основу языка идею ассоциативных представлений, благодаря которым физическое орудие оказывается «связующим звеном между ним и сообщаемым представлением» [Пауль 1960: 37]. Г. Пауль отводит каждому слову место внутри определенной ассоциативной группы: «В нашей психике происходит взаимопритяжение отдельных слов, вследствие чего слова образуют в ней несколько более или менее крупных групп ... Отдельные группы не существуют сами по себе ... все они взаимно перекрещиваются» [Цит. по: Левицкий, Боронникова 2005: 143]. Помимо этого, Г. Паулю принадлежит разработка основ теоретического синтаксиса на психологической основе, разработка понятий психологического субъекта и психологического предиката, которые будут подробно рассмотрены в следующих разделах [Пауль 1960: 315].
Идея о неразрывной связи языка и мышления положила начало психологическому направлению в языкознании, наиболее значимыми представителями которого по праву считаются В. Гумбольдт, В. Вундт и А. А. Потебня. В центре внимания перечисленных ученых находятся проблема психологии народа, происхождения языка, внутренней и внешней формы слова [ср.: Вундт 2001: 54-72, 98-114; Гумбольдт 2000: 48; Потебня 1999: 91].
Тенденция к сближению психологии и лингвистики прослеживается с начала XX века, результатом данного процесса становится возникновение психолингвистики. Говоря словами А. А. Потебни, «стала возможна мысль искать решения вопросов о языке в психологии и, наоборот, ожидать от исследований языка новых открытий в области психологии» [Потебня 1999: 45].
Психолингвистика первого поколения, названная по этой причине ассо-цианистской [Леонтьев 2003: 36; ср.: Сахарный 1989: 13-23], долго находилась под влиянием утверждения Ч. Осгуда о природе речи как системы ассоциативных реакций на различные речевые и неречевые стимулы.
Одной из основных гипотез в когнитивистике является идея о строгой упорядоченности и структурной организации сознания. Целью когнитивных исследований является обнаружение способа восприятия, хранения и переработки информации, а также описание формирования и функционирования глубинных структур сознания, «доступ к которым, естественно, возможен только через язык» [Лагута 2003: 32].
Терминологический аппарат
Проблема оценки качества перевода вообще и художественного перевода, в частности, является одной из наиболее актуальных и наименее разработанных в современной теории перевода. Во избежание ошибок в продукте какой-либо деятельности необходимо иметь эталон идеального продукта данной деятельности, выявить и классифицировать возможные погрешности, а также разработать алгоритм поиска и устранения этих погрешностей. В этом отношении обоснованными представляются требования к переводу, составленные Л. К. Латышевым на основе рекомендаций ведущих отечественных и зарубежных переводоведов. Перечислим отдельные из них: «Переводной текст должен максимально полно воспроизводить не только смысл и содержание оригинала, но и его структуру, стиль и особенности речи автора ... ; текст перевода должен быть таким, чтобы он мог использоваться так, как будто он есть оригинал, и, в частности, чтобы он мог цитироваться как слова автора; по тексту перевода не должно быть видно его „иностранное" происхождение, или, иными словами, язык переводного текста должен быть в принципе таким же, как и язык непереводного (оригинального) текста. Переводной текст должен восприниматься читателем или слушателем так же, как он воспринимал бы текст оригинала, если бы владел соответствующим языком» [Латышев 2000: 16]. С. В. Тюленев, в свою очередь, предлагает следующие требования к качественному переводу: 1. Перевод должен верно отражать фактическую сторону оригинала, т.е. правильно передавать план содержания, заключенную в нем информацию. 2. Перевод должен верно отражать цель создания оригинала (прагматический аспект). 3. Перевод должен воспроизводить «тон и важнейшие стилистические особенности оригинала», т.е. точно указывать на принадлежность оригинала тому или иному функциональному стилю; 4. Перевод должен точно доносить авторское отношение к представленному в тексте предмету [ср.: Тюленев 2004: 146-147].
Соглашаясь с предложенными критериями оценки качества перевода, мы переходим к характеристике терминов эквивалентность и адекватность перевода, аккумулирующими все перечисленные выше требования к качественному переводу. Подробно остановимся на первом понятии, на сегодняшний день наиболее устоявшемся и разработанном.
Термин эквивалентность перешел в современное переводоведение из логики и математики, означая в рамках этих наук взаимозаменяемость сравниваемых объектов, но не абсолютную, а возможную только в каком-либо контексте, относительно чего-либо. Логика предлагает в этом контексте понятие «истинности» значений сравниваемых объектов. Если объект А равен в своей истинности объекту В, данные объекты можно считать эквивалентными друг другу, [ср.: Гарбовский 2004: 265-267]. Что касается достижения лингвистической эквивалентности между языками, тождество по определению не может быть достигнуто ввиду «труднопреодолимой преграды языковых различий», выражающейся в явном несовпадении способов выражения одного и того же содержания [Тюленев 2004: 134]. Логичным в данном контексте кажется нам предложенное А. Л. Семеновым определение эквивалента как максимально эффективного разрешения языковых и культурных противоречий [ср.: Латышев, Семенов 2003: 73].
Таким образом, понятие «эквивалента» представляется наиболее продуктивным по отношению к оппозиции «текст оригинала» и «текст перевода» [Комиссаров 2004: 116].
Исследователи выделяют следующие важные аспекты применения эквивалента. Текст оригинала и текст перевода должны обладать равными коммуникативно-функциональными и семантико-структурными свойствами. Относительно переводимого знака в тексте оригинала и в тексте перевода необходимо совпадение его денотативной, сигнификативной и коннотативной соотнесенности. Также переводчику следует стремиться достигнуть совпадения на синтаксическом уровне текста [ср.: Гарбовский 2004: 295; Латышев, Семенов 2003: 57]. В крайнем своем проявлении эквивалентность есть «максимально возможная лингвистическая близость текста перевода тексту оригинала» [Комиссаров 2004: 117], полное сохранение структуры текста оригинала, а именно: частей речи, пунктуации, разбивки на абзацы и применение принципа конкорданса (перевод определенного слова всегда одним и тем же соответствием) [ср.: Гарбовский 2004: 302-310; Комиссаров 2000: 52-56].
Что касается, адекватного перевода, такой перевод призван достичь совпадения, прежде всего, на прагматическом уровне текста, добиться решения текстом перевода аналогичной решаемой текстом оригинала коммуникативной задачи, создать «динамическую связь между автором и реципиентом на переводящем языке такую же, как и на языке оригинала» [Ю. Найда, Цит. по: Гарбовский 2004: 303-304; ср.: Сдобников, Петрова 2001: 138]. Перевод может быть оценен как адекватный даже при отсутствии в тексте перевода формального лингвистического эквивалента [ср.: Сдобников, Петрова 2001: 144-148]. В случае акцента на эквивалентности переводчик находится под влиянием факторов, в основном, интралингвистического порядка. Адекватность же диктует необходимость обратить внимание, прежде всего, на экстралингвистический дискурс, т.к. при переводе имеет место неизбежное столкновение ментальных пространств автора исходного текста и переводчика: мировоззрение, культура, индивидуально-личностные особенности.
Упомянутые выше естественные языковые несовпадения способов выражения одного и того же содержания делают необходимым применение трансформаций, или «перефразирования в процессе перевода» [Латышев 2005: 279]. Исследователи выделяют следующие основные виды трансформаций: 1. Замена на грамматическом уровне (категориально-морфологическая трансформация или транспозиция). 2. Замена на лексическом уровне (конкретизация, генерализация и модуляция). 3. Перестановка (синтаксическая трансформация). 4. Добавления. 5. Опущения [Там же: 281-282; Гарбовский 2004: 373-378].
Н. К. Гарбовский выделяет также вспомогательные трансформации, а именно эквиваленцию (описание ситуации иными языковыми средствами) и адаптацию (подмену одной предметной ситуации другой, более близкой реципиенту) [Гарбовский 2004: 382-383]. Л. К. Латышев добавляет к этому списку антонимический перевод, конверсивную трансформацию, метафоризацию / де-метафоризацию и экспликацию / импликацию смысла [Латышев 2005: 289-291].
Говоря о трансформациях в процессе перевода, нельзя не остановиться на переводческой компенсации. Т. А. Казакова понимает под компенсацией такую творческую ситуацию, когда переводчик вынужденно «жертвует» тем или иным отдельным знаком, чтобы «воссоздать целое за счет оригинальных свойств ПЯ, которые по своим информационно-художественным возможно стям могут более или менее расходиться с исходным языком» [Казакова 2006: 36]. Однако Т. А. Казакова считает компенсацию допустимой лишь для «маргинальных» элементов художественного текста, несущих минимальный смысл. В подобных случаях компенсированный перевод сохраняет свое качество. При переводе элементов, «тяготеющих к информационному ядру художественного поля», компенсация приводит к существенным информационным потерям [Там же].