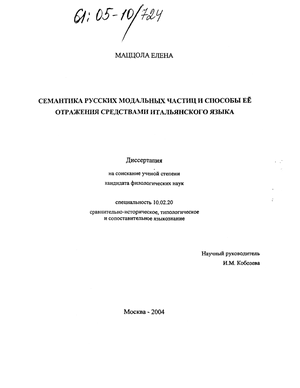Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Модальные частицы русского языка 6
1. Модальные частицы в АГ-80 6
2. Развитие лингвистических исследований о модальных частицах ... 11
2.1. Модальные частицы в рамках контекстно-семантического описания дискурсивных слов русского языка 19
3. Семантическое описание частиц ведь, же и ну 21
3.1. Семантика частицы ведь 21
3.2. Семантика частицы лее 29
3.3. Семантика частицы ну 39
4. Выводы 61
Глава 2. Проблема перевода русских частиц на итальянский язык 63
1. О переводе русских частиц 63
2. Терминологическое уточнение 78
2,1. Понятие эквивалента 80
2.2. Понятие компенсации 83
2.2.1. Интонация в роли компенсации 87
2.3. Понятие целостного переформулирования 89
3. О месте эквивалентов русских частиц в итальянском языке 91
4. Выводы 98
Глава 3. Сопоставительный анализ 99
1. Как перевести ведь на итальянский? 99
1.1. Аргументативная функция ведь 99
1.1.1. Нейтральная причинная связь 99
1.1.2. Когда факты говорят 101
1.1.3- В основании реальности 103
1.2, Ведь "переключения" установки 106
1.3. Выводы 109
2. Русская частица же и ее переводные соответствия в итальянском языке 110
2.1. Же в сопоставительной функции ПО
2.2. Же в аргументативной функции 114
2.3. Же идентификации 125
2.4. Же "безотлагательности" 126
2.5. Выводы 129
4. Русская частица ну в зеркале итальянского языка 129
3.1. Ну- преобладания говорящего 130
3.2. Ну - преобладания контекста 137
3.3. Ну- равновесия 143
3.4. Выводы 151
4. Классификация переводных эквивалентов 153
Заключение 156
Библиография I
Список литературных источников ХШ
- Модальные частицы в АГ-80
- Развитие лингвистических исследований о модальных частицах
- О переводе русских частиц
- Нейтральная причинная связь
Введение к работе
Обращение к модальным частицам русского языка предполагает погружение в одну из самых сложных и малоизученных областей лингвистики. Актуальность выбранной темы обусловлена самой лингвистической категорией частиц, которая с начала 70-х годов особенно заинтересовала лингвистов, поднимая вопросы общетеоретической значимости, такие, как классификация неизменяемых частей речи, взаимосвязи разных компонентов плана содержания высказывания, роль лексического и грамматического значения служебных слов, соотношение семантики и прагматики, статус функциональных категорий, пересекающих границы лингвистических уровней. Частицы представляют особую сложность и в аспекте перевода с одного языка на другой.
Указанные проблемы в первую очередь интересовали общую лингвистику, кроме того, изучением различных аспектов частиц активно занимались и занимаются также в рамках частной лингвистики (особенно русисты и германисты). Это объясняется типологическими различиями в статусе частиц в разных языках. Действительно, частицы играют большую роль в славянских и германских языках, а в романских языках их семантика беднее и их употребление менее частотно. Кроме того, в грамматике итальянского языка лексико-грамматическая категория, подобная классу русских частиц, не выделяется, а само слово «частица» (particella) используется лишь для обозначения некоторых языковых элементов (безударных форм личных и возвратных местоимений; элементов выражающих соотносительную сочинительную связь), которые по своим свойствам ВЫХ0Д5ГГ за рамки классических грамматических категорий.
Что подразумевается под термином модальные частицы в русистике? Что известно о частицах как о классе слов? В чем заключается привлекательность их исследования в сопоставительной перспективе? В попытке ответить на эти
вопросы мы решили ограничить наш анализ тремя частицами: ведь, же и ну. Основная причина ограничения материала исследования была обусловлена методом анализа, а именно семантическим анализом контекстов употреблений русских частиц в сопоставлении с соответствующими контекстами в языке перевода. При рассмотрении множества исследований о семантике частиц мы не раз убедились в адекватности выбранного подхода. Семантако-контекстуальный анализ является по сути длительным и кропотливым процессом, этим объясняется необходимость выбрать только несколько элементов, чтобы успеть довести анализ до требуемой полноты. Помимо этого, наш выбор именно данных единиц зависел от следующих причин. Во первых, мы опирались на то, что для этих частиц уже существуют достаточно полные семантические описания. Дело в том, для исследователя, не являющегося носителем языка, семантика русских модальных частиц является на самом деле сложным объектом изучения. Следовательно, в качестве отправной точки для сопоставления нам было необходимо найти солидную лингвистическую основу среди существующих описаний значения и употребления русских частиц. Во-вторых, нам показалось, что частицы ведь, же и ну представляются особенно интересным материалом при сопоставлении с итальянским языком, потому что сразу становится очевидным, что они не имеют единого лексического эквивалента. Для многих других частиц, даже если использовать те же самые критерии анализа, сопоставление оказывается менее интересным.
На самом деле, научная новизна нашей работы нами видится именно в том, что на данный момент не существует подробных исследований изучаемых лексем в сопоставлении с итальянским языком. В восприятии носителя итальянского языка ведь, же и ну звучат темно, "иностранно", потому что не напоминают никакой известной единицы , как с точкой зрения формы, так и с точки зрения лексического содержания. Данное утверждение нельзя применить к классу частиц в целом: ведь при изучении частицы только, даже при минимальном
знании русского языка, установление ассоциации с чем-то известным (то есть с лексемой sold) было бы гораздо проще, даже учитывая то, что и в этом случае полное совпадение значений и контекстов употребления невозможно. Очевидно, что скрытая семантика частиц ведь, же и ну влияет на наблюдаемые нами расхождения, следовательно, делает нашу работу интересной. Цель исследования заключается в изучении конкретных возможностей итальянского языка в передаче смысла, выраженного в русском тексте при помощи частиц ведь, о/се и ну. Задача исследования - не только перечисление способов передачи русских частиц на итальянский язык, но и изучение проблем, возникающих при переводе русского текста на итальянский язык, поскольку значения русских частиц передаются в итальянском языке набором разных языковых средств: союзами, наречиями, междометиями, синтаксисом, интонацией, порядком слов и т.д. Иными словами, одна из целей работы — поиск наиболее адекватных средств перевода, переводных эквивалентов, с учётом многообразных функций частиц. Несомненно, мы ожидали, что сопоставительное исследование поможет нам понять что-то новое и о самих русских частицах, или продемонстрирует большую адекватность одних описаний по сравнению с другими. В этом заключается и теоретическая ценность нашего исследования, а именно, в подтверждении продуктивности контекстно-семантического анализа частиц (и вообще дискурсивных слов) как основе для их перевода. Практическую ценность, мы видим в том, что результаты сопоставления могут разъяснить те расхождения, которые мы заметили в статьях двуязычных словарей и стать основой для дальнейшей, более точной контрастивной классификации дискурсивных слов русского и итальянского языков. Возможное применение глубокого семантико-контекстуального исследования мы видим в области преподавания русского языка как иностранного, а также в области перевода поскольку, как мы будем подробно рассматривать во второй главе нашей работы, попытка улавливать правильное значение частиц в разных контекстах и соответствующие
переводной эквивалент в другом языке затрудняет задачи лингвистов, а также переводчиков.
Материал исследования представляет собой корпус русских прозаических текстов XX века и их переводов на итальянский язык. Наш корпус содержит около двух тысяч примеров, взятых из современных русских прозаических художественных текстов (см. список в конце). Мы выбрали эти произведения, учитывая в основном два критерия: частоту присутствия в них частиц и возможность найти их перевод на итальянский язык.
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. К работе прилагается библиография и список литературных источников. Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность и научная новизна, формулируются цель и задачи исследования, определяются методы, а также теоретическая и практическая ценность работы. В первой главе «Модальные частицы русского языка» представлено общее положение о грамматическом статусе модальных частиц (1.Модальные частицы в АГ-80), основная линия развития разнородных исследований о частицах (2. Развитие лингвистических исследований о модальных частицах) и вводится понятийный аппарат выбранного нами подхода анализа (2.1. Модальные частицы в рамках контекстно-семантического описания дискурсивных слов русского языка). Затем на основе самых значительных из существующих исследований отдельно описывается семантика ведь, же и ну (3. Семантическое описание частиц ведь, же и ну) и, уже при помощи примеров взятых из нашего корпуса, иллюстрируется их разные семантические макрофункции и контексты употребления.
Во второй главе «Проблема перевода русских частиц на итальянский язык» рассматривается проблематика изучения частиц в сфере перевода. Сначала разъясняются некоторые понятия, заимствованные из теории перевода, в их соотношении с областью служебных слов, напрямую касающихся нашей темы (2. Терминологическое уточнение; 2.1. Понятие эквивалента; 2.2. Понятие
компенсации; 2.2.1. Интонация в роли компенсации; 2.3. Понятие целостного переформулирования). Также рассматривается набор средств итальянского языка, функционально соответствующих русским частицам ( 3. О месте эквивалентов русских частиц в итальянском языке) и выносится определение соответствия между более широкими функциональными классами, для обозначения которых используется целый ряд терминов, подчеркивающих непосредственную связь этих слов со структурой текста — коннекторы, дискурсивные слова и т.п.
В третьей главе «Сопоставительный анализ» предлагается сопоставительный контексто-семантический анализ трех частиц и соответствующих лексем итальянского языка (2. Как перевести ведь на итальянский?; 3. Русская частица же и ее переводные соответствия в итальянском языке; 4. Русская частица ну в зеркале итальянского языка). Затем приводится полученная классификация переводных эквивалентов ( 5. Классификация переводных эквивалентов). В заключении формулируются основные выводы.
Модальные частицы в АГ-80
Приступая к исследованию русских модальных частиц в сопоставительном аспекте, было бы естественным начать обзор существующих точек зрения с авторитетного представления русских модальных частиц, предложенного в «Русской грамматике» 1980 года (далее АГ-80). Частицы определяются там как неизменяемая часть речи, класс слов, в котором «объединяются неизменяемые незнаменательные (служебные) слова, которые, во-первых, участвуют в образовании морфологических форм слов и форм предложения с разными значениями ирреальности (побудительности, сослагательности, условности, желательности); во-вторых, выражают самые разнообразные субъективно-модальные характеристики и оценки сообщения или отдельных его частей; в-третьих, участвуют в выражении цели сообщения (вопросительность) а также в выражении утверждения или отрицания; в-четвертых, характеризуют действие или состояние по его протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или нерезультативности» [АГ-80, 723].
В дальнейшем перечисленные функции частиц группируются, с одной стороны, в функции формообразования, а с другой стороны, в функции разнообразных коммуникативных характеристик сообщения. В виде общей черты для всех этих функций выделяется значение отношения, которое присутствует в них во всех случаях. Это может быть отношение действия, состояния, либо целого сообщения к действительности, или отношение говорящего к сообщаемому, причем подчеркивается, что эти виды отношений очень часто совмещаются в значении одной частицы. Итак, если постараться дать первый ответ на вопрос о виде значения (лексического или грамматического) частиц, в АГ-80 мы обнаружили, что «значением частицы как отдельного слова является то отношение, которое выражается ею в предложении» [АГ-80, 723]. Определение семантики частиц в виде отношения является основополагающей идей, которая будет развиваться во многих исследованиях
Основные разряды частиц выделяются в соответствии с названными функциями: формообразующие; отрицательные; вопросительные; характеризующие признак, действие или состояние по его протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или нерезультативности; модальные; утверждающие или отрицающие реплики диалога. Среди них мы рассмотрим подробнее характеристики группы модальных частиц.
Хотя признается, что модальная окрашенность характерна для класса частиц в целом, собственно модальными считаются те единицы данного класса, которые «вносят в предложение разные значения субъективного отношения к сообщаемому». Затем уточняется, что «это отношение может быть ничем не осложнено, или оно может быть соединено со значением объективного отношения сообщаемого к действительности» [АГ-80, 727-728].
Среди модальных частиц также выделяются некоторые подгруппы, в которых частицы объединены на основе вносимых ими значений. В первой подгруппе помещаются частицы, «вносящие эмоциональные и другие оценки, выражающие непосредственные реакции говорящего», во второй — частицы, «выражающие волеизъявление», и в третьей — частицы, «устанавливающие разнообразные связи и отношения сообщения с его источником, с другими частями сообщения, с другими событиями и фактами» [АГ-80, 728].
Частицы, ведь, же и «у, которые являются непосредственным объектом нашего анализа, относятся к первой функциональной группе (а по строению они все классифицируются как простые, же и ну даже как первообразные).
Разные оттенки значения модальных частиц указаны подробно: подобные частицы могут подчеркивать (усиливая, акцентируя) сообщение или какую-то его часть; выражать ту или другую оценку, качественную характеристику; согласие или несогласие; предупреждение, угрозу; опасение; предложение, принятие, допущение; сомнение; неуверенность, неопределенность отношения; удивление; уверенность; стремление к смягченное, сглаженности, нерезкости выражения. Такими являются частицы ведь, же и ну7, вносящие в текст разнообразные оттенки подчеркивания, ограничения, акцентирующего выделения.
Изложенное до сих пор касалось описания частиц, предложенного в АГ-80, и в его рамках нам понадобится остановиться также на следующих аспектах.
Во-первых, значимым является указание на тот факт, что многие частицы по своему значению и по своим синтаксическим функциям не резко противостоят словам других классов — союзам, вводным словам, междометиям, наречиям, — а совмещают в себе качества частицы и слова одного из этих классов. Для нас является в особенности релевантным выделение подкласса частиц-союзов, которые совмещают разные модальные значения со значениями связующих слов. Таковы, в отдельных своих значениях, ведь и же9 которые выполняют функции связующих слов при противопоставлении.
Развитие лингвистических исследований о модальных частицах
Рассматривая проблематику частиц, необходимо учитывать и другие точки зрения, в особенности результаты самых последних исследований, проводившихся в рамках разных лингвистических направлений.
В самом деле, частицы являются одним из ключевых узлов русистики именно потому, что точно определить их семантические функции — это сложная задача, и если классификация АГ-80 нам помогла сориентироваться в грамматической стороне возникающих вопросов, то большинство открытий, касающихся содержательной стороны, связаны с возникновением новых теорий и с конкретными достижениями некоторых лингвистов. Поэтому в этом разделе мы собираемся кратко обрисовать представление о статусе частиц, опираясь на последние научные труды.
Частицы традиционно противопоставляются полнозначным словам и изначально считается, что их лексическое значение совпадает с их грамматической функцией. Следовательно, они определяются в первую очередь как «бесформенные слова», т. е. слова не имеющие морфологических изменений. Такое положение обнаруживается в исследованиях многих знаменитых лингвистов, например А. М. Пешковского [Пешковский 1928, 39-40], И. И. Мещанинова (который проводит различие между лексемами, т. е. полными слова, и синтагмемами) [Мещанинов 1940, 42-46] и А. А. Шахматова [Шахматов 1941, 506]. Однако признание того, что в классе частиц имеются как логические, так и вне-логические частицы, то есть, не только слова, выражающие категории логики (связки, приглагольные, отрицательные и ограничительные частицы), но также частицы, имеющие функции связи, усиления либо выражения эмоциональности, сделало ясным, что разложить частицы по ячейкам логико-грамматических показателей было бы невозможно.
В самом деле, для того, чтобы раскрыть семантику данных единиц, В. В. Виноградов обращался к категории модальности [Виноградов 1950]. Большинство частиц им определяются как модальные слова, напрямую указывающие на отношение между говорящим и реальностью. Выводы Виноградова заключаются именно в том, что многие частицы находятся как бы посередине между союзами и модальными словами, поскольку в них совмещаются две функции: они активно участвуют в соединении разных членов высказывания, и вместе с тем выражают как оценку того, что связывают, так и точку зрения говорящего по отношению к сообщаемому.
Таким образом, те аспекты семантики частиц (грамматический, синтаксический и эмоционально-выразительный), которые рассматривались как отдельные, не связанные друг с другом, объединяются в едином функциональном значении. Данные функции являются основой для многих классификаций частиц, и хотя в некоторых из них лингвисты принимают к рассмотрению только модальные частицы, исключая синтаксические [Сидоров 1945, 233], сам Виноградов предлагает уже известную общую классификацию, в которой он различает восемь классов частиц: 1. усилительно-ограничительные; 2. присоединительные; 3. определительные; 4. указательные; 5. неопределенные; 6. количественные; 7. отрицательные; 8. модально-приглагольные. Из этого следует, что постепенно формируется понимание того, что семантика частиц целиком связана с текстом и с коммуникативной ситуацией. Упомянем еще раз Пешковского, который утверждает, что частицы, будучи синкатегорематическими, «срастаются с ними (словосочетаниями) в одно неразрывное целое, почему и влияют на форму целого» [Пешковский 1928,39].
Представление о том, что частицы обладают модальным значением, развивается в дальнейших исследованиях, которые направлены в первую очередь на семантико-прагматический аспект проблемы.
Важный шаг вперед был сделан благодаря Р. Якобсону, который впервые поместил частицы в категорию «шифтеров» , то есть среди элементов, способных сочетать в себе два рода знака по Пирсу: символ (элемент лингвистического кода, отсылающий на основании конвенциональных правил к объекту, который он обозначает) и индексный знак (элемент, устанавливающий реальное отношение с объектом, который он обозначает) [Якобсон 1957]. Поэтому, как ясно утверждает Т. М. Николаева, «частицы — это одновременно и десигнаторы и коннекторы: они передают отношение к факту, к другому факту и к сообщаемому» [Николаева 1985,29].
Исследования 70-х годов, отправляющиеся от открытия Якобсона, обнаружили, что частицы обладают не только логико-семантическим значением, но также взаимодействуют с некоторыми факторами коммуникативной ситуации, которая образует контекст высказывания. Кроме того, было отмечено, что нередко частицы, хотя и являются элементами, несущими ответственность за успешное завершение сообщения, имеют скрытую семантику, с трудом поддающуюся переводу, Об этом написала А. Вежбицкая [1976], которая вместе с прагматическими факторами выделила также культурную сторону проблемы: частицы - это не только средства, позволяющие выражать сложные прагматические значения без больших усилий, но они образуют и важную часть стиля поведения, предоставленного в распоряжение языком для говорящих на нем. Следовательно, по мнению Вежбицкой, изучение частиц является необходимым для того, чтобы достичь хорошей коммуникативной компетенции и, одновременно, чтобы содействовать межкультурному взаимопониманию.
Вместе с тем, частицы изучались и в отношении к системе функциональных стилей, в результате чего было замечено, что речь без частиц ощущается как холодная, невежливая, не создающая должного контакта между участниками в процессе сообщения. Таким образом, постепенно становилось все яснее, что традиционная грамматическая классификация устарела.
Водоразделом между исследованиями 80-х годов является монография Т. М. Николаевой «Функции частиц в высказывании» [1985], в которой предыдущая традиция была критически заново прочитана, и частицы были рассмотрены в их коммуникативных функциях, с учетом лингвистической теории пресуппозиций [Арутюнова 1976], прагматики и семантики синтаксиса [Падучева 1974].
О переводе русских частиц
Наше исследование о частицах в русском языке в сравнении с итальянским языком затрагивает сферу перевода. С этой точки зрения встречающиеся проблемы оказываются сложными и разнообразными.
Прежде всего отметим, что вопросы теории перевода актуальны и по сей день, и для их решения предлагаются разные методы. Они тесно связаны с различными лингвистическими теориями и зависят от них. Как и любая речевая деятельность, перевод, по всей вероятности, не осуществляется по единой модели. В процессе перевода находят применение и грамматические трансформации, и лексико-синтаксические перифразы, и семантические преобразования. При этом выбор оптимального способа анализа исходного текста и построение соответствующего текста на другом языке диктуется конкретны условиями межъязыкового коммуникативного акта. Известно, что современная теория перевода не всегда дает готовые решения существующих проблем. Многие стороны переводческого процесса по-разному интерпретируются различными переводоведами. За свою непродолжительную историю общая теория перевода выработала различные подходы к изучению этого сложного явления. В результате сторонники разных научных концепций предлагают разные точки зрения по одному и тому же вопросу.
Тема нашего исследования касается, прежде всего, теоретических и практических проблем перевода частного характера, т.е. перевода с участием конкретной пары языков, русского и итальянского. Точнее, поскольку мы обращаемся к служебным словам, одной из самых расплывчатых областей лингвистического описания, хотя и много изучаемой в последнее время, мы должны исходить из непреложного факта, что в сопоставительных исследованиях семантика таких и подобных лексем часто оставалась в тени. На самом деле, существуют известные лингвистические работы сопоставительного характера, в которых русский язык сравнивается с немецким, английским и французским, но подобные исследования относительно итальянского языка только начинают разворачиваться.
Мы уже говорили о том, что русские модальные частицы вносят свою часть семантической информации имплицитно, и вместе с тем показали, что их вклад в развертывание текста существенно влияет на его смысл. Естественно, с точки зрения перевода, проблема является сложной именно потому, что трудно понять смысловую нагрузку, которую несут в себе частицы. Если предпосылкой точного перевода является правильное понимание подлинника, многозначность и полифункциональность частиц усложняет задачу переводчика- Теория перевода занимается преимущественно полнозначными словами, не уделяя должного внимания служебным, и тем более частицам; а вот переводческая практика, наоборот, испытывает острую потребность в более пристальном изучении служебных слов, так как реальное их употребление оказывает серьезное влияние на общий смысл переводимых фрагментов текста. На самом деле, в ходе нашего анализа мы довольно часто сталкивались с тем, что значение определенной частицы упрощено переводчиком или обобщено до потери его существенной части.
Однако даже в самых последних изданиях, посвященных практике перевода, трудности, касающиеся служебных слов, не рассматриваются. В работе известного итальянского писателя и лингвиста Умбэрто Эко [Есо 2003] разбираются и анализируются сложные случаи, возникающие при переводе с итальянского языка на некоторые другие языки (примеры
берутся из произведений самого Эко, следовательно, точка зрения писателя и его активное участие в интерпретации подлинника ставятся здесь на первое место) и несколько случаев перевода художественных произведений французской, английской и немецкой литературы на итальянский язык. Данные примеры относятся ко множеству трудностей на разных языковых уровнях - рассматриваются ситуации лексическо-семантического несовпадения двух языков, стилистические различия, случаи, в которых необходимо примириться с некой потерей при сохранении основного значения текста, а также возможность полного переформулирования высказывания (имеются в виду те случаи, когда переводчик строит свой перевод, исходя не из значения тех или иных элементов данного высказывания, а из смысла всего высказывания в целом, т. е. «перевыражает» его словами, подчас очень далекими от подлинника). Автор работы останавливается на подробностях и выделяет некоторые закономерности, лежащие в основе переводческих перифраз, определяемых не значением отдельных компонентов высказывания, а смысловым и функциональным содержанием высказывания в целом, а также структурой и смысловой организацией всего текста Тем не менее, в богатстве иллюстрационного материала мы не нашли ни одного примера, относящегося к служебным словам.
Аналогичным образом, в итальянских переводах произведений Довлатова, изданных под редакцией Лауры Салмон, которые образуют значительную часть нашего корпуса примеров, внимательно рассматриваются вопросы перевода. В маленьком эссе в конце книги Regime speciale ("Зона") переводчица излагает основные принципы ее работы [Salmon 2002 (а)]. Отправной точкой является полная разработка текста, которая следует принципу актуализации перевода: итальянскому читателю предлагается текст, способный передать при помощи лексических и синтаксических средств, ту же степень доверительности, близости к читателю, которая имеется в оригинале Довлатова. Кроме того, семиотический, функциональный перевод ставит на первый план целое высказывание, которое считается минимальной единицей перевода, имеющей собственный коммуникативный эффект, который должен сохраняться, и особое внимание обращается на обороты речи, типичные фразеологические выражения, каламбуры, афоризмы и т. п.. При этом добавляется, что отклонение от «буквального» семантического соответствия отдельных слов допускается только в случае, когда его сохранение могло бы нанести ущерб функциональности и выразительности текста [Salmon 2002, 239]. Дальше подробно рассматривается и использование метода отстранения, и все особые случаи, в которых переводчик столкнулся с трудностями при сопоставлении двух языков. Здесь речь идет о факторах разной природы (присутствие в оригинале жаргонизмов, этнографизмов и экзотизмов, необходимость пополнять энциклопедические знания иностранного читателя, давая разъяснения при использовании топонимов и собственных имен), которые по существу являются лексическими. На служебные слова особое внимание не обращается, но мы встретили во всех переводах Салмон интересные варианты перевода русских частиц на итальянский, свидетельствующие о возможности успешного решения рассматриваемой проблемы с использованием всего богатства формальных средств каждого из языков. Вместе с этим мы встретили и сомнительные случаи, в которых смысл оригинала, хотя бы частично, теряется.
Нейтральная причинная связь
Рассмотрим, во-первых, ведь в ее аргументативной функции. Частица устанавливает обратную причинно-следстаенную связь, действует в тексте в качестве аргументативного коннектора, или, лучше сказать, как маркер аргументативного причинно-следственного коннектива.
Ведь вводит новое знание А, из которого следует В: В верно, потому что А, о котором я тебе напоминаю. Ведь указывает на то, что вводимая информация, будучи адекватной, является одновременно релевантной для правильной интерпретации ситуации адресатом речи.
Когда частица имеет функцию аргументативного коннектора, устанавливающего обратную связь аргумента с некоторым тезисом, в пользу которого он приведен, итальянский язык в первую очередь предлагает нейтральный переводной эквивалент perche «потому что». К этому можно добавить и разные синонимы (gli ё che9 giacche, che) этого союза, выбор из которых обусловлен стилистическими причинами. Рассмотрим следующий пример: (44) "Мама, дай-ка мне двойной мед и масло, я ведь утром проспала." [В. Гроссман] (44а) "Mamma, adesso voglio doppia razione di miele e Ъшто, perche stamattina поп mi sono svegliata in tempo per la colazione." [V. Grossman]
Итальянский союз perche, просто выражает причинно-следственную связь высказывания В «дай мне двойной мед и масло» с мотивирующим его утверждением А «утром я проспала» (а значит не завтракала).
Когда же частица имеет функцию аргументативного коннектора, устанавливающего обратную связь аргумента против исходного тезиса, то при переводе на итальянский используются в основном противительные союзы: та и ерриге, или их стилистические синонимы. Рассмотрим следующие примеры: (45) - Вызов нужен, - сказал он. - Без вызова не пропишу. - Я ведь работаю в военном учреждении, — сказала Женя. - По вашим справкам этого не видно. [В. Гроссман] (45а) "Р necessario Tinvito" rispose il ninzionario "non do il permesso se non c fc rinvito." "Ma io lavoro in un isthuzione milhare" repticc&enja. "Dai suoi certificati non risulta." [V. Grossman] (46) Николай Андреевич вспоминал милого Вовси, замечательного актера Михоэлса, казалось невероятным, немыслимым преступление, в котором их обвиняли. Но ведь они признались! Если они не виновны, а признали себя виновными, надо предполагать другое преступление, еще более ужасное, чем то, в котором их обвиняли, — преступление против них. [В. Гроссман] (4ба) Nikolaj Andreevifi ricordava bene il саго Vovsi, lo straordinario attore Michoels, e sembrava irapossibile, impensabile il delhto di ciri venivano accusatL Eppure avevano confessatol Se non erano colpevoli, si erano регб riconosciuti tali; bisognava allora supporre UD altro delitto, ancor рій orribile di quello di cui venivano accused: un delhto contro di loro. [V. Grossman]
Заметим, что противительный союз та «но» используется, когда ведь не соединяется в тексте с другими частицами или союзами; ерриге «однако» используется, когда в русском тексте имеется словосочетания а ведь, но ведь. И в самом деле, еррга-е является сложным союзом (е + риге)9 что объясняет соответствие ему в русском языке конструкций а + ведь/ но + веды 1.1.2. Когда факты говорят Рассмотрим следующий пример: (47) - Позвольте, товарищ генерал, — сказал Крымов. — Толстой в Отечественной войне не участвовал. - То есть как это "не участвовал"? — спросил генерал. - Да очень просто, не участвовал, — проговорил Крымов. — Толстой ведь не родился, когда шла война с Наполеоном. [В. Гроссман]
Говорящий сообщает факт В: «Толстой не участвовал в Отечественной войне». Слушающий высказывает удивление по этому поводу. Тогда говорящий повторно утверждает истинность В и сразу же вводит неоспоримый аргумент А в пользу этого утверждения - «Толстой родился после войны с Наполеоном».
Какая связь устанавливается здесь при помощи ведь! Подчеркивается именно очевидность, некоторый факт вспоминается как доказательство истинности исходного суждения.
Мы находимся в поле гарантий адекватности, за которую отвечает реальность, а именно о реальности здесь и идет речь. Гарантия релевантности, т.е. область говорящего играет здесь второстепенную роль, поскольку именно реальность активно выступает на первый план, поставляя аргументы в пользу В. Сами факты говорят. Рассмотрим другие примеры такого же рода: (48) А потом ее выставили из конторы, где она при Семисотове мыла полы и топила печи, — ей ведь печем было давать хабару, а ее место получила воровка, что в эшелоне отобрала у нее шерстяную кофточку. [В. Гроссман] (49) Скоро придет воронок. Труп погрузят в машину. Один из нас доставит его под автоматом в тюремную больницу. Ведь мертвых зеков тоже положено охранять. [С.Довлатов] Мы снова видим, как ведь вводит реальный факт в качестве аргумента. Факт этот полностью берет на себя ответственность за адекватность информации. Говорящий просто сообщает факт, а сам факт становится обоснованием. Иначе говоря, в этих примерах мы видим превосходство функции гаранта адекватности над функцией гаранта релевантности. Интересно посмотреть, как эта черта отражается при переводе на итальянский язык. (47а) "Mi permetta compagno generate" lo interrappe Krymov. "Tolstoj non ha preso parte alia guerra del 1812." "Come sarebbe a dire che non vi ha preso parte?" ribatte il generale. "Sempliceroenie che non vi ha preso parte" ripete Krymov. "Tolstoj infatti non era aneora nato quando ci fu la guerra contro Napoleone." [V. Grossman] (48a) Ma poi la caccfarono dall ufRcio dove, quando e era Sernisotov, lavava і pavimenti e accendeva Ie stufe: il fatto e che lei non aveva mance da dare, e il suo posto lo ottenne una ladra, quella che nel convogh o le aveva rubato la blusa di lana. [V. Grossman] (49a) Ben presto sarebbe arrivato un celrulare dove avTebbero carkato il cadavere. Uno di noi col mitra lo avrebbe scortato alTospcdale del carcere. Infatti ё stabilho che vengano sorvegliati anche і detenuti mortL [S.DovIatov]