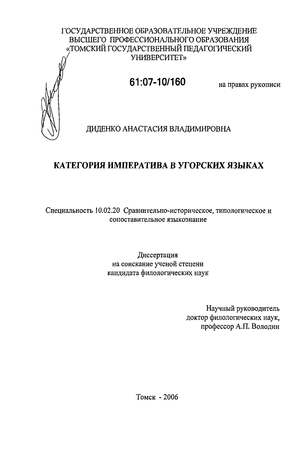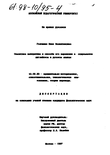Содержание к диссертации
Введение
Глава I, Трактовка категории императива в современной лингвистике 13
1.1. Место императива в семантической зоне глагольной модальности 13
1.2. Традиционная концепция императива 15
1.3. Нетрадиционная концепция императива 17
1.4. Эталонная парадигма императива 22
1.5. Применение метода семантической карты в исследовании императива 24
1.6. Характеристика угорских языков 32
1.6.1. Классификация диалектов 40
1.6.2. Современная языковая ситуация 44
1.7. Способы маркирования императива в языке-основе 46
1.7.1. Следы древних способов маркирования императива в обско-угорских языках 51
1.7.2. Маркирование императива в финно-угорских языках 52
Краткие выводы и обощения к Главе 1 53
Глава II. Императив венгерского языка 54
2.1. Средства выражения императива 54
2.2.Фонетические изменения в императиве 64
2.3. Особенности семантики и синтаксиса венгерского императива 75
Краткие выводы и обобщения к Главе II 80
Глава III. Императив хантыйского языка 81
3.1. Императивная парадигма хантыйского языка 81
3.2. Формы императива 2 л. в западных диалектах 84
3.3. Формы императива 2 л. в восточных диалектах 96
3.4. Чередование гласных в формах императива 2 л 99
3.5. Формы императива 3 л. в западных диалектах 103
3.6. Формы императива 3 л. в восточных диалектах 106
3.7. Формы императива 1 л. в западных диалектах ПО
3.8. Формы императива 1 л. в восточных диалектах 115
Краткие выводы и обобщения к Главе III 119
Глава IV. Императив мансийского языка 121
4.1. Императивная парадигма мансийского языка 121
4.2. Формы императива 2 л. в северных диалектах 122
4.3. Формы императива 2 л. в южных диалектах 125
4.4. Чередование гласных в формах императиве 2 л 128
4.5. Пассивное спряжение императива 2 л 129
4.6. Формы императива 3 л в северных диалектах 130
4.7. Формы императива 3 л в южных диалектах 133
4.8. Формы императива 1л 134
4.9. Этикетные формы императива в угорских языках 137
4.10. Прохибитив в угорских языках 138
Краткие выводы и обобщения к Главе IV 141
Заключение 143
Список сокращений 146
Список литературы 149
Приложение 1 165
Приложение 2 168
- Место императива в семантической зоне глагольной модальности
- Средства выражения императива
- Императивная парадигма хантыйского языка
- Императивная парадигма мансийского языка
Введение к работе
В теоретических концепциях первой половины XX в. повелительному наклонению или императиву уделялось относительно мало внимания, несмотря на то, что повелительные предложения составляют значительную часть речевой продукции человека. В то время исследователей больше интересовало устройство языка как системы знаков, не зависимой от говорящего человека. Относительная простота устройства повелительных предложений явилась причиной того, что императив не считался престижной темой исследования.
Во второй половине XX в. появились новые концепции, центральное место в которых стала занимать речевая деятельность, т.е. процесс использования языка человеком. Смена теоретических установок повлекла за собой изменение эмпирической базы, в результате которого категория повелительности в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся сфер исследования в лингвистике. Повышенный интерес лингвистов к средствам выражения повеления обусловлен тем, что повелительные предложения тесно связаны с коммуникативной ситуацией по своим семантико-прагматическим свойствам.
Особое место императив занимает в типологических исследованиях, так как, с одной стороны, представляет собой универсальную категорию и обладает достаточно ясной семантикой, с другой стороны, для данной категории характерно формальное разнообразие, что делает императив «естественным объектом типологического исследования» (ХраковскиЙ, Володин 1986: 8).
Однако в целом по степени изученности среди других глагольных категорий императив уступает место таким категориям, как аспект или время. За исключением таких работ как «Семантика и типология императива. Русский императив» B.C. Храковского и А.П. Володина, сборников Санкт-Петербурской типологической школы и нескольких работ, посвященных отдельным аспектам данной темы, крупных публикаций по
5 императиву нет. Следует также отметить статью Й. Ван дер Аувера, В.Ю. Гусева и Н.Р. Добрушиной «Семантическая карта императива-гортатива», в которой они обобщают результаты типологического исследования императивных систем 376 языков.
Диссертационная работа посвящена описанию и анализу средств выражения императивных значений в угорских языках; хантыйском, мансийском и венгерском. Предлагаемая работа носит сопоставительный характер: для исследования привлекается материал родственных языков.
Угорские языки принадлежат финно-угорской языковой семье, которая вместе с самодийскими языками образует уральскую языковую семью. Отличительный признак языков уральской семьи - словоизменение при помощи постпозитивных аффиксов, т.е. путем агглютинации.
Венгерский язык образует отдельную подветвь угорской ветви финно-угорской семьи, другую подветвь - обско-угорскую - образуют хантыйский и мансийский, с которыми венгерский состоит в ближайшем генетическом родстве. Разобщение предков венгров и обских угров произошло не позднее, чем в I тыс. до н.э., поэтому в настоящее время между венгерским, с одной стороны, и обско-угорскими языками, с другой, наблюдаются довольно глубокие расхождения. Позднее появление письменности и литературных языков способствовало укреплению как диалектных особенностей, так и иноязычных влияний.
Так, в венгерском языке обычно выделяют порядка восьми диалектных групп, в мансийском - четыре диалектные группы. В хантыйском языке насчитывают десять диалектов и говоров, которые принято делить на два крупных диалектных массива: западный и восточный.
Из народов, говорящих на угорских языках, пользоваться письменностью на родном языке раньше других начали венгры. Единый литературный язык сложился на основе северного диалекта в XVII - XVIII вв. Неудивительно, что из трех угорских языков именно венгерский наиболее
полно исследован: детально описаны все уровни языковой системы, изучена история языка.
Письменность на хантыйском и мансийском языках существует с 30-х гг. XX в. Только в мансийском литературный язык сформировался на базе одного диалекта, в хантыйском языке единой литературной нормы не сложилось, книги и учебные пособия издаются на пяти диалектах. Отсутствие письменных памятников, связанное с поздним развитием письменности, и слабая степень изученности этих языков (самые ранние исследования датируются серединой XIX в.) затрудняют диахронический анализ языковых явлений в обско-угорских языках. Только учет существующих диалектных различий способствует установлению исторических закономерностей, влияющих на языковые процессы в хантыйском и мансийском языках.
Именно поэтому при описании императивных парадигм обско-угорских языков привлекался материал нескольких диалектов. В мансийском языке основу исследования составили сосьвинский (северная группа), кондинский (восточная группа) и тавдинский (южная группа) диалекты. В хантыйском языке материальную базу составили: обдорский, шурышкарский, казымский, среднеобский (западная группа) и сургутский и вах-васюганский (восточная группа) диалекты.
Императивная система обско-угорских языков специально не изучалась, средства выражения императивных значений 3 и 1 лиц до настоящего времени остаются почти не исследованными, диалектные различия, существующие в области средств выражения императива, не привлекали внимания ученых.
Таким образом, актуальность данного исследования заключается в том, что оно соответствует состоянию и потребностям лингвистической науки на сегодняшний день: существует необходимость заполнить лакуны в описании императивных систем обско-угорских языков.
Цель исследования - системное описание императива в угорских языках через сопоставление трех императивных парадигм,
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
1. Охарактеризовать современные императивные парадигмы
хантыйского и мансийского языков.
2. Сопоставить императивные парадигмы венгерского и обско-угорских
языков с учетом межъязыковых и междиалектных различий.
3. Систематизировать типологическую характеристику императива
угорских языков.
4. Проследить изменения в рамках императивных парадигм в угорских
языках от прафинно-угорского до современного состояния.
Объектом данного исследования являются императивные парадигмы в угорских языках.
Предмет исследования составляют синтетические и аналитические средства образования императива 2, 3 и 1 лиц в хантыйском языке в сопоставлении с мансийским и венгерским.
Научная новизна представленной работы заключается в использовании комплексного подхода к исследованию глагольных категорий на примере категории императива. В основу данного подхода были положены самые передовые идеи современного языкознания, а именно, эталонная парадигма императива и метод семантических карт, которые позволяют учитывать формы побуждения 3 и 1 лиц. Впервые подобное исследование проведено на материале исчезающих языков Сибири с учетом диалектных различий, являющихся характерной особенностью этих языков, что в отсутствие письменных памятников остается единственным способом сравнительно-исторического изучения хантыйского и мансийского языков.
Кроме того, автором был собран и исследован материал по тром-аганскому диалекту, входящему в восточную группу (наименее исследованную и описанную) диалектов хантыйского языка.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что впервые было проведено специальное сравнительно-сопоставительное исследование императивной парадигмы трех родственных языков. В результате были получены выводы, позволяющие не только представить детальное описание современных императивных парадигм обско-угорских языков, но и выявить закономерности, влияющие на ход развития императивных парадигм.
Практическая значимость работы определяется возможностью применения результатов исследования при подготовке лекционных и семинарских занятий по общему, сравнительному и финно-угорскому языкознанию. Материалы данного исследования, значительная часть которых впервые вводится в научный обиход, могут быть использованы при выполнении диссертационных работ, в научно-исследовательской деятельности аспирантов и студентов. Полученные результаты могут иметь прикладное значение при составлении пособий и справочников, а также создании электронной диалектной базы исчезающих обско-угорских языков.
Теоретической и методологической базой данного диссертационного исследования служат труды отечественных и зарубежных ученых по финно-угорским языкам, общему, сравнительно-историческому и типологическому языкознанию. При определении специфики категории императива в ряду глагольных значений использовались идеи таких ученых как Дж. Байби, В.А. Плунгян, В.Ю. Гусев, А.Ю. Урманчиева и др. В работе используется авторская концепция императива B.C. Храковского и АЛ. Володина, а также разработанные на ее основе эталонная парадигма и семантическая карта императива, созданная Й. Ван дер Аувера, В.Ю. Гусевым и Н.Р. Добрушиной.
Основными методами данного исследования являются описательный, сравнительно-сопоставительный, способствующий выявлению особенностей императивных систем трех родственных языков, и типологический. При сборе материала по тром-аганскому говору сургутского диалекта хантыйского языка использовалась традиционная методика полевых
9 исследований, а именно, наблюдение, документирование и обработка языкового материала при помощи технических средств, метод лингвистического эксперимента, в частности, опрос информантов.
При записи примеров тром-аганского говора сургутского диалекта хантыйского языка (из собственных полевых записей автора), была использована транскрипция IP А, остальные примеры приводятся в том виде, как они даются в источниках. Синтетические формы императива представлены в таблицах. Все примеры выделены курсивом, аналитические формы дополнительно выделяются жирным шрифтом. Во всех таблицах и примерах форм императива венгерского, хантыйского и мансийского языков форманты корня (R), показателя модальности (М) и лично-числового показателя (Р) отделены друг от друга при помощи знака «-».
Материалом исследования послужили данные словарей и грамматических пособий хантыйского, мансийского и венгерского языков; художественные, фольклорные и публицистические тексты на хантыйском и мансийском языках; полевые записи автора и других сотрудников кафедры языков народов Сибири, сделанные в местах компактного проживания ханты. Информантами по тром-аганскому говору сургутского диалекта хантыйского языка были жители д. Русскинские Сургутского района Тюменской области А.Ф. Иконникова, З.В. Кирилишина, Е.Ф. Лебедич, А.А. Русскина, Т.А. Сайнакова, B.C. Тэвлина, Р.И. Тэвлина. По шурышкарскому диалекту хантыйского языка информантом была Т.А. Малахова.
Апробация работы. Положения, изложенные в работе, были представлены в докладах на следующих конференциях: 1) ежегодной региональной конференции «Языки народов Сибири и сопредельных регионов» (27-28 октября 2005 г., Институт филологии СО РАН г. Новосибирск); 2) Международном лингвистическом симпозиуме «Грамматика и прагматика сложных предложений в языках Европы и Северной и Центральной Азии» (LENCA-3, 27-30 июня 2006г., г. Томск), 3) Международной научно-практической конференции «Иностранные языки и
10 межкультурная коммуникация в развивающемся образовательном пространстве: теоретические и прикладные аспекты» (28 октября 2006 г., г. Томск); а также обсуждены 4) на научно-методическом семинаре аспирантов кафедры языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета (10 октября 2005, г. Томск). На защиту выносятся следующие положения:
1) Императивные парадигмы хантыйского и мансийского языков
включают порядка 27 форм, из которых только формы 2 л. образуются
синтетически, формы 3 и 1 лиц образуются аналитическим путем.
2) Межъязыковое сопоставление императивных парадигм показало, что
в угорских языках существуют две модели развития императива: венгерская,
которая использует эксплицитно выраженный суффиксальный маркер
императива, и обско-угорская, которая использует нулевой показатель для
выражения центральных форм (2 л.) и аналитический способ для выражения
форм 3 и 1 лиц. Аналитическая конструкция образуется путем сочетания
частицы неглагольного происхождения и форм индикатива, суффиксальный
способ был унаследован угорскими языками от уральского языка-основы.
3) Типологическая характеристика, основанная на известной
семантической карте императива, свидетельствует о том, что венгерская и
мансийская императивные парадигмы являются более архаичными по
сравнению с хантыйской.
4) На современном этапе развития в венгерской и хантыйской
императивных парадигмах преобладает закономерность, согласно которой
наблюдается редукция императивной словоформы.
Объем и структура диссертации: работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, списка сокращений и двух приложений.
Во Введении обосновывается актуальность и научная новизна исследования, раскрывается теоретическая и практическая значимость работы, формулируются цель и задачи, характеризуется материал работы,
определяются объект и предмет исследования, а также положения, выносимые на защиту.
В Главе I представлены две концепции императива, одна из которых -так называемая нетрадиционная - составляет теоретическую базу диссертационного исследования, в которую также входит и семантическая карта императива. Авторами нетрадиционной концепции и разработанной на ее основе эталонной парадигмы императива являются представители Санкт-Петербургской типологической школы - B.C. Храковский и А.П. Володин. Семантическая карта императива была создана Й. Ван дер Аувера в сотрудничестве с российскими исследователями императива В.Ю. Гусевым и Н.Р. Добрушиной для проведения масштабного типологического исследования императивных систем 376 языков мира.
Сведения об угорских языках, истории их изучения и создания литературного языка, а также современные классификации диалектов изложены в Главе І. В этой части работы обобщаются данные о развитии императивной парадигмы в языке-основе, начиная с уральского состояния до праугорского. Для сравнения приводятся сведения о современных императивных парадигмах финно-угорских языков.
В Главе II содержится подробный анализ структуры, семантики и синтаксических особенностей императива венгерского языка. В этой же главе с помощью семантической карты дается типологическая характеристика венгерского императива и исследуются причины и дальнейшее направление развития процессов, наблюдаемых в императивной парадигме,
В Главе III исследуется парадигма императива западных и восточных
диалектов хантыйского языка. Императив хантыйского языка
восстанавливается до эталонной с привлечением языкового материала разных диалектов. Полученные результаты отображаются на семантических картах. Проводится последовательное сопоставление двух императивных
12 парадигм: восточнохантыйской и западнохантыйской, а также хантыйской и венгерской.
В Главе IV восстанавливается и анализируется мансийская императивная парадигма с учетом данных северных, восточных и южных диалектов. Семантическая карта мансийского императива сопоставляется с хантыйской и венгерской, выясняются причины наблюдаемых структурных различий и совпадений.
В Заключении обобщаются основные результаты исследования и формулируются выводы об особенностях структуры и хода исторического развития императива угорских языков.
Объем диссертационного исследования составляет 171 страницу машинописного текста, список литературы включает 157 источников, из них 43 на иностранных языках.
Место императива в семантической зоне глагольной модальности
В современной лингвистике принято выделять две крупные семантические зоны глагольных значений, выражаемых морфологически: аспектуально-таксисную и модальную. Зона модальности привлекает в последнее время внимание исследователей, так как, вследствие исключительной обширности и разнородности значений этой зоны, дать полное описание ее структуры лингвистам не удается. Мнения относительно границ семантической зоны модальности и ее внутренней организации существенно отличаются. Поэтому прежде чем приступать к рассмотрению категории императива и места этой категории в семантической зоне модальности, необходимо уточнить значения таких ключевых терминов как модальность и наклонение.
Под наклонением в данной работе понимается грамматическая категория, граммемы которой выражают модальные значения, т.е. наклонение - это грамматикализованная часть семантической зоны модальности или «модальность является областью представлений, а наклонение - это ее флективное выражение» (Bybee, Perkins, Pagliuca 1994: 181). Многие исследователи подчеркивают трудность описания глагольной модальности, связано это с тем, что у модальных значений не удается обнаружить единый понятийный центр, как, например, у аспектуальных значений, где таким центром является описание «динамики ситуации» (Плунгян 2003: 308).
Вследствие этого, некоторые исследователи, например Дж. Байби, полагают невозможным определить границы и структуру семантической зоны модальности и предпочитают рассматривать категорию наклонения как некий «набор диахронически взаимосвязанных функций» (Bybee и др. 1994: 176). Дж. Байби выделяет 4 типа модальных функций: agent-oriented, speaker- oriented, epistemic и subordinating (Bybee и др. 1994: 176). В переводе на русский язык эти функции называются (цит. по: Урманчиева 2004: 34): область агентивных модальных значений (agent-oriented), локутивные модальные значения (speaker-oriented), эпистемические модальные значения и область подчиненных пропозиций (subordinating - зависимые наклонения). Императив и близкие по значению к императивным наклонения Дж. Байби относит к локутивным, так как в отличие от агентивных они не сообщают о существовании условий, в которых некоторый агенс находится и которые на него воздействуют, но позволяют «навязывать» эти условия адресату (Bybee и др. 1994:179).
Дж. Байби полагает, что агентивные модальные значения являются первичными по отношению к трем другим (Bybee и др. 1994: 194). Из этого положения следует, что источником императивных форм могут служить средства выражения долженствования, необходимости и возможности. Тем не менее, согласно данным другого исследования, объектом которого было использование неспециализированных форм в функции императива, модальные формы, выражающие долженствование, реже употребляются для образования императива, чем формы настоящего или будущего времени (Гусев 2004: 398-400). Следовательно, агентивные модальные значения не могут быть признаны единственным источником развития императивных форм. Таким образом, утверждение о первичности агентивных значений вызывает сомнения и необходимо говорить как минимум о двух первичных модальных значениях: агентивных и локутивных.
Подтверждение верности данного положения можно обнаружить в работе самой Дж. Байби, где отмечается следующее: императив может иметь нулевой показатель особенно в форме единственного числа. Хотя это явление не является широко распространенным, но в тех языках, где оно встречается, формы с нулевым маркером императива используются для выражения императивных значений и других модальных значений не оформляют. Этот факт, по мнению Дж. Байби, указывает на то, что данные императивные формы изначально были императивными и никакого другого источника у них не было (Bybee и др. 1994: 210). Таким образом, локутивные модальные значения (или значения императива) относятся к первичным модальным значениям в языках, где императив маркируется нулевым показателем.
В отношении императивных форм с ненулевым маркером указываются два основных источника - формы со значением будущего времени и долженствования (Bybee и др. 1994: 210).
В.А. Плунгян считает возможным указать два «центра консолидации» внутри зоны модальности - это 1) «оценка» или отношение говорящего к ситуации («партиципантная» модальность) и 2) «ирреальность» или статус ситуации по отношению к реальному миру (эпистемическая) (Плунгян 2003: 309). На эту оппозицию накладывается противопоставление основных типов модальных значений: модальность внутренней и внешней необходимости образует область «партиципантной» модальности и противостоит области эпистемической модальности (Урманчиева 2004: 32).
В рамках данного подхода принято относить императив к области ирреальных значений, а именно, к области значений внешней необходимости «партиципантной» модальности.
В целом, несмотря на различия в понимании структуры и границ семантической зоны модальности, как показано выше, исследователи сходятся в том, что императив входит в данную семантическую зону. Однако определение места императива в системе наклонений по-прежнему вызывает дискуссии.
Средства выражения императива
В современном венгерском языке глагол изменяется по трем лицам, трем временам, трем наклонениям и имеет два ряда безобъектного и объектного спряжений. Все эти категории взаимосвязаны - семантика лиц связана с категорией времени и наклонения, а также с категорией глагольной определенности, а категория числа неотделима от категории лица.
В венгерском языке отсутствует грамматическая категория вида; видовые оттенки значения выражаются в основном словообразовательным путем (Майтинская 1959: 107). Зато венгерские глаголы обладают категорией (не)определенности, проявляющейся в формах безобъектного или объектного спряжений (Майтинская 1955: 205).
В венгерском языке среди грамматических категорий глагола в целом отсутствует категория залога, так как залоговые оттенки значения обозначаются множеством разнообразных суффиксов и выражение залоговой направленности не связано с какими-либо особыми формами спряжения. Глаголы нейтральной, возвратно-средней или страдательной направленности спрягаются совершенно одинаково. Тем не менее, следует отметить, что для употребления личных окончаний глаголов важное значение имеет их принадлежность к так называемым глаголам с -ік и без -ік (Балашша 1951: 257-259; Майтинская 1955: 205, 216 и др.), Некоторые исследователи, например, Е.А. Хелимский, считают необходимым выделять три серии личных окончаний венгерских глаголов: для субъектного, объектного и «ік-ового» спряжения (Хелимский 1982: 71).
Свое название глаголы с -ік получили в связи с тем, что они в 3-м л. ед. ч, настоящего времени изъявительного наклонения в безобъектном спряжении имеют окончание -ік, в то время как глаголы без -ік в этой же форме не имеют никакого окончания. Огромное большинство глаголов в венгерском языке относится к глаголам без -ік. К глаголам с -Ік первоначально относились только глаголы с определенной семантикой: страдательные (например, szuletni «родиться»), возвратные (например, mosakodni «мыться») и взаимного действия (например, verekedni «драться») (Майтинская 1955: 216-217).
Однако у многих глаголов с -ik эти значения залогового оттенка уже затемнились, некоторые глаголы с -ik утратили это окончание и перешли в группы глаголов без -ik. Четкая семантическая дифференциация этих двух групп глаголов также нарушается тем, что целый ряд глаголов без -ік перешел в группу глаголов с -ік. В результате стирания семантического различия между этими двумя группами глаголов началось их нечеткое различение. Личные окончания глаголов с -ік отличаются от окончаний глаголов без -ік только в единственном числе безобъектного спряжения и то не везде (Майтинская 1955: 216-217). В современном венгерском языке только секейский диалект продолжает четко различать спряжения с -ik и без В императиве унификация спряжений глаголов с -ik и без -ік продвинулась еще дальше, чем в настоящем времени изъявительного наклонения. Формы глагола без -ік теперь не только в разговорном языке, но также и в литературном стали общеупотребительными и для глаголов с -ik. В просторечии иногда, наоборот, формы с -ik переносятся на глаголы без -ik, например, (35) kerjel вместо kerj «проси», (36) vdrjal вместо varj «жди» (Майтинская 1955:232).
При сопоставлении форм очевидно наличие особого показателя императивности в порядке М общего для всей парадигмы, это - -/ или -ja, -je. Также сразу бросается в глаза отмечаемая многими исследователями особенность императива венгерского языка - лично-числовая императивная парадигма по своему составу совпадает с аналогичной парадигмой индикатива.
Ни в одном языке мира восьмичленной парадигмы императива, полностью соответствующей эталону, обнаружено не было. Количество форм в реальных парадигмах уменьшается за счет процессов редукции и синкретизации. Редукция представляет собой явление, при котором в реальной парадигме отсутствуют какие-либо формы, которые представлены в эталонной парадигме. Синкретизация - это такое явление, когда в реальной парадигме одна форма выступает вместо двух форм одной пары, т.е. одна форма способна выступать как форма и единственного и множественного числа (Храковский, Володин 1986: 42-43). В случае венгерской императивной парадигмы синкретизация касается двух пар: форм совместного действия и форм 1 л. Таким образом, венгерская императивная парадигма содержит шесть форм, т.е. по количеству форм парадигма императива совпадает с парадигмой индикатива.
Заполнение порядка Р полностью совпадает для ряда форм объектного спряжения и относительно мало различается для форм безобъектного спряжения, тем не менее, случаи несовпадения необходимо проанализировать.
Обращает на себя внимание нулевая морфема на месте показателя Р в форме vdr - j - 0 «жди» безобъектного спряжения, еще в начале нововенгерского периода на месте нулевой морфемы был личный аффикс -el, сходный с соотносительной формой индикатива (Майтинская, 1955), ср. формы lak -j - dl и (lak -j) в таблице №4. В настоящее время императивная форма на -el является архаичной и выходит из употребления.
На наш взгляд, данное явление заслуживает особого внимания, так как резко выделяет форму 2 л. ед.ч. в ряду форм других лиц. Если сравнить формы 2 л. объектного и безобъектного спряжений, можно сделать вывод: в современном венгерском языке центральная форма императивной парадигмы выражается либо словоформой вида R+M (vdr -j - 0 «жди», (lak -j) «живи»), либо - R+P {vdr (ja) - d «жди») в отличие от словоформ других лиц, имеющих вид R+M+P. Таким образом, мы полагаем возможным сделать следующий вывод: в венгерском языке присутствует тенденция к сокращению словоформы императива - центральная форма 2 л. ед.ч. содержит только два компонента R+M или R+P, а не три, как все остальные члены императивной парадигмы.
Императивная парадигма хантыйского языка
Все финитные формы хантыйского глагола четко разделяются на два типа: одни формы представляют действие уже свершившимся (однажды или многократно), совершающимся сейчас или часто, или постоянно, или таким, которое произойдет скоро или не скоро. Употребляя эти формы, говорящий выражает свое знание реального положения дел (Хантыйский глагол 1989: 9).
Этому первому типу противопоставлен второй - такие формы глагола, которые представляют действие (событие) только как мыслимое, представляемое в сознании говорящего, например, как желаемое им, требуемое, или, наоборот, запрещаемое, нежелательное; или же как такое, которое показалось ему происшедшим, а на самом деле не произошло и даже не могло произойти. Формы первого типа, т.е. реальные, в хантыйском языке гораздо более многочисленны и разнообразны, чем формы второго типа, т.е. нереальные (Хантыйский глагол 1989: 9).
Согласно мнению таких исследователей, как М.И. Черемисина и Е.В. Ковган, императив противостоит всем остальным наклонениям - как реальным, так и нереальному. Формы императива не различают грамматических лиц, т.е. они чисто числовые. Здесь, как и в индикативе, представлены два ряда форм: субъектные и объектные. В венгерском языке эти два ряда спряжения принято называть безобъектным и объектным, что не отражает специфику этих форм в хантыйском и мансийском языках. Глагол в субъектном спряжении не предполагает прямого объекта, но и не исключает его. Объектное спряжение, соответственно, предполагает переходный характер действия. Некоторые исследователи обозначают эти два ряда как «общее» и «определенное» спряжение, что также не совсем полно отражает специфику противопоставления этих форм. На самом деле субъектное и объектное спряжения представляют собой два особых способа выражения отношений между субъектом, объектом и действием. В субъектном спряжении формы глагола ориентируются на грамматическое лицо того участника ситуации, который выражен подлежащим. Термином «объект» обозначается роль того участника ситуации, на который направляется действие, исходящее от субъекта (Хантыйский глагол 1989: 24-26).
Императив хантыйского языка отличается от венгерского еще и тем, что числовые показатели здесь являются единственными выразителями значения наклонения. В индикативе и неочевидном наклонении это также показатели времени, а в сослагательном наклонении, кроме того, - лексические показатели: ки, цэпу(Хантыйский глагол 1989: 22).
Следует остановиться на значении категории числа, так как данная категория в обско-угорских и венгерском языках сильно отличается. Значение категории числа связано не с актом общения, а с реальной единичностью или не-единичностью предметов или лиц. Глагольная категория числа обозначает отнесенность действия к одному или более производителям действия или носителям состояния. В хантыйском языке в рамках категории числа выделяются три значения: единственного, двойственного и множественного числа (Хантыйский глагол 1989: 19-20).
Основными значениями лично-числовых форм глагола, таким образом, является для единственного числа: отнесенность действия либо к говорящему, либо к слушающему, либо к лицу, не участвующему в данном речевом акте, или предмету. Формы не-единственного числа, т.е. двойственного и множественного, относят действие к группам лиц или предметов: двойственное число - к группам из двух человек (предметов); множественное - к группам из большего числа лиц (предметов). Это группы, в которые входит говорящий, - 1-е л. дв. или мн.ч.; группы, в которые входит собеседник, - 2-е л. дв. или мн. ч.; группы, в которых нет ни говорящего, ни собеседника - 3-е л. дв. или мн. ч. (Хантыйский глагол 1989: 19-20).
Семантика форм множественного числа 1-го и 2-го л., т.е. собственно-лиц, в отличие от 3-го л., «не лица», к которому относятся все существительные, не выводима непосредственно из семантики форм единственного числа. Другими словами, «мы» = это не «много я», а «вы» - это не «много ты». Форма 1-го л. мн. ч. обозначает группу лиц, включающую говорящего. Следовательно, на наш вгзляд, можно констатировать отсутствие в хантыйском языке форм эксклюзива 1 л. Форма 2-го л. мн. ч. обозначает группу лиц, включающую собеседника, адресата речи. Форма 3-го л. мн. ч., если речь идет о людях, обозначает не столько множество тождественных объектов сообщения, сколько некоторую группу лиц без говорящего и собеседника. Таким образом, парадигма форм глагола, противопоставленных по лицу и числу субъекта действия, в хантыйском языке состоит из девяти мест (Хантыйский глагол 1989: 19-20).
Так как в хантыйском объектном спряжении формы, противопоставленные по лицу и числу субъекта, дифференцируются далее с учетом числа объектов действия (ед. - не-ед.), лично-числовых форм оказывается здесь в два раза больше, чем в субъектном спряжении, - 18 (Хантыйский глагол 1989: 21). Таким образом, общее количество форм глагольной парадигмы составляет 27, из которых 9 форм субъектного спряжения и 18 - объектного.
Категории лица и числа глагола не только взаимосвязаны, но и тесно связаны с другими глагольными категориями, и в первую очередь - с категорией наклонения. Связь эта проявляется в том, что лично-числовые формы являются одновременно формами того или иного наклонения.
Императив хантыйского языка очень мало изучен, и относительно четко в грамматических описаниях представлены только формы «повелительного наклонения в собственном, узком, смысле», т.е. формы, обращенные к адресату речи, которому предписывается совершить действие. В хантыйском это могут быть формы 2-го л. ед. или дв, и мн. ч. Как будет видно из примеров, все эти формы имеют специальные показатели, - в отличие от русского, и от тюркских, и монгольских и многих других языков, где повеление, обращенное к одному собеседнику-адресату, выражается чистой глагольной основой. Например: рус. пою (пой=у) - пой!; алт. кдр! - смотри; бурят, аба! - возьми (Хантыйский глагол 1989: 13-16).
Хантыйская императивная парадигма состоит из синтетических и аналитических форм: формы 2 л. выражены синтетически, формы 3 л., совместного действия и 1 л. - аналитически. Центральная пара представлена тремя формами: 2 л. ед.ч. (например, каз. вер-а «делай») и 2 л. дв. и мн.ч. (каз. вер-атн «делайте=дв.ч.» и вер-аты «делайте=мн.ч.»); вторую пару образуют формы 3 л. ед., дв. и мн. ч, (срдноб. туе am арий-т «пусть он(а) поет», тын am арий-т-ангын «пусть они{дв.ч.) поют» и тыв am арий-т-ыт «пусть они(мн.ч.) поют»); третью пару образуют формы совместного действия, которые представлены формами 1 л. дв. и мн.ч. Для формы совместного действия единственного числа (исполнители действия = говорящий + один слушающий) - каз. я, OMac-jj-умн «ну, сядем мы(дв.ч.)». Для формы совместного действия множественного числа (исполнители действия = говорящий + слушающие) - каз. я, ман-Jj-ye «ну, пойдем (мн.ч.)».
Императивная парадигма мансийского языка
В мансийском языке, также как в хантыйском и венгерском, глагол имеет два ряда спряжения: субъектного и объектного. Аналогично хантыйской глагольной парадигме категория числа представлена в мансийском оппозицией: единственного, двойственного и множественного, соответственно, общее количество глагольных словоформ составляет двадцать семь.
Как и в хантыйской, в мансийской императивной парадигме синкретизация касается одной пары: форм 1 л. Таким образом, можно утверждать наличие семичленной обско-угорской модели императива, противопоставленной шестичленной венгерской модели. Аналогично хантыйской, мансийская императивная парадигма включает синтетические и аналитические форм: формы 2 л. выражены синтетически, формы 3 л., совместного действия и 1 л. - аналитически.
Формы 2 л. образуются двумя способами: 1) при помощи основы глагола, например: (47) (сев.-манс.) min «иди» или (48) (сев.-манс.) tuv suns «смотри туда»; 2) при помощи сочетания основы глагола с личным суффиксом, например: (49) (сев.-манс.) тіп-еп «иди»,(50) (сев.-манс.) suns-en «смотри». Императив мансийского языка немаркирован. В безобъектном спряжении форма 2 л. состоит из основы глагола + личное окончание 2 л. (51) (сев.-манс.) tot-en "неси ты" и (52) tot - ёп "несите вы (дв./мн.ч)", а в объектном спряжении - из основы глагола + элемент, указывающий на определенный объект + личное окончание 2 л. - (53) (сев.-манс.) tot - eln «неси ты это», (54) tot - ёуп «неси ты эти (дв.ч.)» и т. д.
Сводные таблицы, представляющие структуру субъектных и объектных императивных форм обско-угорских языков, находятся в Приложении 1 (см. таблицы №35-36). Из этих таблиц следует, что в угорских языках существуют две модели императивных парадигм: венгерская, которая использует эксплицитно выраженный суффиксальный маркер императива, и обско-угорская, которая использует нулевой показатель для выражения центральных форм (2 л.) и аналитический способ для выражения форм 3 и 1 лиц. Аналитическая конструкция образуется путем сочетания частицы неглагольного происхождения и форм индикатива, суффиксальный способ был унаследован угорскими языками от уральского языка-основы.
В научных описаниях мансийского языка представлено несколько точек зрения на маркирование императивных форм. Согласно мнению Е.И. Ромбандеевой, показателем императива в мансийском языке выступает -е (Ромбандеева 1973: 126). Другие исследователи, в частности, авторы грамматики А.Н. Баландин и М.П. Вахрушева (1957: 130) считают, что в мансийском языке нет специального показателя императива. Выделяемый Е.И. Ромбандеевой суффикс е А.Н. Баландин рассматривал в качестве конечного гласного глагольной основы. В то же время немецкий ученый В. Феенкер считает -е составной частью лично-числового показателя (Veenker 1969:36-37).
Согласно изложенным точкам зрения примеры типа тхп-еп «иди», suns-en «смотри», hart-en «тяни» можно трактовать по-разному. Наиболее распространенным среди исследователей мансийского языка является мнение о немаркированном императиве 2 л. ед.ч. Среди них К,Е. Майтинская и Я. Гуя (ОФУЯ).
Подобной точки зрения придерживался и В.Н. Чернецов, который выделял два способа образования формы 2 л. ед.ч. императива в мансийском языке; 1) при помощи основы глагола - min «пошел», (14) tuv suns «смотри туда», hart «тяни»; 2) при помощи сочетания основы глагола с личным суффиксом: min-en «иди», suns-en «смотри», hart-en «тяни» (Чернецов 1937: 185).
В субъектном спряжении форма 2 л. состоит из основы глагола и личного окончания 2 л., а в объектном спряжении - из основы глагола, элемента, указывающего на определенный объект и личного окончания 2 л. (ОФУЯ 1976: 295).