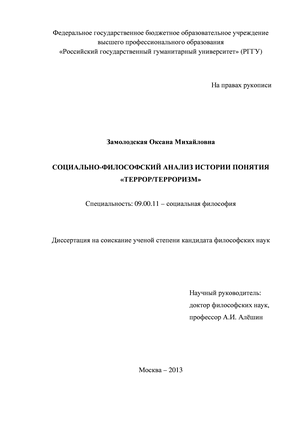Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Современная концептуализация террора и терроризма и теоретические предпосылки их рассмотрения в социально-философском аспекте ...
1.1. Теоретический и исторический подходы к проблеме: понятие или понятия?...
1.2 . «Террор/терроризм» в координатах социальной философии ...
1.3. «Террор/терроризм» с точки зрения «истории понятий» и социальной теории дискурса ...
Глава 2. Вехи развития исторической семантики «террора/терроризма»...
2.1. Возникновение понятия «террор»: Великая Французская революция...
2.2. Революция вне революции: «романтический» террор народовольцев ...
2.3. Террор против обывателя: кризис «терроризма» на рубеже веков и рождение современного смысла понятия...
2.4. Сталин: «террор» против «терроризма» и дифференциация понятий...
2.5. Антисистемный терроризм «городской герильи»...
Глава 3. Инфляция понятий и проблема насилия в современном обществе ...
3.1. «Террор» и «терроризм» за пределами революционной парадигмы: утрата основания и деисторизация...
3.2. «Террор» как Система: исторические и идеологические смыслы понятия ...
3.3. «Постмодернистский» дискурс современного терроризма: апокалиптика, риторика, эклектика...
3.4. «Террор» и «терроризм» после «трагедии 9/11»: проблема чрезвычайного насилия...
Заключение...
Библиография...
Список фильмов...
- . «Террор/терроризм» в координатах социальной философии
- «Террор/терроризм» с точки зрения «истории понятий» и социальной теории дискурса
- Революция вне революции: «романтический» террор народовольцев
- «Террор» как Система: исторические и идеологические смыслы понятия
Введение к работе
В диссертации осуществляется реконструкция исторических смыслов понятия «террор/терроризм», позволяющая лучше понять социальную природу этих важнейших явлений, во многом определяющих координаты современного общественного бытия.
Актуальность темы. Террор и терроризм сегодня изучаются не только и не столько в академическом контексте. Криминалисты и военные эксперты исследуют технологии террористической и антитеррористической борьбы. Юристы занимаются осмыслением правового статуса различных видов современного терроризма. Политики разрабатывают политические стратегии противодействия угрозе террора.
В научном поле проблеме террора/терроризма посвящено множество работ, написанных политологами, правоведами, историками, социологами, социальными психологами, культурологами, философами и т.д. При этом даже лучшие дефиниции террора/терроризма страдают неполнотой. Нет ясности относительно того, образуют ли эти слова единое смысловое целое, или являются различными понятиями. Не в последнюю очередь это происходит потому, что акцент делается исключительно на изучении фактической стороны террористической деятельности, а не на ее осмыслении в обществе. В частности, исследуются те или иные разновидности террора/терроризма, создаются классификации, анализируются социально- политические предпосылки терактов и идеологические основания политики террора. Одним словом, изучается, прежде всего, сам феномен, а не способы его репрезентации и концептуализации в интеллектуальной культуре, социально значимых дискурсах, публичной сфере и в области повседневного общения. Ведь помимо самих фактов экстремизма и применения политического насилия существует еще конструирование представления об этих практиках в общественном сознании. Кроме самого феномена
террора/терроризма, существует еще понятие, контекст его понимания и
истолкования, а также - общественно-политическая дискуссия о его смысле, комплекс эмоциональных реакций и дискурсивного оформления суждений о нем.
Этот интеллектуальный пласт оказывается крайне запутанным и плохо изученным. А между тем, именно от интерпретации понятий такого типа, которые можно отнести к фундаментальным понятиям нашей общественной жизни, во многом зависит то, как структурируется социальное знание об обозначаемых ими явлениях. Следовательно, в какой-то мере понимание и применение таких понятий будет определять социальные действия и практики. «Террор/терроризм» оказывается понятием, наделенным мощнейшим социально-практическим потенциалом. Именно то, как такое понятие наполняется смыслом, зачастую определяет стратегии власти («антитеррористические операции»), социальные практики (виды протестных акций, методы политического воздействия, структуры национальной безопасности и комплексы мер, связанных с угрозой терроризма), а также характер социальной критики и политической борьбы, включая международные, межнациональные и цивилизационные конфликты.
С этой точки зрения, степень научной разработанности проблемы на данный момент следует признать недостаточной.
Разумеется, все историки революционного движения, в частности,
историки Великой Французской революции, сталкивались с проблемой
трактовки исторического понятия «террор». Крупнейшие из них (Ф. Минье,
Т. Карлейль, А. де Токвиль, О. Кошен, А. Олар, А. Собуль, Ф. Фюре и др.)
уделяли большое внимание реконструкции того, как террор
концептуализировался в годы революции, стараясь отделить это понимание
от его позднейших интерпретаций. При этом трактовки понятия в
исторических трудах все равно испытывали сильное влияние идеологической
и методологической позиции историка. Специализированные исторические
исследования понятийного комплекса, связанного с феноменом
террора/терроризма, также ведутся довольно давно. Стоит выделить
комплексные работы по изучению эволюции понятия в странах Европы и России, выполненные в рамках немецкой школы истории понятий (О. Брунер, В. Конце, Р. Козеллек, Р. Райхардт и др.), в частности, соответствующие статьи в словарях «Исторические понятия: исторический лексикон социально-политического языка в Германии» и «Справочник социально- политических понятий во Франции 1680-1820» .
Однако история понятий как таковая, крайне бережно относящаяся к мельчайшим поворотам в исторической семантике слов «террор» и «терроризм», в целом ограничивается дескрипцией, избегая целостной концептуальной реконструкции эволюции понятия от его зарождения в эпоху Французской революции до наших дней. Эту концептуальную социально- философскую основу историческому анализу помогают придать работы современных философов, посвященные феномену террора/терроризма (Ж. Бодрийяр, С. Жижек, П. Вирильо, С. Бак-Морс, Ж. Деррида, Б. Гройс, М. Рыклин, В. Подорога и др.).
Объединение двух указанных перспектив (диахронной исторической и синхронной социально-философской) позволяет нам подойти к целостной аналитике данного понятия. Кроме того, совмещение исторического и теоретического подхода к проблеме позволяет различить объект и предмет исследования.
Объектом в этом контексте являются тексты и устные высказывания политиков, общественных деятелей, писателей и мыслителей конца XVIII - начала ХХ! вв., существенно повлиявших на трансформацию семантики понятия «террор/терроризм». В орбиту проводимого анализа вовлекаются факты не только интеллектуальной культуры и искусства (например, кинофильмы), но и характерные явления массовой культуры (телепередачи, телефильмы и проч.), которые могут свидетельствовать о понимании исследуемого концепта на уровне ментальных структур общества на том или ином историческом этапе развития его семантики.
Поскольку понятие «террор/терроризм» является интернациональным, мы не ограничивали материал для анализа только материалом русской истории и общественной мысли, стараясь при этом подчеркивать специфику его трактовки применительно к отдельным историческим контекстам.
Предметом изучения в работе стали реконструируемые нами значения и смыслы понятия, характерные для рассматриваемых эпох, а также процедуры их рецепции и вызываемые ими импликации. Понятие не существует вне тех общественных дискурсов, которые оперируют им с определенной целью. Поэтому предметом нашего внимания постоянно становится социально-политическая борьба различных дискурсов в обществе, репрезентирующих определенные идеологические позиции в социальном поле, а также то, какую роль в этой борьбе играли истолкование и оценка понятия «террор/терроризм». В этом смысле глубинным предметом нашего интереса является социально-политическая прагматика, стоящая за дискурсивными стратегиями общественных сил, использующих и концептуализирующих данный феномен.
Материал для анализа составил широкий круг источников, в частности, тексты и речи революционных деятелей (М. Робеспьера, А.И. Герцена, Ф. Энгельса, С.М. Степняка-Кравчинского, Равашоля, Б.В. Савинкова, Л.Д. Троцкого, Р. Люксембург, В.И. Ленина, И.В. Сталина, Э. Гевары, К. Маригеллы и др.); философов и публицистов, чьи идеи формировали или раскрывали новые исторические смыслы понятия (Л.А. Тихомирова, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Г. Дебора, Ж. Бодрийяра и др.); художественные произведения (тексты И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Б.В. Савинкова, Л.Н. Андреева, Б. Акунина; фильмы К. Шаброля, Р.В. Фассбиндера, Т. Гиллиама, Д. Финчера, М. Пеллингтона, бр. Вачовски и др.).
Целью работы является социально-философская реконструкция исторических истоков и анализ процесса трансформации понятийного комплекса, именуемого «террор/терроризм», от момента его возникновения до современности.
Исходя из указанной цели, формулируются следующие задачи исследования:
-
Обосновать подход к изучению социальной природы террора/терроризма через посредство анализа исторического понятия как особого предмета социально-философского исследования.
-
Проследить трансформацию исторического смысла понятия, исследуя поворотные пункты его смысловой эволюции.
-
Исследовать современные социальные координаты, в которых раскрывается актуальное для наших дней понимание феноменов террора и терроризма.
-
Проанализировать идеологический потенциал понятия в разных исторических обстоятельствах и механизмы формирования господствующих точек зрения на его сущность.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили:
-
подходы к изучению исторической семантики в рамках немецкой школы истории понятий Р. Козеллека;
-
современная критическая теория дискурса в сочетании с анализом идеологий и исследованием процессов формирования дискурсивно- идеологической гегемонии (М. Фуко, М. Пешё, П. Серио, Э. Лакло, Ш. Муфф, Т. ван Дейк и др.).
-
философская критика и философская антропология насилия (Ж. Сорель, В. Беньямин, Ж. Батай, Р. Жирар);
-
социально-политическая теория революции, теория власти и аналитика «чрезвычайного положения» (К. Шмитт, Х. Арендт, Дж. Агамбен, К. Лефор и др.).
Новизна диссертационного исследования заключается в том, что в рамках предлагаемого подхода внимание сосредоточивается на интеллектуальных контекстах бытования понятия «террор/терроризм» в России и Западной Европе в постпросвещенческую эпоху, а также импликации в сфере идеологии и повседневном ментальном горизонте обществ эпохи модерна. С этой точки зрения становится очевиден целый ряд неопределенностей и противоречий в современном понимании феноменов террора и терроризма, обусловленных внеисторическими и зачастую идеологически ангажированными его трактовками. Осознание революционных истоков террора/терроризма, а также последующей дифференциации понятий террор и терроризм, сопровождающейся их отрывом от революционной традиции многое меняет в понимании современных форм экстремального политического насилия.
Основные положения, выносимые на защиту:
-
-
Понятие «террор/терроризм», зародившееся в ходе Великой Французской революции, является синкретичным применительно к характеристике крайнего революционного насилия, и становится дробным и многозначным вне революционного контекста - в условиях относительной социальной стабильности. Со временем, в первой трети ХХ века, это приводит к разделению единого концепта на два самостоятельных понятия - «террор» (в смысле «системный террор государства») и «терроризм» (в смысле «антисистемное политическое насилие малых групп»).
-
В течение ХХ века автономные по отношению друг к другу понятия «террор» и «терроризм» постепенно отпадают от легитимирующей их революционной парадигмы, вследствие чего аксиологически девальвируются и приобретают однозначно пейоративную смысловую окраску.
-
Понятия функционируют как мощные идеологические инструменты как в контексте собственно революционной борьбы, так и в мирном социально-политическом пространстве. Их применение позволяет раскрыть механизмы формирования дискурсивной гегемонии той или иной (например, революционной или охранительной) точки зрения в общественном сознании.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что выработанный в ней подход может послужить основой для социальной экспертизы и диагностики преобладающих настроений, позиций и высказываний, касающихся современных террористических форм политического насилия. Такая социальная оценка затруднена из-за господства идеологических установок, не позволяющих разобраться в подлинной сути сегодняшних протестных, повстанческих и других движений, обвиняемых в «терроризме», а также «чрезвычайных» действий государственной власти, порой использующих средства подавления, близкие к тем, которые могут быть квалифицированы как «террор».
Результаты исследования могут быть использованы для разработки учебных курсов, посвященных исследованию социальной природы террора, терроризма и иных форм общественно-политического насилия.
Апробация работы регулярно проводилась автором на различных научных мероприятиях, в частности:
-
«Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности», Москва, Институт бизнеса и политики, 2009;
-
«Гуманитарные чтения РГГУ - 2009». Секция «Теория и методология гуманитарного знания»;
-
«Дни аспирантуры РГГУ», 2010 и 2011;
-
Межвузовская конференция студентов и аспирантов «Гуманитарное измерение глобализации», РГГУ, 2010;
-
«Conversion in Russian Cultural History of the 19th and 20th Centuries», Фрибур, Университет Фрибура, Швейцария, 2011.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка.
. «Террор/терроризм» в координатах социальной философии
Во-первых, целесообразным для понимания концептуального ядра понятия и его связи с другими основополагающими концептами культуры модерна мы считаем использовать понятие «чрезвычайного положения», введенное Карлом Шмиттом, а впоследствии получившее развитие в работах современного социального философа Джорджо Агамбена , который находит интересные версии этой идеи также у других философов революции – Ханны Арендт и Вальтера Беньямина.
Рассматривая роль насилия, Х. Арендт проводит различие между «политическим» и «антиполитическим»: «Тем самым теории войн, как и теории революций, могут иметь дело лишь с объяснением насилия, но не с ним самим, ибо последнее задает объяснению некоторые политические рамки, делая его политическим феноменом. Если же вместо этого какая-либо из теорий видит в насилии ultima ratio политики, приходя к его возвеличиванию и оправдывая насилие как таковое, то она уже более не будет политической, но станет антиполитической» . Новое время говорит о существующем прежде некоем дополитическом состоянии, где проблема насилия не рассматривалась как социальная проблема, существование бедных и богатых воспринималось как естественный порядок вещей. И сама ситуация возможного равенства всех возникает только в нововременной мысли. Само же насилие используется «в целях учреждения совершенно иной формы правления, создания нового государства, где целью освобождения от угнетения становится, по меньшей мере, установление свободы» , т.е. в революции. Именно в революции, а не в мятеже или бунте, ибо только в революции все «должны восстать и стать властителями своей страны» , создать новое на практике, а не только в мыслях.
Карл Маркс видел связь между необходимостью и насилием, несмотря на то, что под необходимостью имелись виду жизненные потребности человека, телесные потребности и т.п. Слишком свободная интерпретация Марксом необходимости и насилия, приводит к стиранию границ между ними. Если на первый план выходит необходимость, то идея освобождения и свободы уходит в сторону. Но именно они и отличают революцию, т.е «не свобода, а изобилие теперь являлось целью революции» . Общественное мнение или общая воля народа, самое тело народа должны были сплотиться в необходимости суммировать все воли отдельных граждан, побороть единичный интерес, превратить его во врага всякого гражданина. И добродетель, о которой говорит Робеспьер, противостоит собственной воле во благо всеобщей воли, являясь самоотверженностью, «террором добродетели», хотя, по версии Монтескьё, даже добродетель должна себя ограничивать. По мнению Арендт, «как только Робеспьер и его последователи стали уравнивать добродетель с движениями сердца, то та же неопровержимая логика человеческого сердца, которая почти автоматически превратила современный «мотивационный анализ» в жутковатую картотеку человеческих пороков, в настоящее мизантроповедение, заставила их во всем усматривать интриги, клевету, измену и лицемерие» , только «закон о подозрительных» чего стоит. Возможно, что именно робеспьеровская «добродетель» способствовала развитию террора. В «Политической теологии» Карла Шмитта нет прямой корреляции между революционным «подвешиванием» основных законов, прав, моральных норм и социальных устоев и установлением «чрезвычайного положения». Однако социальная специфика революции заключается в том, что она пересматривает концепцию власти, прежде находившую легитимацию в ссылках на трансцендентное – на божественное происхождение, сакральность монарха или традиционную общественную иерархию, согласно которой права на власть неодинаково распределены между гражданами. В контексте революции это трансцендентное ядро власти подвергается выхолащиванию, опустошению, рядовые члены общества признаются имеющими право на учреждение властных институций, прав и законов. Возникает понятие суверена, который, по Шмитту, и определяется как тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении .
Таким образом, получается, что современнее государство и право как таковые по своему генезису имеют чрезвычайный характер. Поэтому понятие радикального насилия, террора, сопровождающих учреждение государственной власти, права и общественной морали («учредительное насилие» , по Рене Жирару), является вовсе не чужеродным фактором, искажающим закон и порядок, угрожающим спокойствию граждан, но самой сердцевиной и сущностью этого порядка.
Чрезвычайное положение может существовать на самых различных уровнях общественного устройства. Но его главный парадокс, согласно Дж. Агамбену, заключается в том, что, будучи изначально порождено действительно исключительными обстоятельствами (бедствия, голод, война, эпидемии и т.д.) и стихийным возмущением масс, впоследствии «встраивается» в саму инфраструктуру государства и общественных институтов и начинает определять структуру и функционирование социального целого, так сказать, уже в «мирное время». Здесь дело отнюдь не в том, что в своем истоке оказываются столь близки диктаторские режимы и законные политические системы, но в том, что в современной западной (модерной) модели власти и общественного порядка заложена возможность применения чрезвычайного насилия, так как изначальное ядро этой власти, учреждаемой «по произволу», в результате «самооснования», содержит в себе элемент, находящийся «по ту сторону» права и морали.
Поскольку речь идет об апелляции к изначальному состоянию аномии, понятие чрезвычайного положения описывает отнюдь не только государственный террор. Скорее имеется в виду исключительное право (находящееся вне закона и морали) на особое насилие вне зависимости от того, кто является субъектом этого насилия (отдельный индивид или группа, «низы» или элита, государство или контркультурные элементы), которое само по себе является в некотором роде «божественным» (в смысле Вальтера Беньямина ).
Это понятие продуктивно, поскольку, во-первых, показывает генезис террора, берущего начало в революционной аномии (по Агамбену, гражданской войне, восстании, сопротивлении), когда террор еще господствует только в сфере политического – политического кризиса, политической борьбы («реальное чрезвычайное положение»), а во-вторых, выявляет трансфер террористического режима из области политического в область «политических образований», управления и правоприменения («вымышленное чрезвычайное положение»).
Это интересно соотносится с книгой Бронислава Бачко «Термидор и Революция. Как выйти из террора?» . Вопрос «как выйти из террора?» становится основным, так как подразумевает принципиальное отличие террора революционного, «разлитого» в социальном пространстве, пронизывающего все отношения, от террора государственного. На деле такое отличие оказывается крайне трудно провести, в результате чего «божественное» насилие революции транслируется в совершенно другой контекст – в контекст новой общественной системы. В такой транспозиции и заключается сущность государственного террора в его выраженной форме. В контексте нашего исследования, однако, нельзя упускать тот смысл, что государственный и общественный террор может присутствовать не только эксплицитно (как это имеет место в рамках диктаторских и тоталитарных режимов, которые, между прочим, также зачастую стараются скрыть масштабы террора и оправдать его «рационально», а не «мифо-идеологически», как это происходит во времена революций). Парадоксальным образом режим чрезвычайного положения является инструментом установления политической диктатуры – собственно террора, но и также – правовым основанием для борьбы против терроризма. Как (впрочем, несколько преувеличивая) пишет С. Жижек: «Вспоминается афоризм Бертольда Брехта из его «Трехгрошовой оперы»: что такое ограбление банка в сравнении с его основанием, которое требует нарушения закона, в сравнении с ограблением, которое производится в рамках закона? Возникает соблазн предложить новую вариацию этого афоризма: что такое террористический акт по отношению к государственной власти в сравнении с государственной властью, которая ведет войну с террором»?
«Террор/терроризм» с точки зрения «истории понятий» и социальной теории дискурса
Специфика нашего подхода заключается в том, что мы, во многом вопреки традиции, преобладающей в исследованиях, посвященных феномену террора/терроризма, обращаемся к изучению не столько самого этого феномена как особой социальной практики или одной из форм экстремистского сознания, инициирующей определенные виды активности, сколько к представлениям об этом явлении, характерным для европейского и российского общества XIX – XX вв. Такая методологическая установка продиктована осознанием того, что использование тех или иных понятий само по себе исторично, а значит, прежде чем трактовать понятие применительно к современным явлениям или событиям, нужно понимать его смысловой бэкграунд – ту почву, из которой оно вырастает. Например, в сегодняшнем словоупотреблении, и расхожем, и профессиональном, легко заметить существенную разницу в значениях слов «террор» и «терроризм». Однако даже самый беглый анализ исторических источников обнаруживает, что это различение проводилось не всегда. Кроме того, словом «террор», скажем, во второй половине XIX века в России именовалось фактически то же, что сегодня мы называем словом «терроризм». Значение же понятия «террор» как государственной политики подавления и устрашения являлось в ту эпоху скорее второстепенным. Кроме того, отнюдь не всегда «террор» и «терроризм» наделялись безоговорочно отрицательным значением. Не всегда они были инструментами разоблачения преступной или хотя бы неблаговидной деятельности и тем более – политики. Непонимание этого зачастую ведет к удивительным казусам в нашей современности. Например, несколько лет назад на волне возмущения терактами в московском метро вятский губернатор Никита Белых предложил переименовать улицы городов, носящих имена таких террористов, как Софья Перовская, Андрей Желябов, Николай Кибальчич и др., на том основании, что сегодня мы осуждаем терроризм. Этот случай следует признать симптоматичным не только потому, что здесь речь идет о популистском использовании анахронизма или об исторической безграмотности политика. Он скорее свидетельствует о серьезных смысловых сдвигах, происходящих в сфере исторической памяти социума, но происходящих именно в силу трансформации семантики таких ключевых социально-политических понятий, к каким относится «террор/терроризм».
Исходя из этого, мы будем, прежде всего, опираться на методологию, разработанную в рамках школы «истории понятий» Р. Козеллека . Подход, практикуемый в рамках этого направления социальных исследований, основывается на рассмотрении системы понятий, определяющей координаты социально-политической жизни того или иного общества в определенную эпоху в динамике их исторического становления и развития. При этом для нас особенно важно то, что история понятий изучает отдельные ключевые слова культуры («власть», «государство», «демократия», «цивилизация» и проч.) не как нечто самоценное (как это делается в рамках лингвистической этимологии, языковедческой «исторической семантики» или истории языка), но как смысловые сгустки, с помощью которых не только оформляются и репрезентируются, но и – структурируются и воспроизводятся социальные отношения и процессы . Речь идет о понятиях, которые описывают и определяют отношения власти и подчинения, общественные взаимодействия и конфликты, управленческие процессы, процессы возникновения и развития институций и сообществ и т.д. История понятий, таким образом, претендует на то, чтобы не только стать «лингвистическим» дополнением социальной истории, но и на то, чтобы заменить собой те версии историографии, которые не учитывают открытое ею «интеллектуальное» измерение исторической жизни. В контексте социально-философского исследования история понятий оказывается полезной не только в плане справочной поддержки для тех наблюдений, которые мы можем сделать над эволюцией смысла интересующего нас понятия. Она дает взглянуть на это понятие «в движении», увидеть, что современные представления о «терроре» и «терроризме» не являются исчерпывающими. Они имеют свои истоки и их смысл связан с определенными историческими обстоятельствами. Это позволяет положить в основу теоретического рассуждения конкретный исторический фундамент.
Разумеется, применение того или иного подхода сопряжено с определенными ограничениями. Например, на практике нередко оказывается, что исследования в русле истории понятий ограничиваются все же исключительно аналитикой происхождения и трансформации смысла того или иного понятия, без попытки исследовать то, какую роль это понятие играло в дискурсивно-идеологических процессах своего времени, участвуя в конструировании социальной реальности. Так, как уже было отмечено выше, понятие «террор» в контексте различных исторических эпох и обществ, имело различные смыслы. Но недостаточно эти смыслы просто выявить и описать. Недостаточно также прояснить этимологию слова, обстоятельства и способы концептуализации его семантического ядра. Необходимо, во-первых, понять социальную природу того общества, в котором понятие сформировалось, что позволит с большей точностью определить его историческое значение (включая сюда и его значимость, и его оценочные коннотации). Во-вторых, нужно проанализировать, с какой социальной прагматикой связано применение понятия в конкретном контексте: было ли оно направлено на оправдание проводимой политики, служило ли инструментом обличения, взывало ли к противодействию тем или иным социальным явлениям, применялось ли в целях самоаттестации или в сугубо критическом смысле для дискредитации чужой позиции, – все эти параметры коммуникативной ситуации должны быть выявлены, прежде чем мы сможем сделать вывод о содержании понятия и способе понимания обозначаемого им явления в рамках картины мира того, кто его использует.
Революция вне революции: «романтический» террор народовольцев
В дальнейшем, в контексте национально-освободительных движений в станах Европы и серии социальных революций, наблюдается сужение значения понятия «террор» как противостояния сил революционно настроенного меньшинства правоохранительному аппарату государства. Формируются новые практики групповой вооруженной борьбы, создания законспирированных боевых организаций и индивидуального террора, преследующего целью устрашающее воздействие на власть и возмущение общественного спокойствия посредством политических убийств наиболее одиозных фигур режима . В этом параграфе мы рассмотрим социально-коммуникативную ситуацию, которая сложилась вокруг понятия «террор/терроризм» в 1860-80-е гг. в России. Мы считаем, что к этому времени из той парадигмы, каковой являлась собственно революционная борьба, в этот период выделилась особая ее разновидность, позволявшая поддерживать «эстафету» революции в эпоху безвременья. Этой форме борьбы и описывающему ее понятию суждено было дожить до наших дней, претерпев ряд сложных системных содержательных трансформаций. Именно с этим процессом «революции вне революции» связана специализация понятия «террор/терроризм».
Мы не будем останавливаться на достаточно хорошо известной характеристике исторической ситуации российских 1860-80-х гг., тем более что существует обширная литература на этот счет . Охарактеризуем лишь общий контекст, в котором происходит становление новых смыслов интересующего нас концепта. В социальном плане в публичной сфере этого периода в России наблюдается разрыв: существуют несводимые точки зрения власти и революционных сил, они находятся в различных социальных измерениях. Если использовать термины Муфф, то можно сказать, что власть находится в «онтическом» измерении «политических образований» («политики»), а революционеры – за пределами этого измерения (в «онтологической» сфере «политического»). В каждой из этих сфер выстраивается своя система координат, они просто по определению не могут вступать в агонально-диалогические отношения по поводу смысла понятия «террор», потому что в пространстве «политики» нет места той логике, которой руководствуются революционеры: с точки зрения государственной системы не только террор, но само существование революционеров представляет собой скандал и преступление . В революционизированном социуме (например, в контексте Французской революции) отсутствует устойчивая система власти и права, поэтому понятие террора монолитно. Если и говорится о терроре в негативном смысле, то это означает, что на «плохой» («их») террор можно и нужно ответить «хорошим» («нашим») террором. В социуме нереволюционизированном революционеры по отношению к Системе – разрушительное Реальное (в лакановском смысле). Поэтому в рамках самой Системы никакой дискурсивной гегемонии по отношению к террору нет, так как нет политического диалога и агона, отсутствует конфликт идеологий и дискурсов. Вследствие этого в охранительном дискурсе, как правило, отсутствует и обоснование того, почему террор является предосудительным.
Напротив, в пространстве «политического» в России второй половины XIX в. аксиология террора носит неопределенный, подвижный характер. В чисто позитивном смысле его не использует никто (как, впрочем, и в однозначно негативном). В радикальном дискурсе господствует революционная героика, согласно которой при всех сомнениях в необходимости террора как средства политической борьбы (а о них в 1860-70-х гг. разворачивается большая дискуссия с участием революционеров старшего поколения, таких как А.И. Герцен, и горячих поборников террора от П. Заичневского до П.Н. Ткачева, С.М. Степняка-Кравчинского, Н.А. Морозова и др. ) насильственные действия, ведущие к свержению режима, являются оправданными в морально-правовом отношении. Посредством риторики революции социальный хронотоп современности, несмотря на отсутствие собственно революционного контекста («революционной ситуации» в позднейшей терминологии В.И. Ленина), идеологически конструируется как революционный – «мессианский» (к этой категории в связи с понятием революции мы еще вернемся в главе 3). Вероятно, поэтому для дискурса «террористического» направления в русском революционном движении этих лет характерно настойчивое калькирование Французской революции. Герцен, полагая, что террористическая партия (на начало 1860-х это была – пока чисто теоретически – «Молодая Россия» Петра Заичневского) не имеет русских корней и основывается на «метафизике французской революции» . На «якобинском» характере жестких революционных средств настаивал П.Н. Ткачев. П.А. Кропоткин проводил систематические аналогии между русским революционным движением и Французской революцией . В конце 1870-х годов, при всем отрицании насилия, фигура нового «тираноборца», выходящего один на один с противником, облеченным властью (как Вера Засулич или Сергей Степняк-Кравчинский), а чуть позже – героя-бомбиста получает довольно серьезный кредит доверия в обществе. Некогда осуждавшееся покушение Каракозова и злополучное «нечаевское дело», оставившее неприятный осадок, вытесняется новой симпатией к «землевольцам» и «народовольцам». Даже в таких текстах, как тургеневская «Новь», с сомнением повествующая о революционерах-народниках, высказывается сочувствие деятельному типу революционного подвижника (таков образ Соломина, который, впрочем, не склонен к силовым решениям). Многие либералы находили критические слова для характеристики гонений охранки на революционеров и чрезмерной жестокости судебных приговоров. В ситуации жесткого противостояния полицейского режима и протестного меньшинства даже некоторые консерваторы критиковали правительство, разумеется, жестко порицая и бунтовщиков .
Проекция современности на ситуацию Революции, находящуюся в историческом прошлом или будущем, сочетается в идеологии русских революционеров 1860-70-х гг. с чрезвычайно тонко разработанной риторикой жертвы. Философ Клод Лефор писал, что логика якобинского террора, помимо того, что запустила самоубийственный для самих якобинцев механизм истребления и беспрецедентной жестокости, подразумевала своеобразный механизм самопожертвования, когда сакральное место властителя (казненного короля) не могло быть более занято никем. Лефор видит в этом жесте террористического самоустранения якобинцев основание современной демократии, в которой любой властитель является самозванцем потому, что символическое место власти должно оставаться пустым. Своей жертвой якобинцы, согласно Лефору, обеспечивают искупление и легитимацию для этого «пустого места власти».
«Террор» как Система: исторические и идеологические смыслы понятия
В «Историческом лексиконе» школы Козеллека говорится о том, что понятие «террор» в послевоенном критическом дискурсе начинает обозначать систему господства как целое, а не только отдельные политические или карательные меры государственного аппарата в рамках диктаторских и тоталитарных режимов . Мы, однако, можем несколько скорректировать датировку возникновения этого смысла понятия «террор», отсылая к антисталинским статьям Троцкого 1930-х гг., которые были проанализированы нами в п. 2.4. Напомним здесь, что Троцкий предлагал понимать сталинизм именно как Систему, террор которой, направленный на тотальный контроль за обществом, опирается на «производство» не видимых невооруженным взглядом обывателя «террористов», постоянно угрожающих режиму, жизни общества и развитию страны. На наш взгляд, эта критическая модель Системы, основанной именно на извращенном понимании революционного террора, на много десятилетий предвосхитило понимание роли террора и терроризма в современном обществе. Во-первых, оно предсказывает левацкие теории вездесущей власти, развивавшиеся виднейшими мыслителями Европы в 1960-70-е гг. и питавшие леворадикальный террористический активизм. Об этом мы также упоминали выше в параграфе 2.5.
Во-вторых, эта конфигурация остается проблематичной и актуальной для нашей современности, когда возникают во многом обоснованные суждения о ставшем привычным чрезвычайном характере стратегий управления, свойственном современным (демократическим, легитимным) правительствам, ведущих перманентную «контртеррористическую войну». К этому сюжету мы еще вернемся в последнем параграфе настоящей главы.
Другая, не менее существенная, черта смысловой эволюции понятия после 1945 г. связана с тем, что «террор» становится критической фигурой в контексте глобальной конкуренции политических концепций в послевоенном международном пространстве. И в советском лагере, и среди бывших сторонников нацизма и других приверженцев ультраправых взглядов, и в либерально-демократическом стане происходит «тотализация «террора» как синонима враждебной политической системы» . Это превращение понятия в инструмент политической полемики – прежде всего в случае советской идеологии и дискурса бывших нацистов и фашистов – сопровождается «затемнением данного понятия применительно к своей собственной истории» . Например, отвечая на выдвинутые Христинанско-демократическим союзом обвинения национал-социализма в развязывании насилия и террора в предвоенные годы, приводились различные доводы в пользу того, что масштабы нацистского террора сильно преувеличены советской и западной пропагандой времен войны .
«Когда получила широкое распространение разработанная в США и во Франции теория тоталитаризма, противопоставившая «парламентскую демократию» правой «авторитарной диктатуре» и левой «диктатуре пролетариата», общим местом стало применение деисторизированного, безразличного к политическим традициям понятия террора» . На фоне крушения Третьего Рейха, расследования масштабов нацистского террора, а в еще большей степени - на фоне начавшейся в СССР в 1956 году десталинизации, западный демократический путь развития выглядел как единственная гуманистическая альтернатива различным видам террора, охватившего многие страны мира. При этом подобный «гуманитарный» дискурс не мешал, например, США непрерывно наращивать силовой потенциал и расширять свои чрезвычайные полномочия в мировом масштабе. Разумеется, понятие террора долгие годы также играло свою пропагандистскую роль в ходе Холодной войны, являясь краеугольным камнем западной антикоммунистической идеологии, рассматривавшей Советский Союз как «полюс зла».
Манипулятивный потенциал термина «террор» в послевоенном международном контексте выглядит еще более выпукло, когда встречаешься с очевидными противоречиями в его употреблении. Выше мы уже упоминали о том, что рутинный «террор» советского образца, вопреки исторической логике развития понятия, мыслится как часть «долгой» русской революции. С предлагаемой здесь точки зрения, однако, этот подход можно рассмотреть вовсе не как ошибку, а как сознательный ход мысли. На фоне сказанного об отрыве «террора» от первоначального исторического смысла и предельной генерализации значения термина в послевоенной западной мысли тот же жест Роберта Конквеста с его концепцией сталинского «Большого Террора», сформулированной в 1968 году и отсылающей к исконной революционной основе сталинизма, выглядит как попытка строгой исторической трактовки данного феномена. Однако это очевидным образом противоречит уже сложившемуся современному значению понятия, увязывающему террор с деспотизмом вне конкретных исторических референций. А следовательно, «Большой Террор» применительно к советской диктатуре бюрократии следует воспринимать в двух плоскостях. Это наименование, ставшее новым концептом, можно читать исключительно как красивую метафору. Однако чистой метафорой разоблачительный жест Конквеста как бывшего сотрудника Foreign Office и участника издательских проектов ЦРУ вряд ли исчерпывается. Гораздо адекватнее понимать этот образ как идеологический конструкт, позволяющий автору справедливо осудить террор в его современном значении и в то же время бросить тень на марксизм, левую мысль и революционную традицию как таковую, обнаружив их антигуманистический потенциал. Любопытно при этом, что для этой критики используется фигура самой сталинской идеологии, изображающая сталинскую администрацию как современных «монтаньяров». Ясно, что подобный псевдоисторизм продиктован также идеологическими задачами.
В этом отношении, вопреки Конквесту, более исторична точка зрения «новых левых» на сущность советского террора, рассматривающих последний как контрреволюционную стратегию. Эта позиция во многом уже была сформулирована Морисом Мерло-Понти в эссе «Гуманизм и террор» (1947), где он сопоставил сталинизм московских процессов (конец 1930-х) с фашистским оккупационным режимом во Франции (начало 1940-х), одним из первых существенно расширив референцию понятия «террор». Намечая ставший впоследствии основополагающим для Сартра и «новых левых» синтез экзистенциализма и марксизма, Мерло-Понти попытался отделить советский опыт от опыта собственно революционного. Однако понятие «террор», с которым он связал сталинизм, для Мерло-Понти уже окончательно утратило связь с живительной и освобождающей революционной идеей.
Как западный либерально-демократический дискурс, сделавший понятие «террор» не только инструментом гуманизации, но и орудием политической борьбы, так и «контртеррористический» дискурс не являлся дискурсом политически нейтральным. Его возникновение можно связать с 1937 годом, когда возникает понятие «международного терроризма». Впервые в международном контексте проблема борьбы с терроризмом была поставлена в 1934 году в рамках Лиги Наций. Поводом послужило убийством короля Югославии Александра I и премьер-министра Франции Луи Барту 9 октября 1934 года в Марселе. Тремя годами позже на рассмотрение Лиги Наций был предложен проект «Конвенции о предупреждении терроризма и наказании за него».
Похожие диссертации на Социально-философский анализ истории понятия «террор/терроризм»
-