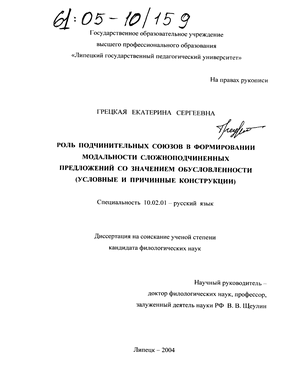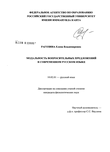Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Степень и особенности участия союзов в формировании модальных значений СПП с условной связью частей 18
1. Модальные возможности условных союзов в конструкциях неиндикативного типа 18
2. Условные союзы дифференцированных значений как специализированные показатели потенциальной обусловленности индикативных предложений 51
3. Модальные признаки предложений, оформленных союзом если в сочетании со специализированным коррелятом
ГЛАВА 2. Роль причинных союзов в создании модальной специфики сложноподчиненных предложений с причинным соотношением компонентов
1. Семантика причинных союзов недифференцированного значения как фактор порождения модальных оттенков сложноподчиненного предложения 100
2. Особенности видоизменения модальной ситуации предложений
в аспекте расчленения союзов недифференцированного значения 128
3. Модально-модификационное разнообразие, определяемое соединением союзов с вводным (модально-оценочным) словом или 142
словосочетанием
4. Аналитическая структура причинных союзов дифференциро ванных значений как предпосылка создания модальных ситуаций конструкций с собственно-причинным и несобственно-причинным значением
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 183
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 188
БИБЛИОГРАФИЯ 192
- Модальные возможности условных союзов в конструкциях неиндикативного типа
- Условные союзы дифференцированных значений как специализированные показатели потенциальной обусловленности индикативных предложений
- Семантика причинных союзов недифференцированного значения как фактор порождения модальных оттенков сложноподчиненного предложения
Введение к работе
^ л Синтаксической системой является такая система, в которой «обретают
( реальное бытие все прочие системы: категориально-грамматическая, лекси-
ко-фразеологическая, фонологическая» [Попова 1985, с. 25], а в единицах
j синтаксиса (простом предложении, сложном предложении, тексте) фиксиру-
ются результаты мыслительной и коммуникативной деятельности человека.
В существующей системе взглядов на язык значительное внимание уделяется такой категории как текст. Предложение и текст соотносятся между собой как часть и целое, так как «сложное предложение представляет собой не только непосредственный конституент текста, но и часть информации,
'V < которая достаточна для того, чтобы в своих собственных (внутренних) гра-
ницах воспроизвести инвариантные характеристики текста» [Ляпон 1982, с. 76], т. е. способность устанавливать связь между предикативно оформленными фрагментами информации и квалифицировать эту связь и есть то эвристическое свойство человеческой психики, которое предопределяет творческую активность речевой деятельности, зафиксированной текстом. «Изучая предложение как единицу, замкнутую в самой себе, - отмечает Г. А. Золото-ва, - лингвистика лишает себя возможности проверить достоверность и дей-ственность теоретических рубрикаций речевой жизнью предложения. По ходу развития интереса к межпредложенческим связям, к тексту возникает барьер, прерывающий естественное движение научной мысли. Вера в незыблемость традиционной грамматики делает этот барьер неодолимым, разводя проблематику предложения и текста по разным направлениям, как бы не признавая между ними отношений части и целого (курсив наш. - Е. Г.) и их общего коммуникативно-смыслового назначения.
Между тем к совокупности предложений, к тексту применим тот же исследовательский инструментарий: вопросы что? как? для чего?» [Золото-
\{JS, ва 1988, с. 56].
Отношения, возникающие в тексте как целом, во многом идентичны и подобны тем, которые наблюдаются и в сфере сложного предложения. Именно поэтому грамматика текста не может обходиться без такой категории, как «сложное предложение», которое можно рассматривать как представитель текста. Одним из основных аргументов, мотивирующих органичную связь сложного предложения с категориями текстового уровня, по мнению М. В. Ляпон, является способность устанавливать связь между фрагментами информации и квалифицировать эту связь (т. е. устанавливать отношения), что и есть то эвристическое свойство человеческой психики, которое предопределяет творческую активность речевой деятельности, отраженной в тексте [Ляпон 1982, с. 75].
Человеческий фактор проявляется в структуре, семантике, функционировании любого элемента языковой системы, потому что язык и человеческое сознание связаны между собой таким образом, что деятельность сознания необходимо сопровождается деятельностью языка, выливаясь в единый, хотя и сложный по своей внутренней структуре, речемыслительный процесс [Кацнельсон 1972, с. 110]. Например, сложное предложение оказывается точкой приложения мыслительной активности субъекта - участника акта коммуникации, выступает ли он в качестве говорящего (автора) или в качестве слушающего. Соотносительность сложного предложения тексту выражается в том, что сложное предложение занимает особое место в «стратификационной иерархии синтаксических единиц», что, в свою очередь, определено его непосредственной ориентацией на коммуникативную функцию (фундаментальную функцию языка). Выступая как «знак отношения, сложное предложение как бы фиксирует в своей структуре субъективно-рефлектирующее начало, "концепцию" говорящего лица, так или иначе оценивающего связь между фрагментами сообщаемого» [Ляпон 1982, С. 66-67]. Концепция говорящего лица, устанавливающего определенные отношения между соединяе-
мыми событиями в сложном предложении, представляет собой план содержания категории модальности.
Академик В. В. Виноградов рассматривал модальность как одну из тех синтаксических категорий, в которых выражается и конкретизируется категория предикативности с общим грамматическим значением отнесенности основного содержания предложения к действительности [Виноградов 1975, с. 268]. Он характеризует синтаксические категории модальности, времени и лица как категории, конкретизирующие и выражающие предикативность, и вводит признак точки зрения говорящего [Виноградов 1975, с. 268]. Среди всех категорий, в которых находит выражение предикативность, модальность выдвигается на первое место, так как отношения сообщения, содержащегося в предложении, к действительности, - это и есть модальные отношения [Винофадов 1975, с. 289]. Именно поэтому В. В. Винофадов отнес категорию модальности предложения к числу основных, центральных языковых категорий, обнаруживающихся в языке в разных формах [Виноградов 1975, с. 57].
Семантический признак «точка зрения говорящего» связан с выдвинутой А. М. Пешковским концепцией «субъективно-объективных синтаксических категорий», выражающих отношение говорящего к своей речи и к тем отношениям между частями ее, которые он в ней устанавливает [Пешковский 1956, с. 88-89]. С концепцией А. М. Пешковского перекрещивается теория Р. О. Якобсона, в которой он интерпретирует «шифтеры» как категории, характеризующие сообщаемый факт и / или его участников по отношению к самому факту сообщения или к участникам этого сообщения [Якобсон 1972, с. 85-113]. Категория модальности как понятийная категория, — по мнению 3. Я. Тураевой, - связана с важными аспектами бытия и его преломлением в сознании и языке человека; в основе этой категории лежат универсальные категории логики, организующие рациональное сознание [Тураева 1994, с. 109].
«Позиция говорящего» в явном или скрытом виде включается в любое объяснение категории модальности. В каждой из модальных категорий точка зрения говорящего выступает в особом аспекте актуализации.
Отношение к действительности — это действительность в представлении говорящего. Именно это представление (в обобщенном и «объективированном» виде) отражено в языковых модальных значениях, включающих элементы языковой семантической интерпретации смысловой основы выражаемого содержания [Теория ... 1990, с. 64]. Существует два типа отношения к действительности, устанавливаемого с точки зрения говорящего: опосредованного - через время, через временную локализованность, через отношение к лицу - и неопосредованного (прямого) - в указанных признаках отнесенности ситуации к «реальному миру» или к одному из «возможных миров», в оценке достоверности и т. д.» [Теория... 1990, с. 65]. Модальность представляет собой «отношение к действительности с точки зрения говорящего», являющееся прямым (не связанным с опосредствующим «каналом актуализации»), собственным содержанием данной категории» [Теория... 1990, с. 65].
Такое «отношение к действительности», связываемое именно с модальностью, получает качественную определенность тогда, когда это отношение проявляется в преобладающих признаках реальности / ирреальности.
Содержание высказывания (предложения) может соответствовать реальной действительности, а может и не соответствовать ей, - этим и определяется противопоставление двух основных модальных значений - модальности реальной (прямой) и модальности нереальной (ирреальной, косвенной, гипотетической, предположительной).
Однако, надо отметить, что модальность сложного предложения неоднородна. Об этом сказал В. В. Виноградов, определив модальность сложного предложения как «прерывисто-изменчивую», так как «модальность сложного синтаксического единства определяется композиционным объединением разных модальных значений составляющих его частей, а также общей семан-
тикой целого». [Виноградов 1975, с. 84]. Сложное предложение полипредикативно, так как «предикативность (и при этом полная предикативность, а не полупредикативность и не потенциальная предикативность) составляет обязательное свойство материала, из которого строится сложное предложение, свойство его частей» [Белошапкова 1975, с. 46]. Отсюда следует, что сложное предложение не имеет единой, однородной модальности, модальность его «прерывисто-изменчивая», т. е. каждая часть сложного предложения, каждая предикативная единица в его составе имеет свою собственную модальность.
Главным грамматическим средством выражения предикативной модальности является категория наклонения, как изъявительного — с одной стороны, так и условно-желательного и побудительного - с другой. К грамматическим выразителям модальности относятся также модальные частицы и союзы. Союзы, «которые, в отличие от предлогов, находятся вне сферы морфемного синтаксиса и так же, как модальные слова и выражения, образуют в предложении синтагматически изолированную зону "модуса"» [Ляпон 1971, с. 233]. Союзы занимают полноправное место и в сфере оценочных средств языка. Недаром А. А. Шахматов, учитывая оценочные способности союзов, включил в систему союзов все модальные частицы. Одним из первых отметил союзы как один из способов выражения модальности сложного предложения В. В. Виноградов, сказав, что «наряду с другими уже рассмотренными формами выражения модальных значений, здесь, в кругу сложных синтаксических единств, выступает новый тип модально окрашенных служебных слов. Это - союзы» [Виноградов 1975, с. 84]. В. В. Виноградов считал, что вопрос о выяснении модальных значений и оттенков союзов «крайне важен для выяснения природы тех грамматических отношений, которые устанавливаются союзами между синтаксическими единицами, между предложениями. Различия в модальных значениях союзов играют большую роль в дифференциации разных типов сцепления предложений, разных видов зависимости между ними» [Виноградов 1972, с. 552-553].
В отечественной лингвистике проблему модальных возможностей союзов затрагивали такие лингвисты, как М. В. Ляпон, С. Г. Ильенко, Р. П. Рогож-никова, В. В. Щеулин, М. А. Аверина, В. Н. Бондаренко, Е. А. Орлов и др.
Поскольку организующим началом сложного предложения любого типа является выражение содержательных отношений между двумя ситуациями, которые устанавливаются говорящим субъектом, то семантическая структура большинства сложных предложений состоит из трех пропозиций: двух событийных и одной логической (релятивной). Сказанное верно не только для союзных, но и для бессоюзных предложений, так как логическая пропозиция в союзных предложениях вербализуется в союзах, в бессоюзных же она имплицитна. Именно логическая пропозиция позволяет считать сложное предложение «знаком отношения между ситуациями» [Белошапкова, Менькова 1995, с. 58-59]. Кроме того, «уже сам по себе выбор связующего средства, с помощью которого инициатор сообщения соединяет фрагменты информации, когда он строит высказывание в форме сложного предложения, есть не что иное, как операция умозаключения, поскольку этот выбор предопределен тем выводом, к которому говорящий приходит, оценивая и квалифицируя отношения между соединяемыми фрагментами, т. е. подвергая информацию специальной логической обработке» [Ляпон, 1986, с. 9]. В семантике союза могут отразиться колебания говорящего, который не решается дать однозначную, категорическую квалификацию связи, четко определить ее логический характер. Это подтверждает высказывание В. В. Виноградова о том, что «различия в модальных значениях союзов играют большую роль в дифференциации разных типов сцепления или сочетания предложений, разных видов зависимости между ними» [Виноградов 1975, с. 85-86]. Следовательно, союзы - одно из главных средств выражения модальности сложного предложения, а также средство формирования модальной (реляционной) структуры текста. Союз проявляет способности дифференцировать оценоч-
ные характеристики высказывания и «приводит к модальной многослоиности предложения, к увеличению его смысловой глубины» [Ляпон 1971, с. 234].
Особого внимания заслуживают подчинительные союзы в рассматриваемом аспекте как релятивные языковые единицы. Такое свойство, как ре-ляционность (релятивность) обнаруживается у единиц, принадлежащих к разным уровням языковой системы и обладающих разными категориально-грамматическими признаками [Ляпон 1986, с. 13]. «Под реляционным значением в широком смысле понимается любое лексическое значение, в состав которого входит реляционный компонент...». Реляционное значение проявляется «в чистом виде (или по крайней мере менее осложненном) в классах союзов, предлогов и некоторых глаголов...» [Арутюнова 1980, с. 234].
Союз представляет собой языковой знак, который не только фиксирует связь двух фрагментов высказывания или текста, но еще и содержит логическую оценку, квалификацию этой связи. Более того, «в рамках соединения высказываний сам соединитель выступает как своего рода высказывание, имитация свернутого умозаключения» [Ляпон 1986, с. 196]. Следовательно, все союзы в СПП могут рассматриваться в качестве свернутого «текста в тексте», средства содержательной импликации. Союзы как реляционные единицы обладают особыми способностями в процессе коммуникации: они могут вклиниваться в пределы синтагматически неделимого отрезка информации, как бы пренебрегая правилами соединения русской синтагмы: Женщина эта - мать мальчишки, игравшего с старушкой, и семилетней девочки, бывшей с ней в тюрьме, потому что не с кем было оставить их, ~ так же, как и другие, смотрела в окно, но не переставая вязала чулок и неодобрительно морщилась, закрывая глаза, на то, что говорили со двора проходившие арестанты (Л. Толстой. Воскресение).
Другой, не менее важной особенностью союза является его безразличие к функционально-синтаксической равноценности соединяемых частей и к предикативному статусу: В первом списке сделал он [писарь] две ошибки: по-
ручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание — вместо «Поручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» (Тынянов. Подпоручик Киже).
Подчинительные союзы противопоставляются сочинительным прежде всего тем, что они входят в структуру придаточной части, выделяя ее как субординационную и делая грамматически подвижной. Это подметил А. М. Пешковский [Пешковский 1959], поэтому необходимо признать, что «маркирующая» сущность подчинительных средств связи является самой характерной чертой подчинения.
Говоря о функциональной природе подчинительного союза как реляти-ва, нельзя не сказать о такой категории, как категория оценки, которая, в свою очередь, является выразительницей субъективности. «Поскольку высказывание есть всегда результат речевой деятельности субъекта, то оно уже изначально детерминировано как субъективный акт и по форме и по содержанию. Это относится к любому высказыванию в принципе, ибо каждое высказывание всегда будет представлять собой результат взаимодействия человека (субъекта познания) с объективным миром. Субъективность речевого высказывания определяется ... тем существенным обстоятельством, что в нем заложено содержание, формируемое индивидуумом, которое построено абсолютно зависимо от познавательного акта субъекта (человека)» [Колшан-ский 1974, с. 27]. Реляционные единицы (в том числе и подчинительные союзы) существуют в языке именно как знаки субъективного отношения - они способны сигнализировать о вторжении, проникновении человеческого «я» в структуру высказывания, текста. В языковой действительности наблюдается регулярная реализация таких единиц: Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает ис-
тину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина (Л. Толстой. Война и мир).
Известно, что «ведущим способом подачи информации в русском языке является грамматически оформленная синтагма» [Ляпон 1978, с. 159]. Для включения реляционных единиц — союзов - в структуру предложения русский язык использует свои внутренние ресурсы, используя для этого аналитические средства. Именно аналитические свойства формально отличают ре-лятив-союз как оценочное средство синтаксического уровня от других оценочных единиц языка: являясь самостоятельной лексемой, союз всегда оказывается в предложении и тексте вне оцениваемого объекта, что отличает его от других оценочных средств языка, неотделимых от объекта оценки.
Говоря о процессуально-ситуативном аспекте понятия «оценка», надо отметить, что «оценка - это оценивание в широком смысле слова, т. е. интеллектуальная обработка, квалификация, эмоциональная реакция, наконец, ремарка, исходящая из определенного источника и направленная на определенный источник» [Ляпон 1978, с. 162]. Именно ситуативно-процессуальный момент в понятии «оценка» помогает объяснить оценочную природу предикативного акта. Неотъемлемым компонентом предикативности как грамматической категории является модально-оценочный элемент, поэтому она может быть признана разновидностью оценки. Кроме того, «субъективная ремарка, направленная на какой-либо компонент предложения, создает имитацию дополнительного предикативного ядра или своеобразную «микропредикативную ситуацию» в рамках одного предложения» [Ляпон 1978, с. 162].
Конечно, оценочное средство функционирует не само по себе и не для себя самого. Об оценочной ситуации говорят три составляющих: источник информации - оценивающий субъект, оценочное средство и объект, подвергаемый оценке. Именно последние два - оценочное средство и объект оценки непременно реализуются в тексте. Наблюдения многих исследователей над семантикой оценочных средств языка доказывают то, что в языке зафиксиро-
вано представление о психике человека как о целостной сфере. Поэтому оценочное значение многих модальных частиц (куда входят и союзы) может быть одновременно соотнесено и с рациональным и иррациональным типом психической реакции.
Подчинительный союз как реляционная единица в условиях оценочной ситуации выступает на правах компонента этой ситуации. Следовательно, подчинительный союз предполагает два объекта оценки, осуществление двух оценочных актов: 1) содержание ситуации, представленной в первой части, соотносится с действительностью; 2) происходит квалификация характера отношений между главной и придаточной частями, дается логическая характеристика связи (например, необходимая обусловленность, обратная обусловленность, условное тождество и др.). Союз одновременно реализует свойства союза и частицы. Подчинительные союзы «обладают, как правило, сложной семантической структурой, представляющей собой синтез двух начал, каждое из которых построено на оценочной основе». Следовательно, «двойственность, промежуточность, «гибридность» релятива - это не потенциальная возможность, устраняемая контекстом, а качество парадигматического, системного уровня, которое отражает специфику внутреннего устройства релятива как языкового знака» [Ляпон 1978, с. 167].
Таким образом, категориальная общность подчинительных союзов как реляционных единиц обусловлена оценочной основой их смысловой структуры, а также и формальной унификацией аналитических средств организации текста.
Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью процесса функционирования, а также модальных возможностей условных и причинных союзов, разнообразных оттенков модальных планов при взаимодействии причинных союзов с коррелятами и модально-оценочными (вводными) словами в сложноподчиненном предложении. Между тем, именно изучение закономерностей функционирования подчинительных союзов в ус-
ловных и причинных конструкциях дает возможность наиболее полно представить внутренние потенции исследуемых языковых средств, и, как следствие, углубить знания об их семантико-структурной организации, выявить возможности коммуникативно-прагматического использования и определить их роль в организации модальных планов в сложноподчиненных предложениях со значением обусловленности.
Предмет исследования - подчинительные союзы и их роль в формировании модальных значений в условных и причинных сложных предложениях.
Цель исследования - выявить и описать структурно-семантические свойства подчинительных союзов, определить их функциональные потенции и модальные возможности в сложноподчиненных предложениях со значением обусловленности.
Осуществление поставленной цели предполагает решение следующих задач:
описать союзы как один из способов выражения модальности сложного предложения;
выявить модальные возможности условных союзов в конструкциях индикативного и неиндикативного типов;
проанализировать конструкции, их модальные признаки, оформленные союзом если в сочетании со специализированным коррелятом;
описать семантику причинных союзов дифференцированного и недифференцированного значения как фактор порождения модальных оттенков в сложноподчиненных предложениях;
рассмотреть особенности видоизменения модальной ситуации конструкций в аспекте расчленения союзов недифференцированного значения;
рассмотреть модально-модификационное разнообразие, определяемое сочетанием причинных союзов с модально-оценочным словом.
Научная новизна работы состоит в выявлении и анализе многообразных оттенков модальных возможностей условных и причинных союзов в сложноподчиненных предложениях со значением обусловленности. Изучена и описана семантико-структурная организация, закономерности функционирования и коммуникативно-прагматического использования подчинительных союзов в условных и причинных конструкциях. Уточнены факторы, способствующие актуализации или, наоборот, ослаблению смысловой доминанты, выраженной квалификатором. Тем самым открывается новый ракурс проблемы семантического соприкосновения соединителя и «событийного материала» сообщаемого, и, как следствие, перспектива создания разнообразных модальных значений в сложноподчиненном предложении.
Методы исследования. В работе использован описательный, аналитический и структурный методы, позволяющие наиболее полно охарактеризовать модальные возможности союзов.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит определенный вклад в разработку теории сложноподчиненного предложения в целом. Результаты проведенного анализа могут быть полезны при дальнейшей разработке вопросов, связанных с модальными возможностями условных и причинных союзов, а также с изучением категории модальности с точки зрения антропоцентризма.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее положения и выводы могут быть использованы в преподавании курса «Современный русский литературный язык», в спецкурсах и спецсеминарах, на курсах повышения квалификации учителей русского языка, в научной работе аспирантов и студентов.
Материалом для анализа послужили 2500 фрагментов текстов, содержащих сложноподчиненные предложения с условными и причинными значениями, извлеченных из произведений художественной, публицистической,
мемуарной, эпистолярной литературы XIX - XX вв. методом сплошной выборки.
На защиту выносятся следующие положения:
Исходным значением подчинительных союзов (как условных, так и причинных) является реляционное значение. Подчинительные союзы как реляционные единицы обладают особыми способностями в процессе коммуникации, они являются выразителями категории субъективной оценочности.
Условно-ирреальные союзы используются в речи как актуализаторы выражения ментальных суждений, обозначении событий, связанных с осмыслением и оценкой нереальной действительности, сопровождаясь при этом тем или иным субъективным отношением говорящего; они способны создавать особый параллельный мир в языке - «возможный мир».
Модальные возможности условно-потенциальных союзов проявляются в создании конструкций со значением узуального условия, могут формировать конструкции, аналогичные вводным, фразеологизироваться, образуя устойчивые обороты типа оговорок. При определенных условиях они способны отражать реальное положение вещей, выявлять возможности осуществления условия в будущем. Вступая в соединение со специализированным конкрети-заторами, условно-потенциальные союзы могут приобретать дополнительные модальные оттенки.
Условно-потенциальный союз способен вступать во взаимодействие со специализированным коррелятом. Корреляты, находясь в главной части условно-потенциальных конструкций, выделяют, подчеркивают или ограничивают то, о чем говорится в придаточной части (при помощи различных частиц), проявляют способности к отрицанию или противопоставлению его содержания, к созданию различных логичных и модальных его оценок.
5. Семантика причинных союзов недифференцированного значения явля
ется носителем определенного модально-квалицирующего значения; с их
помощью оформляются ментальные суждения, рассуждения, объяснения, ко-
торые всегда сопровождаются тем или иным субъективным отношением говорящего.
Расчлененный союз недифференцированного значения предстает в виде специфического микротекста, подверженного влиянию двух противоположных тенденций: тенденции к расчленению и тенденции к синтезу. Расчленение союзов приводит к тому, что первая их часть, находящаяся в главном предложении, приобретает значение опорного компонента и способна актуализироваться модально-оценочными словами и частицами, обогащая потенциал каузальной модальности.
Причинные союзы недифференцированных значений во взаимодействии с модально-оценочными словами определяют грамматический характер целостного содержания предложения, а также могут создавать инверсивные (несобственно-причинные) построения, тем самым обогащая различными модальными оценками отношения каузальности.
8. Аналитическая структура причинных союзов дифференцированных
значений является предпосылкой создания модальных ситуаций сложнопод
чиненных предложений как с собственно-причинным, так и с несобственно-
причинным (причинно-аргументирующим) значением.
Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка источников и Библиографии.
Во введении излагаются теоретические основания исследования, определяется предмет исследования, обосновывается актуальность его изучения, формируется цель и задачи работы, отмечается ее научная новизна, характеризуется теоретическая и практическая значимость работы, указываются источники языкового материала и методы его анализа.
В первой главе «Степень и особенности участия союзов в формировании модальных значений сложноподчиненных предложений с условной связью частей» описывается роль союзов в формировании модальных значений в условных конструкциях индикативного и неиндикативного типа.
Во второй главе «Роль причинных союзов в создании модальной специфики сложноподчиненных предложений с причинным соотношением компо-J^IS нентов» определяются возможности причинных союзов (дифференцированных и недифференцированных значений) в создании модальной специфики конструкций с причинным отношением компонентов.
В заключении подводятся итоги проведенного анализа.
Список источников языкового материала содержит перечень произведений, из которых взяты примеры исследуемых конструкций.
В библиографии, состоящей из 175 наименований, указаны работы авторов, цитируемых или упомянутых в тексте диссертации.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на
-404 заседании кафедры русского языка и общего языкознания Липецкого госу-
дарственного педагогического университета, на межвузовских научных конференциях (Липецк, 2001-2004), представлены в публикациях по теме диссертации.
-4-у
*
Модальные возможности условных союзов в конструкциях неиндикативного типа
Структура сложного предложения, создающая условия для выявления подчинения, и союз тесно связаны между собой отношениями взаимозависимости и взаимовлияния. Как было сказано выше, основой семантики союза является релятивное значение, отражающее характер передаваемых при его участии отношений в границах сложного предложения, поэтому категориально-семантическое значение союза может быть полностью раскрыто с помощью анализа его функционирования в сложноподчиненном предложении, а также изучение особенностей сочетания условного союза с модальными частицами.
Условные конструкции представляют собой бипредикативные (бипро-позитивные) семантические конструкции. Следовательно, в сложноподчиненном условном предложении выражаются две пропозиции, или два положения дел, причем одно из двух определенным образом зависит от другого. Подобные предложения представляют собой такие конструкции, которые специально предназначены для того, чтобы эксплицитно маркировать зависимость одной пропозиции от другой.
В основе любой условной конструкции, как правило, лежит принцип альтернативы. В. В. Виноградов писал, что «наше если выражает условность, подвергая сомнению существование события, принимаемого за условие: оно - из вопросительного есть лиЪ [Виноградов 1975, с. 85].
А. Вежбицкая высказала предположение о том, что условный концепт если является одним из относительно простых и ясных концептов, которые нельзя свести к более простым концептам. Иными словами, условный концепт относится к числу универсальных семантических примитивов (данное предположение подтверждено Е. В. Урысон [Урысон, 2001]). Наряду с условным концептом если А. Вежбицкая выделяет и относит к числу семантических примитивов еще один концепт - если бы, которые называет логическими понятиями (концептами) [Вежбицкая 2001, с. 161, 228].
В условных предложениях неиндикативного типа средствами связи являются союзы недифференцированного значения если бы, когда бы, коли бы, как бы, кабы ежели бы, диви бы, добро бы [Русская грамматика 1982, т. 2, с. 563], не способные определить разграничение нереальной и потенциальной обусловленности без опоры на контекст. В. В. Виноградов отнес подобные сочетания частицы бы с союзами условными к разряду союзов с модальной окраской гипотетичности [Виноградов 1972, с. 720]. Союз если бы является нейтральным, остальные признаны стилистически окрашенными: ежели бы -устаревший и просторечный, когда бы - устаревший и книжный, коли (коль) бы - устаревший и просторечный, добро бы - разговорный, диви бы - устаревший и просторечный, как бы, кабы - просторечные [Русская грамматика 1982, т. 2, с. 563].
Эти союзы присоединяют придаточную часть сложноподчиненного предложения, в которой указывается на ирреальное условие реализации того, о чем говорится в главной части. Типовая ситуация ирреального условного обоснования состоит из двух компонентов, обусловливающего и следственного, содержащих нереальные, неосуществимые события и обычно строятся по моделям Если бы {ежели бы и др.) Р, то {так, тогда) Q; Q, если бы {ежели бы и др.) Р.
В конструкциях, вербализующих ситуацию ирреального условного обоснования, актуализатором ирреальной функции является форма сослагательного наклонения, имеющая «категориальное значение возможности, предположительности» [Русская грамматика 1982, т. 1, с. 625]. Подобной же точки зрения придерживается академическая Грамматика русского языка
1953 г.: «Сослагательное (условное) наклонение служит для выражения действия, которое говорящий считает предполагаемым, возможным или желаемым. Более подходящим названием для этого наклонения было бы предположительное; ... в этом случае все названные выше значения оказались бы разновидностями одного общего предположительного значения» [Грамматика русского языка 1953, т. I.e. 503]. В рамках сослагательного наклонения А. А. Шахматов усматривает два наклонения, связанных друг с другом общим ирреальным наклонением: желательное и условное (предположительное) [Шахматов 2001, с. 484—485]. А. А. Потебня склонялся к тому, чтобы назвать сослагательное наклонение единым «условно-желательным» [Потебня 1958, т. Ж—II с. 270]. Сослагательное наклонение состоит из глагольной формы на -л и частицы бы. По мнению авторов Русской грамматики, «частица бы в составе этого компонента неотделима от глагола и образует вместе с ним форму синтаксического условного наклонения» [Русская грамматика 1982, т. 2, с. 563]. Модальность следственного компонента определяется модальной квалификацией обусловливающего компонента, предикат, в свою очередь, всегда выступает как соучастник модальной квалификации, заданной союзом.
Условные союзы дифференцированных значений как специализированные показатели потенциальной обусловленности индикативных предложений
В отличие от ирреально обусловленных предложений, в которых смысл союза всегда поддерживается сослагательной формой наклонения, значение потенциальности в индикативных конструкциях полностью опира ется на союз. Союз если выражает не условие как таковое, а тот факт, что «истинность одного из соединяемых этим словом предложений является ус ловием истинности другого» [Гладкий 1982, с. 43]. Можно сказать, что «союз 1 если "с трудом переносит" уверенность говорящего в истинности первого из связываемых им предложений» [Там же, с. 49]. Обычные синтаксические условия реализации условного союза если это сложная конструкция, в рамках которой придаточная часть (ситуация условие) и главная часть (ситуация-следствие) соотнесены на основе равно правия информации. В таких условиях придаточная часть ориентирована на предикат главной части, значит, обе части равноценны по своей предикатив ен ной значимости. Союз если в типичных для него синтаксических условиях выполняет роль модального квалификатора с двумя объектами оценки. Один объект оценки - придаточная часть, а именно представленная в ней ситуация квалифицируется в аспекте реальности / нереальности. Содержание придаточной части «подвергается семантической обработке при помощи релятива, который выступает в функции модальной частицы. «Соучастником» этой квалификации является предикат придаточной части» [Ляпон 1978, с. 164]. Именно этот синтаксический компонент несет в себе основную модальную оценку всего предложения. Следовательно, функциональная общность союза и предиката основывается на модально-оценочной основе: оба компонента сообщения представляют собой разновидность оценки. Второй оцениваемый объ ект - отношение между главной и придаточной частью. Это отношение ква S лифицируется как необходимая, закономерная, внутренняя обусловленность двух явлений. Неотъемлемым элементом в структуре союза если является гипотетич ность, которая выполняет роль семантической доминанты этого союза [Иль енко 1962, с. 34]. Следовательно, гипотетичность выступает как главная сема, так как она определяет не только модальный смысл придаточной части, но и предопределяет модус главной части: Он [Мышкин] предчувствовал, что ес ли только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот лее мир и выпадет ему впредь на долю (Достоевский. Идиот); Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо, и ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться (Чехов. Именины); Если ее [Анны] болезнь есть обман, то он [Каренин] промолчит и уедет. Если она действительно больна, при смерти и желает его видеть пред смертью, то он простит ее, если застанет в живых и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно (Л. Толстой. Анна Каренина). н Мера гипотетичности содержания придаточной условной части «варь ируется, но не с помощью союза, а с помощью форм времени глаголов-сказуемых главной и придаточных частей» [Волохина, Попова 2003, с. 42]. Характерной особенностью этих конструкций является широкое распространение в придаточной, а часто и в главной части глагольных форм, ориентированных в план будущего времени (глаголы совершенного и несовершенного вида). Будущее по своей природе является наиболее потенциальным временным планом и поэтому наилучшим образом приспособлено для выражения значения реального условия. По этой причине при локализации реального условия в будущем отсутствуют какие-либо прагматические ограничения на t употребление условных конструкций. Согласно наблюдениям В. С. Храков 54 ского, условные конструкции, «в которых и условие, и следствие локализованы в будущем, относятся к самым частотным моделям условных конструкций» [Храковский 1994, с. 133]. Подобное окружение союза если адаптирует сему гипотетичности, присутствующую в нем. Ведь именно при выражении условия, отнесенного в область будущего, человек часто испытывает неуверенность относительно его реализации. Само действие вполне возможно, говорящий обсуждает следствия, которые могут быть вызваны этим проблематичным действием в случае его осуществления.
Семантика причинных союзов недифференцированного значения как фактор порождения модальных оттенков сложноподчиненного предложения
В современных философских и естественнонаучных исследованиях причинные отношения, как правило, рассматриваются с позиций необходимости и достаточности. Философский энциклопедический словарь дает следующее определение причины: «Причина - явление, непосредственно обусловливающее, порождающее другое явление (следствие)» [Философский словарь 1983, с. 370]. Научно-философский подход к интерпретации причинного отношения всегда был связан с пониманием основных принципов существования и принципов познания. Так, еще Даллас говорил о том, что «всякое явление в мире может быть точно предсказано благодаря универсальным вычислительным процедурам, основанным на знании всех начальных условий» [Новая философская энциклопедия 2001, с. 353]. Однако философские исследования категории причинности не связаны непосредственно с языком, не предполагают языковых способов ее выражения. В отличие от философской, логическая интерпретация причинности опирается непосредственно на языковой материал, потому что сами объекты изучения логики не проявляются ни в какой иной форме, кроме форм языка. Логика имеет своим объектом причинную связь между мыслями в высказывании. Всякое понятие, существующее в сознании человека, может быть передано средствами языка. Такое понятие как причинность «передается не через язык, а в самом языке, не только его средствами, а в самой его материальной части» [Тарасова 1998, с. 54].
Отображая причинно-следственные отношения, язык обращает большое внимание на первый член этой пары. Помимо существительных причина, повод, основание, мотив и др. и глаголов каузации вызывать, порождать, причинять и т. п., в русском языке имеется большое количество причинных союзов {потому что, так как, ибо и др.) и много причинных предлогов (из-за, из, от, по, с, благодаря, по причине, вследствие, в результате, ввиду, в силу и т. п.). В языке есть очень употребительное вопросительное слово, позволяющее задать вопрос о причине: Почему? Все эти языковые средства (кроме глаголов) способны концентрироваться в одном из вариантов оформления причинных отношений: союзном, так как на базе существительных, предлогов, простых союзов образуются устойчивые союзные сочетания, отличающиеся большой смысловой многогранностью, которая поддерживается соответствующей семантикой базовых компонентов.
Субъект познает мир и отражает в определенной языковой форме объективно существующие причинные связи. Хотя причинность является лишь частью всеобщей связи, она зачастую отождествляется с необходимостью, закономерностью, обусловленностью вообще.
Из всех отношений обусловленности наиболее сложной и разветвленной типологией категориальных ситуаций характеризуются отношения причины. Это определяется их положением беспризнакового компонента в системе семантических оппозиций отношений обусловленности.
В причинных предложениях носителем признака достаточного основания является придаточная часть, при том, что модальные признаки частей не зависят друг от друга. Значение каузальности в причинных конструкциях «конкретизируется как необходимое основание, порождающий (предопределяющий) фактор, обоснование, подтверждение, доказательство, довод, предпосылка, прямое или косвенное свидетельство, повод, предлог, стимул» [Русская грамматика 1982, т. II, с. 577]. Весь этот круг отношений предпола-гает такую связь ситуации, при которой одна из них оценивается горящим как достаточное основание для реализации другой. Данные частные, узкие значения объединяются в конструкциях, которые принято делить на собственно-причинные и несобственно-причинные.
Собственно-причинное значение не осложняется никакими добавочными оттенками, это «обусловленность, "освобожденная" от альтернативы» [Ляпон 1986, с. 168]. Собственно причинные СПП представляют собой тот идеальный случай, когда реальной причине и реальному следствию в объективной действительности соответствует причинная придаточная предикативная единица и главная предикативная единица со следственным значением. Подобные «отношения между предикативными единицами "иконически" отображают реальные отношения между причинной и следственной ситуациями» [Теремова 1984, с. 103].