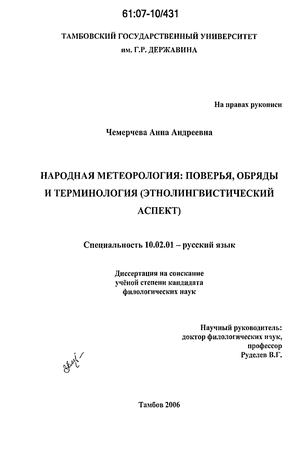Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ТАМБОВСКИХ КРЕСТЬЯН (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТЕОРОЛОГИИ) 20
1. Понятие языковой картины мира (ЯКМ) 20
2 Представления о метеорологических явлениях весенне-летнего цикла 23
2.1. Обряды, поверья, связанные с дождём 26
2.2. Обряды и поверья, связанные с градом 46
2 3 Обряды и поверья, связанные с грозой 56
2.3.1. Обряды, связанные с первым громом 70
3. Представления о зимних метеорологических явлениях 76
4. Представления о метеорологических явлениях, которые присутствуют в течение всего годового цикла 83
4.1. Обряды, поверья, связанные с ветром и облаками S3
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 92
ГЛАВА 2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ТАМБОВСКИХ ГОВОРАХ: АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ 93
1. Тематические группы 94
1.1. Тематическая группа «Дождь» 95
1.2. Тематическая группа «Град» 101
1.3. Тематическая группа «Молния» 103
1.4. Тематическая группа «Гром» 106
1.5. Тематическая группа «Ветер» 107
1.6. Тематическая группа «Снег» 111
1.7. Тематическая группа «Радуга» 115
1.8 Тематическая группа «Изморось» 116
1.9. Тематическая группа «Лёд» 117
2. Семантические оппозиции 120
2.1. Оппозиция сухой-мокрый 120
2.2. Оппозиция тепло-холод 124
2.3. Оппозиция динамика-статичность 129
2.4. Оппозиция ясно-пасмурно 130
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 136
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 137
БИБЛИОГРАФИЯ 140
ПРИЛОЖЕНИЯ 155
Список используемых в работе сокращений: 156
Приложение 1. Программа-вопросник для сбора сведений по теме «Народная метеорология» 157
Приложение 2. Список информаторов 172
Приложение 3. Детские песенки, исполняемые для
вызывания/прекращения дождя / 77
Приложение 4. Фотоматериалы 181
Приложение 5. Этиолингвистические тексты 192
- Понятие языковой картины мира (ЯКМ)
- Представления о метеорологических явлениях весенне-летнего цикла
- Тематические группы
Введение к работе
Работа посвящена исследованию той части народного языка (диалектов), которая касается построения модели мира, её событийной и временной составляющей.
Ишерес к традиционной народной духовной культуре, её истории в среде отечественных и зарубежных учёных, который наметился в начале двадцатого века и приобрёл широкий размах к концу столетия, неслучаен. Осознание своей уникальности, осмысление самобытности было во многом сформировано и привито на протяжении всей истории девятнадцатого века благодаря многочисленным открытиям и научным выводам в обласіи географии, антропологии, этнографии, языкознания, археологии и др. Достижения в науке стимулировали не только саму возможность обращения к явлениям народной духовной культуры, но и позволили решать проблемы, лежащие на стыке смежных дисциплин: лингвистики, этнографии, фольклористики, изучая предмет с разных сторон и в системе. Такое комплексное изучение особенно важно для решения проблем и тем, касающихся славянского (в нашем случае южнорусского) этногенеза. Помимо этногенетической проблематики, комплексные общефилологические исследования, ведущиеся на стыке родственных дисциплин, актуализируют или возвращают языкознанию и ряд других, собственно лингвистических задач теоретического характера, которые долгое время пребывали в тени «чистой» лингвистики, как, например, проблема специфики народной культурной терминологии, взаимодействия обряда и его терминологии в семиотическом плане, соотношения лингвистического и фольклорно-поэгического плана в обряде, проблема обрядового и поэтического контекста, языка фольклора, мифологии и семантики, определения диалекта на основе историко-культурного подхода, выработки принципов толкования обрядовой лексики и т.п. Важно и то, что выход за пределы лингвистики означает одновременно внедрение её достижений в соседние области знания,
то ее і ь использование при этнографическом анализе структурно-семиотического, ареального и сравнительного методов.
Базой для фундаментальных исследований по метеорологии послужили
многочисленные работы по этнографии (Д.К. Зеленина [Зеленин 1991, 1994],
II. Белецкой, Н.И. Костомарова, Н.И. Лебедева, СВ. Максимова [Максимов
1991], ПС. Масловой, А.Н. Минха, И.М. Снегирева [Снегирев 1990], И.П.
Сахарова [СРН 1990], А.В. Терещенко [Терещенко 2001], А.А. Коринфского
[Коринфский 1905], А.С. Дембовецкого [Дембовецкий 1882], В.Я.
Никифоровского [Никифоровский 1897], А. Миллера [Миллер 1910], М.
Забылина, И.А. Кремлевой, С.А. Инниковой, Т.А. Листовой,
Т.П.Федянович, А.К. Байбурина), фольклору (это прежде всего цикл работ представителей мифологической школы А.Н. Афанасьева [Афанасьев 1988], Б.А. Рыбакова) и лингвистические изыскания Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни [Птебня 1860], В.И. Даля [Даль 1997; 1978-1981], А.Н. Веселовского, П.Г. Богатырёва. Позитивный опыт в изучении вопроса по метеоролоіии накоплен рядом зарубежных учёных, наиболее существенен вклад болгарских и сербских исследователей. Большой интерес представляют работы С. Вацова (1900), Д. Вукадинова (1896), Т.Г. Ецова (1900), С.Д. Спасова (1900), М.К. Цепенкова (1900), Кепова И. (1936), Маринова Д. (1914), Радован М. (1974) и др.
Первыми научными работами на русском языке, целенаправленно описывающими метеорологию (обряды, поверья, терминологию), можно счиїать цикл статей Н.И. и СМ. Толстых. Так, в работе о защите от града [Толстые 2003г и 1979] авторы рассматривают ритуалы и обряды, связанные с градом и защитой от него, используя архивные и полевые материалы сербского ареала. Особенно важным мы считаем анализ сербских текстов-заклинаний, приведённый в данной работе. Статьи, посвященные вызыванию дождя [Толстые 2003а и 2003в], выполнены на полесском материале и реконструируют структуру и семантику ритуала вызывания дождя.
7 Исследования метеорологических представлений в Полесье завершает работа, в которой рассматриваются обряды, связанные с градом и громом [Толстые 20036]. В исследованиях, посвященных номинациям радуїи [Толстой 1976], дождя и саламандры [Толстой 1997а и 19976], дан историко-тгимологический анализ славянских слов с вычленением диалектных зон. Н.И. Толстой особо останавливается на исследовании взаимосвязей между дождем и обрядами с участием домашних животных [Толстой 20036]. «Птичья» тема затрагивается также и в статье об аисте [Толстой 1984а]. Крайне важны работы Н.И. Толстого, посвященные исследованиям древних славянских верований, в которых автор пишет о понятии времени, природы и др. [Толстой 19846, 2003а, 2003в и 2003д]. В исследованиях СМ. Толстой, посвященных календарной обрядности, уделяется внимание вопросам, связанным с народной метеорологией [Толстая 1986а, 1984, 19866]. Работы Н.И. и СМ. Толстых во многом сформировали и определили направленность последующих исследований, представив метеорологию как самостоятельную сисіему, органично вписывающуюся в сферу славянских представлений духовной кулыуры.
Особый интерес представляют исследования, посвященные проблемам создания Лексического атласа русских народных говоров, раздел «Народная метеорология». Это прежде всего работы, определяющие механизм сбора, обработки и изучения лексики в соответствии с программмой-вопросником. Статьи Е.И. Новиковой [Новикова 1998] и Е.В. Демидовой [Демидова 2001] описывают наименования ветров в поморской группе севернорусскою наречия и русских говорах Карелии. Е.И. Новикова на основе Программы-вопросника Лексического атласа русских народных говоров анализируеі лексемы, связанные с ветром. К статье прилагается схема, демонстрирующая ареал распространения названий ветров в русских говорах Карелии. Е.В. Демидова анализирует отдельные лексемы-номинации ветра в северных говорах. В статье Р.И. Кудряшовой, Т.Н. Колокольцевой [Кудряшова,
Колокольцева 2001] рассматривается семантика слова «погода» в волюїрадских говорах. Авторы сравнивают семантику исходного слова, привлекая данные «Словаря русских народных говоров», «Словаря живого великорусского языка» В.И. Даля и региональных словарей. К статье прилагается карт значений слова «погода» на территории Волгоградской области. В работе Е.Г. Мельниковой [Мельникова 2001] исследуется метеорологическая лексика «с признаками "цвет" и "размер"» в Псковской области. Автор рассматривает признаки "цвет" и "размер", обращаясь к лингвистическим средствам выражения (префиксальные, суффиксальные). Т.В. Кириллова [Кириллова 2001] в своей статье выделяет лексико-семантическую группу - названия льда. Работа строится на последовательном описании обозначений различных видов льда. Исследование В.В. Резцова [Резцов 2001] посвящено семантическим особенностям глаголов, обозначающих происходящие в природе процессы (метеорологические). Автор приходит к выводу, что связь между значениями рассмотренных лексем отражает особенности языкового членения действительности в говорах, причем жизнедеятельность социума и явления природы на уровне языкового сознания для человека практически неразделимы. Таким образом, вышеуказанные работы очень значимы, но для нас представляют скорее вюростепенный интерес, поскольку сориентированы на конкретные цели и задачи «Атласа...», в результате чего за пределами сбора и описания остаются этнографические (описание структуры обрядов, ритуалов) и лексические(словесные формулы, клише, заговоры и т.п.) аспекты.
Народная метеорология привлекала внимание многих исследователей. Цикл статей, посвященных дождю и ветру, опубликован Э.Г. Азимовым. В этих статьях автор анализирует номинации дождя при солнце и ветра в тесной связи с представлениями об этих явлениях [Азимов 1979, 1983а и 19836]. Любопытны работы, посвященные зарнице - молнии без дождя и грома. В статье Т.А. Агапкиной и А.Л. Топоркова приводятся номинации
9 зарницы, очерчивается ареал их распространения [Агапкина, Топорков 1989]. В исследовании Ф.К. Бадалановой рассматриваются поверья, связанные с орехом и молнией [Бадаланова 1983]. Полесский обряд вызывания дождя на Гомелыцине описывают в своей работе Е. Владимирова, Е. Зайцева, А. Топорков [Владимирова, Зайцева и др. 1983]. В.Н. Топоров анализирует использование мака в обрядах вызывания дождя, находя тесную связь зерен мака и капелек дождя [Топоров 1979]. В другой работе учёный анализирует сербско-хорватские заговоры, уделяя особое внимание связи небесных явлений со змеем [Топоров 1993]. Т.М. Судник в материалах [Судник 1979] находит связь одного архаического текста с представлениями о грозе. В другой статье реконструируется фрагмент основного мифа, связанного с выбором растительного кода [Судник, Цивьян 1979]. Т.С. Макашина в статье, посвященной Илье-пророку, рассматривает поверья, представления о святом, привлекая и фольклорные материалы [Макашина 1982]. В материалах Т.М. Николаевой содержится попытка найти некоторые специфические коннотации в семантике слова мгла [Николаева 1999]. А.А. Плотникова в своей статье рассматриваег демонологические мотивы, связанные с народной метеорологией [Плотникова 2000]. Ряд статей посвящен народной метеорологической терминологии [Василенко 1977], [Горячева 1972], [Дсрягин 1967], [Михеева 1970], [Усачева 1983], [Щербакова 1979].
Интересны исследования В.В. Иванова, В.Н. Топорова. В своих работах авюры предсіавляют реконструкцию древних текстов, основываясь на лексике и фразеологии, представляя типологию языковых картин мира, исследуя семиотический план [Иванов, Топоров 1965], [Иванов, Топоров 1974].
На сегодняшний день существует ряд диссертационных исследований, в которых народная метеорология является непосредственным предметом исследования.
А.А. Пыхтеева в своей диссертации [Пыхтеева 1979] рассматривает народную метеорологическую терминологию в составе группы, называющей явления природы. Работа написана на материале диалектных словарей русского языка XIX-XX вв., картотек СРНГ, Псковского словаря, Омского архива и др. В работе представлены номинации атмосферных явлений говоров Среднего Прииртышья и их диалектную соотнесенность с лексикой других русских творов.
В работе В.В. Васильева [Васильев 1986] даётся анализ лексики шести лексико-семантических групп с установлением связей, особенностей функционирования лексем внутри этих групп. Диссертационное исследование О.Б. Пойды [Пойда 1988] рассматривает лексико-семантические связи слов, называющих явления природы в брянских говорах. Лексика разделена на 12 лексико-семантических групп, которые подвергнуты мноаспектному анализу. Работа А.Г. Лаврентьевой [Лаврентьева 1987] предлагает нам лишь часть метеорологической лексики псковских говоров - названия дождей и облаков.
Диссертационные исследования М.М. Кондратенко и О.А. Могилы посвящены изучению метеорологической лексики на общеславянском фоне. В работе О.А. Могилы [Могила 1984] материал предложен в виде лексико-семантических групп, объединённых по происхождению атмосферных и метеорологических явлений. Метеорологическая лексика украинских говоров предстаёт в виде единой макросистемы, которая делится на семантически тесно связанные группы.
В диссертации М.М. Кондратенко [Кондратенко 1995] дано ономасиологическое описание названий природных явлений в центральных и маргинальных славянских говорах. Автор выделяет несколько групп по способу номинации, выявляет устойчивые обороты и свободные сочетания в названиях явлений природы, а также рассматривает некоторые типы их мотивации.
О.А. Макушева в своей работе «Метеорологическая лексика в орловских говорах» [Макушева 1994] предлагает анализ лексико-семаніической системы одного говора, проведенный на материале трех взаимосвязанных лексико-семантических групп слов, называющих метеорологические явления. На основе картотек «Словаря орловских говоров», а также собственных полевых записей автор выявляет принципы и способы номинации метеонимов, проводит словообразовательный анализ.
Диссертационное исследование А.Г. Мельниковой [Мельникова 2004] посвящено комплексному анализу единиц в составе лексико-семантической подгруппы «погода» с установлением парадигматических связей лексических единиц в пределах данной подгруппы. В работе автором были использованы материалы Псковского областного словаря, Словаря русских народных говоров, «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, архивы Лексического атласа русских народных говоров, а также собственные экспедиционные записи.
Большое внимание было уделено изучению словарей, и в первую очередь, это «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля [Даль 1978-1981] и этнолингвистический словарь «Славянские древности» [СД]. Особую ценность представляют региональные диалектологические словари. Помимо общих словарей диалектной лексики {«Словарь тамбовских говоров» [СТГ] Пискуновой СВ., Махрачёвой Т.В., Губаревой В.В, «Словаря Орловских говоров» [СОГ], «Псковский областной словарь с историческими данными» [ПОСИД], «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» [СГСЗ], «Словарь говоров Подмосковья» А.Ф. Войтенко [Войтенко 1969]), нами были изучены тематические словари, среди которых «Словарь метеорологической лексики орловских говоров» [СМЛОГ] и «Тематический словарь говоров Тверской области» [ТСГТО]. Однако и в словарях, как правило, за пределами внимания авторов остаются культурно-
12 этнографические связи описываемого явления, что также приводит к потере значительного пласта информации.
Нельзя не сказать и о ряде работ, которые рассматривают интересующий нас предмет на обширном фольклорном материале (особенно популярны малые фольклорные жанры). Например, З.М. Волоцкая [Волоцкая 1993] исследует образные представления о метеорологических явлениях в загадках. Выделяется работа А.С. Ермолова [Ермолов 1995], рассматривающего в своей книге приметы, связанные с метеорологическими явлениями. Автор работы, министр сельского хозяйства, собрал и описал приметы, пословицы, загадки разных культур на рубеже XIX-XX вв. Многочисленны сборники народных примет, народные календари [Горбань 1990], [Лютин 1993], [Объедков 1988], [Серков 2002], однако главный недосшок зіих изданий, на наш взгляд, - обобщённый характер материала с отсутствием указаний на его географическую принадлежность. Иной характер носят энциклоклопедии примет и суеверий [Семенова 2000], [Власова 1998].
Существует ряд фундаментальных трудов, посвященных духовной культуре славян, в которых значительное место отводится сведениям о метеорологии. Затрагивая, хотя и косвенно, метеорологические явления, авюры убедительно показывают взаимосвязь и взаимообусловленность всех сфер духовной культуры в представлении славян, намечая сквозные и специфические мотивы. Например, работа Т.А. Агапкиной [Агапкина 2002], рассматривающей календарную обрядность, исследования, посвященные семейным обрядам: О.А. Седаковой (погребально-поминальный обряд), работа А.В. Гуры [Гура 1997], исследующего животный мир, статьи О.А. Терновской [Терновская 1979 и 1981], посвященные насекомым, работа Е. Левкиевской [Левкиевская 2000] и др.
На территории Тамбовской области народная метеорология как самостоятельное, фундаментальное исследование в целом мало разработана,
однако существует ряд статей, освящающих этот вопрос. На рубеже веков это статьи В. Бондаренко [Бондаренко 1890], М.Н. Макарова, А.Ф. Можаровского, в которых рассматриваются поверья, обряды и ритуалы, бытовавшие в Тамбовской губернии.
В наши дни представителями Тамбовской лингвистической школы плодотворно разрабатываются и апробируются исследования по материальной и духовной культуре. Накопленный позитивный опыт позволяеі рассматривать явление в системе, увеличивая ценность каждого исследования. Чрезвычайно интересны этимологические изыскания В.Г. Руделева [Руделев 1994], рассматривающего особенности возникновения и бытования некоторых лексем. В исследованиях СЮ. Дубровиной освещаются вопросы народного православия на Тамбовщине. В своих работах автор на основе личных наблюдений и заметок представляет «свод лексических данных», отражающих народное православие жителей тамбовской области [Дубровина 2001а], предлагает ряд статей, посвященных народному календарю, народной религиозности, народному быту и др. [Дубровина 20016]. Представляет интерес словарь Л.С. Моисеевой [Моисеева 1998], посвященный диалектным глаголам, в том числе, и связанным с метеорологическими явлениями. Нельзя не упомянуть и о работах И.В. Поповичевой, А.С. Щербак [Щербак 1999] и др.
Актуальность. Диалектный язык долгое время изучался с фонетической, морфологической и лексической точки зрения, за пределами описания находились элементы, связанные с духовной и материальной кулыурой. Прорыв наметился в 50-е годы с работой, организованной и проводимой в белорусском Полесье профессором, позже академиком Н.И. Толстым. Это начинание было поддержано в русле Рязанской диалектной школы, руководимой проф. В.И. Лыткиным (диссертационное исследование В.Г. Руделева). Активная работа по изучению диалектных семантических пластов велась и ведется в русле Тамбовской лингвистической школы, эю
работы В.Г. Руделева, СВ. Пискуновой и их учеников Новиковой Н.В., Клоковой Л.Н., Сафоновой Н.В., Поповичевой И.В., Махрачевой Т.В., Евіихисвой Л.Ю., Губаревой В.В., Ивановой М.И. Наше исследование проведено в русле этих творческих изысканий. Актуальность этих исследований в том, происходит некий траисцендент из формальной обласш в понятийную (семантическую), в которых проявляется менталитет русского народа. А без исследования этих тонких материй бессмысленно проникновение в любые языковые структуры.
Новизна. Метеорология в любом языке (литературном и диалектном) являеіся очень значимой частью картины мира, однако научное представление о метеорологических явлениях и силах природы существенно отличается от народного. В диалектном языке лексика, фразеология, понятийная структура пропускает через него познание реальной деисівительности. И мы считаем, что выявить эти вещи в сознании - очень ново и очень важно, так как это дает возможность к изучению ментальности русского крестьянства (начиная, конечно, с крестьянства отдельной территории - Тамбовской области).
В научной литературе представления о метеорологии жителей Тамбовской области не были предметом специального изучения. В диссертационном исследовании рассматривается терминология атмосферных явлений и способы формирования её, отношение человека к осадкам, репродуцирующееся в поверьях, обычаях, обрядах, словесных формулах и т.п. Работа выполняется на базе регионального материала, который вводит в научный обиход новую информацию, позволяя дополнить, уточнить, осмыслить ранее имеющиеся материалы по южнорусскому региону. Наиболее существенным является то обстоятельство, что работа выполнена преимущественно па полевом материале, собранном лично автором в 17 районах области.
Объект исследования. Объектом исследования являются лині вистические конструкты, отражающие событийно-временные понятия языковой картины мира, в которой выражена менталыюсть русского народа, ею язык, обычаи и нравы. Это сложные предложения, событийные конструкты наречною шпа и временная лексика [Руделев 2006].
Предмет исследования. Предметом исследования является группа лексем и их текстовых реализаций, отражающих саму метеорологическую реальность как данное и её восприятие, ощущение в сознании и чувствах людей (Темашческие группы «Дождь», «Град», «Молния», «Гром», «Ветер», «Снег», «Радуга», «Роса, туман», «Лёд», семантические оппозиции «сухой-мокрый», «тепло-холод», «динамика-статичность», «ясно-пасмурно»),
Гиноіеза. В процессе исследования возникла очень важная для нас гипотеза. Суть её заключается в том, что народные предсіавления о метеорологических явлениях не только отражают менталыюсть, но и иракіически очень важны, поскольку сокращают путь рассуждений, накопления информации в сознании людей.
Источники исследования. Материалом нашего исследования послужили полевые записи, собранные лично автором в 2000-2006 гг. в 17 районах Тамбовской области. В работе представлен результат бесед с носителями языка, сельскими жителями преимущественно 1905-1930 г.р. (информаторами), которые в определенном смысле являются нашими соавторами.
Маїериал представляет собой живые картины метеорологических событий и их фонов, отражает современное состояние диалектною языка, поэтому мы сознательно ограничиваем себя в использовании фольклорных текстов прошедших лет.
Цель. Диалекты русского языка, в большей степени отражающие русскую ментальность, чем литературный язык, находятся под большим влиянием литературного стандарта, и они подвергаются деформации. С
течением времени лингвистический материал, отражающий витальные ценности народа, теряется (в силу естественных географических, демографических и экономических причин). А между тем очень важно для каждого народа сохранить эти ценности, потому что в этом содержится необходимая для самоидентификации народа информация. Цель диссертационного исследования - поднять этот пласт языковой духовности, описать русскую ментальность на примере конкретной территории (Тамбовской области) через анализ языковых средств. Задачи исследования.
Представить в качестве лингвистических конструктов тот материал, который составляет тему «Народная метеорология».
Найти в материале лексические и фразеологические компоненты и описать их семантику, увидеть в них отражение реальной действительности и сё значимость для жизни русского человека (то, что составляет ментальность).
Показать отличия народных представлений о метеорологических явлениях от материала, демонстрируемого в энциклопедических словарях и справочниках.
Представить лексические компоненты, которые мы находим в текстах, рассказах на метеорологические темы в качестве семантических групп в словообразовательном, фразеологическом, синонимическом, антонимическом и др. аспекте.
Рассмотреть этот материал с теоретико-информационной точки зрения, то есть в системе оппозиций и нейтрализации, антонимических и синонимических групп.
Практические задачи:
1. Составить Программу-вопросник для сбора полевого эпюлингвистического материала по теме исследования, ориентированный на южнорусский регион.
17 2. Разработать электронную базу данных на основе собранного полевого материала.
Положения, выдвигаемые на защиту:
1. Система средств, представляющих картины метеорологическою
характера тамбовских диалектов конгруэнтны тем картинам, которые
предсіавленьї в научном знании.
2. Но эти две системы (диалектную и научную) нельзя отождестви і ь,
т.к.:
2.1. В научной литературе метеорологические события отражены
абстрактно, оторваны от конкретной этнической базы, применены ко всему
человечеству. При подаче материала ослаблен аксиологический подход. А
без него представить целостную картину мира по метеорологии нельзя.
Именно человек занимает в этой системе центральное место, он оценивает
явления, формирует свое отношение к ним, создает комплекс обрядовых
действий, направленный на управление ими и др.
2.2. В научном знании все события и явления метеорологии
представлены материалистически, без отношения к Богу и Человеку, а в
русской народной диалектной среде - во взаимосвязи божественного и
человеческого начала.
2.3. Представление о метеорологии в научном,
энциклопедическом знании объективно (результат природных, объясняемых
факюров), народное понимание сводит все метеорологические события и
явления к результату действий Бога. В народном восприятии идеальные
метеорологические условия связываются с поведением человека (соблюдение
всех норм и запретов награждается хорошей погодой, нарушение их карается
непогодой и стихийными бедствиями).
Теоретическая значимость. В нашей работе представлен язык в его диалектной форме (конечно, в виде фрагмента) не как сумма экзотических фактов, а как фрагмент объективной, значимой картины мира для человека и
18 всей его популяции. И эта уникальность очень важна не только для русского человека, но и для иностранцев, тех, кто изучает русский язык. На важность этих моментов обратил внимание Л.В. Щерба, который учил отличать чисто языковые значения от энциклопедических [Щерба 1958]. Эти факты должны бьпь реализованы только с применением оппозитивного метода, и само ею применение имеет теоретическое значение.
Метод. В работе используется комплексный подход, рассматривающий языковой материал в системе «язык-этнос-культура». При рассмотрении лексической системы нами применяется оппозитивный метод (теорегико-информационный), основы которого были заложены К. Шенноном, Н.С. Трубецким. Данный метод дает возможность оценить лингвистический факт с точки зрения его информативности, структуры, в которой отражена не только поверхностная семантика, но и латентное, скрытое содержание. Этот метод активно применялся тамбовскими исследователями на разном материале - фонологическом, лексическом [Руделев 1995] и поэтическом [Подольская 2004].
Практическая значимость. Русский язык изучается в школе с точки зрения ею механизмов (склонения, спряжения). Однако крайне важно представить язык как сумму моментов, отражающих русскую ментальность. Такой подход особенно актуален, так как он упрощает жизнь человека в русской среде, помогает понять и принять культуру нашей страны, чго в итоге ведет к развитию терпимости и толерантности среди молодежи.
Основной массив материала, собранный на территории Тамбовской области по исследуемой теме, подготовлен и включен в соответствующий раздел Президентской программы по русскому языку «Лексического атласа русских народных говоров», работа над выпуском которого осуществляется под руководством Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) и Института славяноведения РАН (Москва).
Результаты исследования обрядовой іерминологии могут быть также применены в региональной лексикографической практике, полевых исследованиях (составление программ для целенаправленного и систематизированного сбора материала).
Апробация работы. Наиболее дискуссионные, проблемные положения работы были обсуждены на историко-краеведческих чтениях, посвященных 260-летию Г.Р. Державина «Тамбовская губерния: вехи истории» (Тамбов-2003); на научной конференции преподавателей и аспирантов «Державинские чтения» (Тамбов-2003); на региональной научной конференции «Регионоведение Прихоперья: филология и этнография» (Борисоглебск-2003); на Всероссийской научной конференции «Язык и мышление: Психологический и лингвистический аспекты» (Пенза-2003). Результаты исследования опубликованы в 13 статьях и материалах.
Структура работы. Работа включает Введение, две главы, Заключение, Библиографический список и Приложение, которое содержи! список информаторов, фольклорные материалы, фотоматериалы, этнолингвистические тексты, карты.
Понятие языковой картины мира (ЯКМ)
У каждого этноса есть своя языковая картина мира (ЯКМ), которая складывается из множества факторов: социальных, этнических, географических и многих других. ЯКМ - накопленный поколениями жизненный опыт, репрезентирующийся в языке. Т.И. Вендина пишет: «в семантической сгруктуре слова содержится богатейшая информация о системе ценностей того или иного народа, начиная с витальных и кончая общественно-социальными и культурологическими» [Вендина 1998: 6].
Изучение «языковой картины мира» (ЯКМ) имеет достаточно давнюю историю. Начиная с идей В. Гумбольдта о том, что понять сущность языка можно, лишь рассматривая его как выражение народного духа, по которому познаеіся характер народа, его духовные особенности, наметилась тенденция к переходу от «чистой» лингвистики, ориентированной на изучение языка окружении языка, к лингвистике антропологической, изучающей язык в тесной связи с человеком, его мышлением, сознанием, деятельностью.
В настоящее время возрос интерес к изучению ЯКМ, которая изучается с самых разных сюрон. Выбирая лексический пласт в качестве объект исследования, мы опираемся на работы, в которых лексика представлена как отражение жизненного опыта народа. Так, А.Д. Шмелёв в работе [Шмелев 2002: 12] пишет, что представления о мире отражаю!ся в семантике языковых единиц, которые определяют особенности культуры, пользующейся этим языком. Так как мы анализируем язык определенной части населения, то следует ограничиться крестьянским бытом, сознанием. Диалектная картина мира существенно отличается от ЯКМ, основанной на данных русского языка, взятых как целое [Шмелев 2002: 15].
Каждый этнос воспринимает действительность априорно, но по-разному, отношение к ЯКМ складывается тоже из очень многих факторов. Мы рассматриваем лишь то отношение, которое выражается в языковой оболочке. Через призму этого отношения каждая лексема становится аксиолоіичной. Кулыура сама расставляет грань между плюсами и минусами, всё зависит от конкретных обстоятельств. Поэтому мы обращаемся к лексике, которая выбирает во внутренней форме мошвационный признак. Мы утверждаем, что по лексике можно судить о всей иерархии ценностей для конкретной культуры. Это проявляется прежде всего в деривационных и фонетических связях. Почему выбирается тот или иной признак, может ответить только языковая культура. Чем чаще этот признак повторяется, чем больше шансов, что он станет в основе номинирования. Поэтому можно говорить по лексике о создании ЯКМ.
Обращение к словообразовательному аспекту продиктовано большими возможностями, открывающимися исследователю. Именно словообразование «позволяет понять, какие элементы внеязыковои действительности и как словообразовательно маркируются, почему они удерживаются сознанием, ибо уже выбор того или иного явления действительности в качестве обьекіа словообразовательной детерминации свидетельствует о его значимое і и для носителей языка» [Вендина 1998: 9]. Подвергаются оценке лишь те качества предметов и явлений окружающего мира, которые представляют жизненную или социальную ценность для человека. Словообразование помогает понять, каковы эти ценности, что в языковом сознании народа представляєіся наиболее значимым.
Представления о метеорологических явлениях весенне-летнего цикла
Все метеорологические явления условно можно разделить на три группы по приуроченности к тому или иному времени года. Две группы включают весенне-летние (дождь, гроза, град) и зимние (снег, мороз) метеорологические явления, а третья содержит внесезонные явления (ветер, облака). Разделяя таким образом метеоявления на группы, человек базировался на объективной реальности. Так, сельскохозяйс і венная направленное!ь всех метеорологических воззрений объясняет обилие маїериала, связанного с весенне-летним циклом, и скудность его зимнего цикла. Мотив засыпания, замирания жизни зимой не мог не отразиться и на представлениях о метеорологических явлениях. Условность заключается в гом, что весенне-летний и зимний периоды не совсем совпадают с календарным делением. Так, весенне-летний цикл начинается не 1 марта, а с таянием снега, а завершается не 1 сентября, а практически с Ильина дня, когда начинается поворот на зимнее время. Следует отметить, что положительная или отрицательная оценка напрямую зависит от того, насколько явление соотвествует норме или отступает от неё. Так, дождь или гром зимой оцениваются отрицательно {как явные отступления от нормы): Так, под Рож[д а]ство бываить холод, а вот п[о]нешний год и под Рож[д ajemeo до[жж]ик был, и под Крещение дождик был, а что сделаишь, как Бог пошлёт. Зимой плохо до[жж]ж, конечно, вот (Увар.-11 а).
В народной метеорологии выделяются общие черты, которые применимы ко всем составляющим эту систему явлениям. Все метеорологические явления наделяются в народной среде сакральным (божественным) происхождением. Бог поощряет крестьян ниспосланием осадков (дождь, снег) или наказывает за какие-либо грехи (косвенно -отсутствием дождя, буквально - поражением грозой, ураганом, смерчем). Как правило, поражение человека, животного или построек метеорологическими явлениями следует за нарушение определенных запретов - запретов на любые работы в праздничный день: Особенно вот грозный праздник ш[а]стого, [Йа]гория. У меня дочь как раз вот в три часа этого года родила[с а]. Он такой тяжелый, такой грозный. Ну в праздники работаю[т ] - это у нас один на лошади [ч ой]-то работал и убило громом. Да Бог наказал, да (Расск.-5а); Были случаи, работал у нас один, ну он не старый слишком был, но он как вроде не верил. Затеялся он на Казанскую, вот сушили корм, и пересушили, и складать в стог, да, скчадать. Ну сложили всё они, завершили, намучались, как следует, а тут зашла туча. Зашла туча, и такой ветер сильный пошёл, и весь у них стог раз[м а]тало. И весь водой смочило (Сосн.-6а).
Метеорологические явления часто служат своеобразным инструментом Бога для образования святых источников. Чрезвычайно многочисленны поверья о чудесном возникновении святых источников в результате удара грома, порыва ураганного ветра: Где ветло - был ураган страшный, и это ветло свалило. И под этим самым ветлом оказался этот самый... Это ветло, когда стащили его, и всё, всё там подделали, так образовался источник (Петр.-З). Образованные подобные образом источники получают особые номинации - это может быть гидроним {Громовой колодец: Ещё маленькие были, и громом пробило. Поэтому его назвали Громовой колодец. Громом прямо, гром вот гремить, и прямо удар попал в эту яму, и вот его вырыли, колодец сделали (Морд.-1)) или общее название (приявлешше родники: Ну вот тогда гроза, и гром вдарил, и вот прям сразу как растворилась земля и оттуда ключ. Это я вот ходила, знаете, куда, вот деревня, да[л а]ко-да[л а]ко, пешей туда ходила. Там такой был приявленный колодец (Пич.-За)).
Система представлений о метеорологии является частью духовной культуры, а потому тесно связана с другими её пластами: народным календарем, семейными обрядами (погребально-поминальным, свадебным), демонологией, народной медициной и др. Невозможно полно рассмотреть представления о метеорологии, не касаясь соседних тем. Поэтому в настоящей работе материал, лишь косвенно связанный с темой нашего изучения, предлагается в качестве дополнительного и представлен в пос граничных сносках. Постраничные сноски содержат также материал, не относящийся к исследуемой территории и приводимый лишь для сравнения с напиши данными.
Тематические группы
В данной тематической группе наиболее продуктивен корень дожд-. Эю проявляется прежде всего в образовании номинаций самого атмосферного явления. Наряду с литературным дождь: И вот мы на этот бугор, вот тут у нас бугор, и выходили, молитвы читали, пели, и идём отт[э]да, дождь льёт - [х]то знае[т ] какой (Расск-ба), широко распространены фонетические варианты дож: Потом попы ходю[т ]% и служим, служба, вот когда до[оісж]а пет, и Богу молимся, и всё (Перв.-З), дош\Да зт в церкве молебены служуть, [ш]об пошёл до[ш] (Никиф.-1), дощ: Тоже говорит, ну до[щ] находит - ой, град будет вроде (Петр.-1). Фонетический вариант дож зафиксирован также в Орловской области [СОГ А-В: 63].
Производные же от литературного дождик; Да вообще громом если кого убьё[т ], должен дождик идти сорок дней (Никиф.-12), такие, как дожжик: Ну, пройдё[т ] до[жж]ик - и хорошо всем (Петр.-13); дожжок: Да, обливались, и до[жж]ок шёл, да (Петр.-З); дождёк: Дож[д о]к дорожку брыжлсет, чтоб он назад не вернулся (Увар.-4) отличаются прежде всего тем, что могут обозначать, как «небольшой дождь», так и «общее название дождя». В том же значении выступают и лексемы дождичек: Дождичек так заморосил, и так низко вот оттеда сверкнула молния, и громушко, и всё (Пеір.-2); дожжичек: У вас до[жж]ичек пошёл, совсем чтоб до[жж]ик был (Никиф.-11); дожжачок: Так назовёшь, Илья Пророк, батюшка, Господи, дай же нам до[э/сжа]чку-то пожалуйста, [щас] нуэ!с[о]н дождь, прямо нуж[о]н (Петр.-б); дожжочек: Да со с [л а]зами, может, Бог даст с небес до[жжо]чку, мож пойдё[т ], да (Петр.-11); дождичек: А вот будет, это ещё раньше, нет, всё опять иду[т ] дожди, всё скажу[т ], радуга как
правит дождём, если дожди, радуга пройдёт, после этого не будет дождей, радуга забрала, ну вот, и тут дождик, опять дождичек пошёл (Самп.-5а). Однако следует оімегиіь, что данные слова приобретают стилистическую окраску, так как употребляются, в основном, в текстах-просьбах о дожде. Лексемы дожжок, дождёк, дожжочек не являются специфическими для Тамбовской области, так как распространены и в Орловской области [СОГ А-В: 63].
Разновидности дождя, в частности по силе, в основном получаюі номинации, производные от корней ль-/лив- и морос-. Однако и корень дожд-оказывается продуктивным в образовании названий сильного дождя. Нами зафикированы такие номинации, как дожжака (сильный дождь, ливень): Вы [ш]о думаете, бывае[т ] дожжака, прямо там идё[т ] служба и такой dofoicj вольё[т ], [ш]о прямо ливень (Мич.-4а); дождищи (сильные дожди): А дождищи - то прямо день жарк[а]й, а три дня cmoufm J даже какие-то заморозки (Мич.-2а). Употребление суффиксов с увеличительным значением типа -ак-, -ищ-, характерно для лексической системы говоров. Так, в орловских говорах распространено слово дожжевина в значении «сильный дождь» [СОГ А-В: 63]. Разграничение по силе стимулирует возникновение сравнительных оборотов, используемых для характеристики сильного или, наоборої, слабого дождя: как из ушата: Говоря[т ], о, прямой udefm J дождик, как лъё[т ], или ещё говоря[т ], льё[т ] как ушат, как из ушата (Пич.-За); как из ведра: Вот в какие-то, наверно, совпадения года, вот я помню сорок третий год, это время войны, дождь был - страшный, как из ведра (Сосн.-2а); как из ситы: Меленький - как из ситы вот udefm J и udefm J меленьк[а]й (Расск.-16а).