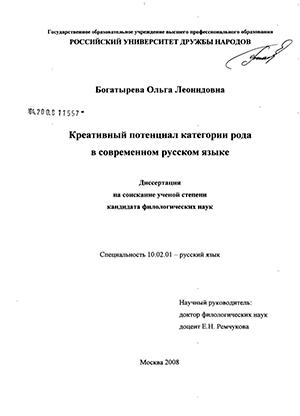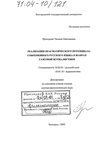Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Категория рода в парадигматическом и синтагматическом аспектах 10
1. К вопросу о происхождении и экстралингвистической мотивации категории рода )
1.1. Лингвистическая сущность рода 11
1.2. Теории происхождения грамматического рода 15
1.3. Типология родовых классификаций 28
2. Проблема грамматичности рода 35
3. Лингвистический статус категории рода 43
3.1. Структурно-понятийное содержание категории рода 43
4. Категория рода во взаимодействии парадигматики и синтагматики:
тенденция к расширению общего рода 51
Глава 2. Экспрессивные ресурсы грамматической категории рода в русском языке 68
1. Актуализация грамматических компонентов высказывания 68
1.1. Семантическая и функционально-стилистическая значимость грамматических единиц 68
1.2. Свойство интенциональности в грамматике 69
1.3. Понятие актуализации и его границы 73
1.4. Проблема соотношения стилистики и грамматики 80
1.5. Эстетический потенциал рода и русская лингвистическая традиция 83
2. Прием олицетворения как средство поэтической экспрессии 86
2.1. Механизмы создания тропов 86
2.2. Поэтическое олицетворение и его жанровые реализации 88
2.3. Грамматическое олицетворение 102
3. Связь тропа олицетворения и категории одушевленности неодушевленности 109
3.1. Колебание значений «одушевленность / неодушевленность» в позиции тропа олицетворения 109
3.2. Характер оппозиции "одушевленность / неодушевленность" 112
3.3. Имена среднего рода в аспекте тропа олицетворения 118
Глава 3. Креативные аспекты категории рода в разных типах русской речи 125
1. Категория рода и креативная функция языка 125
1.1. Механизм креативной функции языка 125
1.2. Специфика грамматической метафоры 129
2. Грамматическое значение рода в аспекте морфологической транспозиции 134
3. Категория рода как объект языковой рефлексии 140
4. Категория рода в аспекте языковой игры 150
4.1. Определение понятия 152
4.2. Механизмы и свойства языковой игры 154
Заключение 172
Библиография
- Теории происхождения грамматического рода
- Свойство интенциональности в грамматике
- Колебание значений «одушевленность / неодушевленность» в позиции тропа олицетворения
- Грамматическое значение рода в аспекте морфологической транспозиции
Введение к работе
Выбор темы диссертационного исследования обусловлен тем, что анализ грамматических категорий в аспекте современных языковых процессов с привлечением фактов живой речи является одной из важных задач русистики Ее решение предполагает изучение грамматических явлений не только в статике, но и в динамике - в разных типах современной речи (художественно-публицистической, поэтической, газетно-публицистической, разговорной)
Актуальность исследования определяется тем, что описание категории рода проводится в нем с позиций креативной грамматики (являющейся частью лингвистики креатива, или креативной лингвистики), задача которой, в частности, состоит в описании креативного потенциала грамматических категорий1
Объект диссертационного исследования - классифицирующая категория рода (одна из наиболее сложных в русском языке), а его предмет -ее креативный потенциал.
Такое исследование предполагает комплексное описание способов актуализации грамматического значения рода, опирающееся на факты разных типов речи Подобное описание проводится в русистике впервые и фиксирует внимание как на выразительных возможностях, так и на прагматических аспектах данной категории Этим определяется научная новизна настоящей работы
Теоретическая база диссертационной работы. Описание категории рода в данном ключе потребовало привлечения широкого круга исследований, которые затрагивают не только грамматическую проблематику, но и вопросы актуальных языковых процессов, стилистики и культуры речи, проблемы лингвопоэтики, метаязыкового сознания и языковой игры
Методологической основой диссертационного исследования послужили классические труды отечественных лингвистов, в частности, по категории рода -СП Обнорского, А М Пешковского, А А Потебни, А А Шахматова, Л В Щербы, Р О Якобсона, А А Зализняка, И П Мучника и др , специальные работы, посвященные проблеме категории рода (А А Брагина, А Б Копелиович, И Г Милославский), грамматической стилистике — И В Арнольд, И Б Голуб, Е В Красильниковой и др, проблеме описания креативной и поэтической функций языка (БЮ Норман, Л.А Новиков) и лингвокреативного мышления (ТА Гридина) Изучение грамматической категории рода потребовало привлечения работ А В Бондарко по функциональной грамматике, в том числе посвященных рассмотрению свойства интенциональности в грамматике Выявление эстетической и
'См, например РеччуковаЕН Креативный потенциал русской грамматики Монография -М Изд-во РУДН 2005, Программа Международной научной конференции «Язык Система. Личность Лингвистика креатива» - Екатеринбург, 24-26 апреля 2008
\
,0
жанровой специфики способов актуализации грамматического значения рода важно не только в аспекте стилистического потенциала грамматики, но и при решении целого ряда теоретических проблем проблемы тропа олицетворения и его границ (Я И Гин, И А Ионова), проблемы грамматической метафоры (Е И Шендельс), морфологической транспозиции (М Г Меркулова, Е Н Ремчукова), грамматической рефлексии (ИТ Вепрева, ЕН Ремчукова) Описание креативного потенциала категории рода, предполагающее анализ его выразительных возможностей в аспекте окказиональности и языковой игры, проводилось с опорой на работы Е А Земской, Т А Гридиной, Л В Зубовой, В 3 Санникова, Б Ю. Нормана и др
Цель диссертационного исследования состоит в описании креативного потенциала категории рода, что предполагает рассмотрение определенных способов актуализации данного лексико-грамматического значения в речи и обусловливает решение следующих конкретных задач-
рассмотреть лингвистический статус категории рода и степень ее грамматичности;
выявить зоны конфликта между синтагматикой и парадигматикой рода в аспекте креативной функции языка,
определить понятие актуализации, ее способы и границы,
4 представить потенциал категории рода как обусловленный его
системно-типологическими и экспрессивно-стилистическими особенностями,
5. продемонстрировать творческую реализацию и жанровые воплощения рода
в активных процессах образования родовых коррелятов,
в таких способах речевой актуализации лексико-грамматического значения рода, как метафоризация, грамматическая рефлексия (при тропе олицетворения и за его пределами),
в языковой игре
Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в развитие грамматики, грамматической стилистики и креативной лингвистики, так как в нем представлены новые, теоретически обоснованные положения о способах функционирования, выразительных возможностях категории рода и современных тенденциях в рамках этой категории Комплексное описание рода как явления морфологии, лексики и синтаксиса в аспекте его экспрессивных и прагматических возможностей, реализованных в разных типах речи, представляется перспективным, так как позволяет выявить определенные тенденции в динамике современных языковых процессов
Практическое применение результаты диссертационной работы и представленный в ней языковой материал могут найти при подготовке университетских лекционных курсов по морфологии, словообразованию и функциональной грамматике современного русского языка, а также в спецкурсах по грамматической стилистике и лингвистике креатива Языковой материал исследования может быть включен в лингводидактические и лингвометодические пособия, в частности, по практике преподавания русского языка как иностранного
Наряду с общенаучными методами (сравнение, обобщение, наблюдение, комментирование и др), общелингвистические и специальные методы диссертационного исследования включают структурно-семантические и функционально-грамматические подходы, важнейшими среди которых являются метод семантической и прагматической интерпретации, включая аналогию, методы структурно-семантического варьирования и семантического моделирования
Материалом исследования послужили тексты художественной и художественно-публицистической прозы преимущественно конца XX - начала XXI веков, поэтические тексты, независимо от принадлежности их авторов к различным направлениям и временным эпохам, тексты разговорной речи и СМИ (как в письменной, так и в устной форме)
В ходе исследования использовались следующие грамматические словари «Словарь-справочник по русскому языку Правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слова» А Н Тихонова, «Словарь грамматических трудностей русского языка» Т Ф Ефремовой и В Г Костомарова и др В качестве основного толкового словаря был использован «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С А Кузнецова - современный словарь, в котором критерием включения слова является его фактическое использование не только в текстах художественной литературы, но и в научно-популярных изданиях, публицистике, в устной речи В целях сопоставления лексикографических данных использовались и другие толковые словари (например, «Толковый словарь русского языка» СИ Ожегова и НЮ Шведовой), а для исторического лексикографического комментария -«Толковый словарь живого великорусского языка» В И Даля
На защиту выносятся следующие положения:
Креативный потенциал категории рода обусловлен ее сложным и противоречивым, лексико-грамматическим, характером, определяющим особенности ее функционирования, связи собственно морфологических значений с лексическими, словообразовательными и синтаксическими значениями, именно вследствие этого актуализация значения рода в рамках метафоры, языковой игры и в рефлексивном контексте обнаруживает высокую степень востребованности в речи
Этот потенциал оказывается реализованным в той совокупности типов русской речи, для которых характерно творческое использование языковых средств - художественной, публицистической, разговорной
Отчетливо выраженная тенденция категории рода к коррелятивности проявляется на лексико-грамматическом уровне Эта тенденция обусловливает создание отсутствующих в норме существительных-коррелятов - потенциальных и окказиональных слов
Исследование категории рода в таком аспекте свидетельствует об усилении роли прагматических и стилистических факторов, существенно влияющих на функционирование этой категории в современной речи,
выявляет тенденцию к расширению зоны общего рода и к определенной свободе выбора родовой принадлежности слова
5 В современном русском языке категория рода обнаруживает разнообразие форм и функций, что обусловлено влиянием семантических и экстралингвистических факторов Факты современной речи позволяют говорить о том, что род развивается как интенциональная категория, связанная с отражением важнейшей сферы - сферы тендерных отношений
Структура работы. Диссертация включает Введение, три главы, Заключение и Список использованной литературы Во Введении дается обоснование выбора темы исследования, формулируются задачи и цели работы В первой главе «Категория рода в парадигматическом и синтагматическом аспектах» рассмотрены основные гипотезы происхождения категории рода, определен ее лингвистический статус, выявлены формально-грамматические и предметно-смысловые функции рода Во второй главе «Экспрессивные ресурсы грамматической категории рода в русском языке» определяются границы понятия актуализации и ее способы, выявляются экспрессивно-стилистические ресурсы рода в отношении к свойству интенциональности, исследуются способы актуализации грамматического значения рода в позиции олицетворения на материале газетно-публицистических, поэтических, художественно-публицистических и разговорных текстов, устанавливается связь тропа олицетворения и категории одушевленности-неодушевленности В третьей главе «Креативные аспекты категории рода в разных типах русской речи» рассматривается механизм использования креативной функции рода в рамках морфологической транспозиции, грамматической рефлексии и языковой игры В Заключении представлены основные выводы исследования
Апробация работы. Работа была обсуждена на заседании кафедры общего и русского языкознания Российского университета дружбы народов По теме диссертации опубликовано 4 научные работы
Теории происхождения грамматического рода
Наиболее спорным и постоянно дискутируемым остается вопрос, связанный с определением понятия грамматического рода. Традиционной остается точка зрения, согласно которой «род является выражением половых различий при помощи грамматических форм» [Sweet 1891: 52]. На связь между родом и естественным полом неоднократно указывал О. Есперсен: «В природе мы различаем пол, мужской и женский; неодушевленные предметы бесполы. В грамматике мы говорим о родах» [Jespersen 1954: 188]. Свою теорию «экстралингвистических», или «понятийных категорий» О. Есперсен демонстрирует на примере взаимоотношений понятийной категории «пол» и грамматической категории «род» [Есперсен 1958: 55-57]. Экстралингвистическую мотивацию грамматического рода признавали и многие отечественные исследователи: «Рядом с грамматическими представлениями о роде в нас живет и сознание реальных родовых представлений, зависимых от наших представлений о естественном поле живых существ» [Виноградов 2001: 61]; «эти реальные представления влияют на грамматические представления, подчиняя их себе» [Шахматов 2006: 30].
В отдельных случаях подчеркивается тесная связь грамматического рода с категорией одушевленности-неодушевленности. А. Мейе выдвинул гипотезу о происхождении индоевропейского рода в результате «расщепления одушевленного рода» [Мейе 1938: .205-207]. Согласно концепции А. Мейе, в праиндоевропейском языке существовало противопоставление одушевленного мужского и женского рода неодушевленному среднему роду (в истории некоторых индоевропейских языков сохранились отдельные черты такого противопоставления: например, в латинском языке женские флексии слов mater (мать), fagus (бук) идентичны мужским флексиям в словах pater (отец), lupus (волк). Первоначально мужской и женский род существительных распознавался только при согласовании по форме их детерминативов (определителей). (Типологически близкая ситуация наблюдается в английском языке, где субстантивы не имеют морфологических признаков рода и распознаются лишь по местоименной соотнесенности.) Позднее с развитием мужского и женского склонений категория одушевленности распадается на два родовых класса — мужской и женский; средний род по-прежнему сохраняет за собой статус «неодушевленного» рода. Таким образом, в общеиндоевропейском языке оппозиция "одушевленный / неодушевленный" представляется определяющей (первичной), в то время как оппозиция "мужской / женский" выступает в качестве дополнительной (зависимой) относительно первой. По мере развития индоевропейского языка ситуация меняется: противопоставление "одушевленный / неодушевленный" исчезает, и оппозиция "мужской / женский / средний" становится доминирующей.
Часто категория рода рассматривается как совокупность формальных (условных) классов существительных, используемых для синтаксической связи слов в предложении средствами согласования [Блумфилд 1968: 204; Fodor 1959: 1-2; Ельмслев 1972: 133; Милославский 1981]. Для главного слова — существительного - род является классификационной категорией, относящей слово к тому или иному согласовательному классу. Здесь семантика естественного рода, связанного с обозначением «мужской» или «женской» принадлежности, не является обязательным компонентом грамматического значения рода.
С функциональной точки зрения, всегда направленной на то, чтобы определить средства языка, которые обеспечивают взаимопонимание говорящих, род представляется лингвистически бесполезным и создает лишь дополнительные трудности согласования: «Грамматический род является одной из наименее логичных и самых неожиданных грамматических категорий» [Мейе 1921]. «Первое общее соображение, которое следует высказать, состоит в том, что признание рода как грамматической категории логически не зависит от какой-либо конкретной семантической ассоциации, которую можно усмотреть между родом существительного и физическими или другими свойствами людей или предметов, обозначаемых этими существительными. .. . С семантической точки зрения родовые разграничения в существительном обычно избыточны» [Лайонз 1978: 300-301, 304]. В этой перспективе категория рода отчасти оправдывает себя тем, что удовлетворяет некоторую потребность коммуникации (речь идет о местоимениях третьего лица и суффиксах, разделяющих лица на мужские и женские).
Функциональность грамматического рода представляет один из аспектов теории маркированности, предложенной P.O. Якобсоном (первоначально данная теория была разработана применительно к фонологии) [Якобсон 1985 б]. Теория маркированности сводится к тому, что система родовых противопоставлений имен существительных может быть представлена как бинарная оппозиция "женский род / неженский род", или как противопоставление "маркированный род / немаркированный род". Маркированный характер первого члена оппозиции объясняется тем, что существительные женского рода не могут обозначать лиц мужского пола. Субстантивы неженского («немаркированного») рода делятся на две группы — маркированный средний род, указывающий на отсутствие противопоставления по признаку пола, и дважды немаркированный мужской род, который может обозначать лиц обоего пола {товарищ, врач и т.п.). «Мужской род, - указывает P.O. Якобсон, - это вдвойне немаркированный род. В противоположность среднему роду он не сигнализирует асексуальный характер названного существа, а в противоположность женскому роду он не содержит никакой специфики пола» [цит. по: Мучник 1963: 46].
Свойство интенциональности в грамматике
Род имен существительных тесно связан с реальными различиями по полу. У большинства одушевленных субстантивов значение рода чаще всего совпадает с признаком естественного пола - в этом случае термины «мужской» и «женский» перестают быть только условным обозначением формально-грамматических различий и соответствуют смысловому содержанию имен существительных (супруг — супруга, внук — внучка, учитель — учительница, портной — портниха и т.п.). Однако образование коррелятивных родовых пар возможно далеко не от всех одушевленных субстантивов: так, например, не имеют родовых коррелятов многие названия животных (леопард, коршун, муравей, зебра, куропатка, лягушка и др.). Также невозможно образование активных номинаций женского рода от многих существительных, обозначающих лиц и имеющих: общее родовое значение (человек, друг, враг, товарищ, гений, двойник, потомок, новичок, близнец, борец и т.п.); значение профессии, рода занятий, занимаемой должности, почетного звания (врач, юрист, биохимик, филолог, режиссер, скульптор, политик, министр, президент, декан, профессор, доктор / кандидат наук, гроссмейстер, лауреат, дипломант, мастер / кандидат спорта и т.п.; ср. сложные сокращения применительно к женщинам: зав, зам, профорг, управдом, полпред и т.п.).
Известно, что наименования мужского рода употребляются по отношению к лицам женского пола, особенно в тех случаях, когда необходимо выразить значение социально активного лица. Как указывает В.В. Виноградов, «в категории мужского рода ярче выражена идея лица, чем идея пола... Слова мужского рода, относящиеся к категории лица, прежде всего выражают общее понятие о человеке - его социальную, профессиональную или иную квалификацию — независимо от пола. Формой мужского рода характеризуется имя человека вообще. Поэтому названия лиц в форме мужского рода могут относиться и к женщинам, если нет упора на половую дифференциацию особей. В категории мужского рода очень заметно значение социально активного лица» [Виноградов 2001: 62, 66]. Подобные мысли высказывались и впоследствии: «Наименования мужского рода распространяются на лиц женского пола, когда главным значением в речевой ситуации является значение действующего лица, а род-пол (sexus) не обусловлен характером самой информации» [Брагина 1981: 70]. Такая ситуация в самом языке носит социальный характер, так как связана с овладением женщинами «неженскими» профессиями.
С другой стороны, наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют и о тенденции к достаточно регулярному аффиксальному образованию парного имени женского рода у личных субстантивов {директриса, шефиня, политикесса, торговка, врачиха, хирургша и т.п.), так как «в именах существительных, являющихся именами женщин, идея пола ощущается резче и определеннее» [Виноградов 2001: 62]. Однако большинство подобных номинаций характеризуется как разговорные и просторечные : Еле-еле успокоил шефиню (х/ф «Хочу вашего мужа»); Ну что, пойдем в общагу к нашим психологиням? (телесериал «Бандитский Петербург»); Как твои педагогини поживают? (телесериал «Две судьбы»); премьерша нашего театра (из интервью с актером В. Золотухиным); эта женщина - политикесса (разг. речь).
Действительно, полнофункциональная жизнь большинства существительных женского рода, обозначающих женщину по профессии,
общественно-политической принадлежности и т.п., оказывается либо не состоявшейся, либо недолгой. Образование существительных женского рода, называющих лиц по профессии, общественному положению, политической ориентации, сопровождается или упрощением их семантической структуры (учитель 1. Преподаватель. 2. Человек, являющийся высоким авторитетом в какой-либо области; учительница — женск. к учитель в 1 значении), или приобретением стилистических коннотаций (разг.: директор — директриса, политик — политикесса, торговец — торговка, врач — врачиха, хирург — хирургша, этнограф — этнографиня и т.д.), и даже изменением лексической семантики (биолог — ученый, биологичка — учительница биологии; инженер - специалист, инженерша — жена инженера и т.п.).
Интересный пример с использованием суффикса женскости -ш-находим в языке XIX века в письме П.А. Вяземского А.Я. Булгакову: Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный... Много совершенных красавиц... Хороша была Пушкина-поэтша, но сама по себе, не в кадрилях, по причине, того, что Пушкин задал ей стишок свой, который, с помощью Божией, не пропадет для потомства... (так шутливо П. Вяземский сообщает о ее беременности). Поэтша здесь, очевидно, - остроумное «словцо» (П.А. Вяземский был известен как мастер подобных слов, о чем свидетельствуют и его «Записные книжки»). Существительное поэтша, образованное по продуктивной модели, является неологизмом, который позволяет не только актуализировать значение «жена лица», но и выразить отношение автора к интересному положению Н. Гончаровой-Пушкиной.
Со временем некоторые существительные со значением лица женского пола переходят в разряд профессионализмов (прыгунья, пловчиха, конькобежка и т.п.). Показателен в этом отношении следующий контекст, в котором подобное образование становится объектом метаязыковой рефлексии: Жена Ваша, она тоже геологом работает? — Да, — улыбнулся
Александров, — настоящая геологиня! — Как Вы это сказали, геологиня? — переспросил Фомин. — Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее. —Почему правильнее? —Да потому, что в царское время у женщин не было профессий, и все специальности и профессии назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам доставались уменьшительные, я считаю, полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми переоіситками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько оке, сколько мужчин, а получается языковая бессмыслица: «агроном пошла в поле», «врач сделала операцию», или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли (И. Ефремов. Юрта Ворона). Семантическое упрощение и эмоциональная окрашенность сдерживают широкое и «непредвзятое» употребление подобных единиц в узусе. С точки зрения нормы альтернативой является аналитический способ выражения женскости {женщина-врач, женщина-филолог и т.п.), который в данном примере оценивается негативно9.
Подобные образования имеют ярко выраженную экспрессивно-прагматическую окраску и употребляются, как правило, в ироническом контексте; однако легкая ирония в некоторых случаях может сочетаться с высокой оценкой качества: (муж гордо) Жена у меня фотографиня (х/ф «Ретро втроем»). Это делает возможным их сочетаемость с прилагательными, имеющими оценочное значение: А мама у меня — отличная хирургесса (из частной беседы); талантливая кинокритикесса (журнал «МК-бульвар», 2004, №7).
Колебание значений «одушевленность / неодушевленность» в позиции тропа олицетворения
Широко распространено употребление приложения-персонификатора при олицетворяемом субстантиве: Мороз-воевода (Н. Некрасов); старушка Москва, девочки-березы (К. Паустовский); молчаливый старик-курган (А. Чехов); изба-старуха, сволочь-вьюга (С. Есенин); рыбарь-день, ветер-сторож:, изба-молодка, город-дьявол (Н. Клюев); рожь-боярыня, полководец-лен, княжна-пшеница (С. Клычков); убийца-победа (В. Маяковский); утопленница-речь, воздух-слуга (О. Мандельштам); жена-соха, судьба-озорница (А. Ширяевец). Также: в нас ум — космополит, но сердце — домосед (П. Вяземский); ...луна — онемевший оратор (Н. Асеев); Мысли - птицы ручные... (М. Кузмин); Ивы — кроткие монашки... (С. Есенин); Ивы - провидицы мои! Березы — девственницы! (М. Цветаева); ...И песня с бурей вечно сестры; Ветер, гость осенний, все мечты унес (В. Брюсов); Запретить совсем бы ночи-негодяйке / Выпускать из пасти столько звездных жал (В. Маяковский).
Названный прием олицетворения иногда получает графическое завершение: персонифицированные имена пишутся как собственные — с прописной буквы: Чародейкою Зимою / Околдован лес стоит... (Ф. Тютчев); Я вижу, как пирожница-Зима /Муку и сахар на дороги сыплет... ... Вприпрыжку, брызгая водой из луж:, / Уже спешит к нам девушка-Весна (Э. Багрицкий). См. также в публицистическом тексте: Веками завистливые соседи упрекали Россию в том, что в нее крайне неудобно вторгаться — Генерал Мороз мешает завоевать никчемных людишек с их никому не нужной территорией (Огонек, 2007, №20).
Также возможно дистантное употребление приложения и олицетворяемого существительного: Солнце реже смеется, /Нет в цветах благовонья. / Скоро Осень проснется, /Изаплачет спросонья (К. Бальмонт); Ах, и весна, воспетая не мной / В румянах тусклых дряхлая кокетка!.. (В. Ходасевич); ...Ив темной зелени фрегат или акрополь / Сияет издали, воде и небу брат (О. Мандельштам); Память, круглосуточная ополоумевшая телефонистка, подключает случайные голоса (А. Вознесенский).
Особый интерес вызывают случаи употребления приложения-персонификатора в текстах современных авторов: теща-тревога (С. Мочешников); инфляция-Яга (Дм. Быков); осень-цыганка, осень-сестра, сестра-заря, царица-ночь, март-артист, страх-иноверец (А. Белова); Актриса-весна после тяжкой болезни / снова на сцене... (Ю. Шевчук); Сестра моя — краткость (В. Вишневский); ...Суета — всем земная царица (А. Белова).
Развернутое олицетворение с приложением-персонификатором способствует созданию более емких образов: Вылетит птица — моя тоска, / Сядет на ветку и станет петь (А. Ахматова); За темной прядью перелесиц, /В неколебимой синеве, /Ягненочек кудрявый — месяц /Гуляет в голубой траве (С. Есенин); Сестры — тяжесть и нежность, / одинаковы ваши приметы, У реки Оки вывернуто веко, / Оттого-то и на Москве ветерок. / У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, / Оттого-то на Яузе утро плывет (О. Мандельштам).
Иногда встречаются и родо-половые несоответствия олицетворяемых существительных: Разлука — всех времен палач (А. Белова); Мой отчим — музыка, - жесткий и справедливый, воспитал меня, поставил на ноги и отошел в сторону... (Д. Рубина. Уроки музыки), которые в работе рассматриваются нами в разделе «Грамматическое значение рода в аспекте морфологической транспозиции».
Прием олицетворения, в частности, грамматического олицетворения (см. ниже), является важнейшей чертой идиостиля Ф. Кривина: Добро и зло боролись за свободу. Локоть к локтю, плечо к плечу. Отвоевали свободу, но это оказалась не свобода, а что-то другое, совершенно на нее не похожее. Добро, конечно, тут Dice репрессировали. А за ним потащили и его родственников - доброту, добропорядочность и далее самую маленькую, еще несовершеннолетнюю, добродетель («Притча о борьбе за свободу»).
Приложение-персонификатор широко востребован и в разных жанрах газетной публицистики: - в интервью: Долгое время я совмещал работу с увлечением — театром. Шутил тогда так: «У меня жена — геология, а любовница — сцена» (актер А. Белявский; журнал «Семь дней», 2004, №13); известный артист эстрады Ян Арлазоров так представляет свое генеалогическое дерево: отец — Адам, мать — Ева, брат — Азарт, сестра — Лень, жена — Эстрада, первая дочь — Пародия, вторая дочь — Шутка, сын - Смех (газета «Антенна», 2006, №41); (из интервью с актером Е. Дятловым) Гитары — это мои любимые женщины, и они всегда со мной. ...Получается, что у меня дома вместе с супругой четыре дамы (газета «Антенна», 2007, №7). Такое родо-половое соответствие не является обязательным. Например, по словам отечественной певицы Дианы Арбениной, гитары подразделяются на «мальчиков» и «девочек»: У меня несколько гитар. В этой, например, я вижу мальчика и поэтому очень ее (его) люблю. Также у меня есть гитары-девочки (телепередача «Две звезды», 6 апреля 2008); - в аналитической статье: Старушке ООН — 60. И хотя чувствует она себя не очень хорошо, в гости на юбилейный саммит пожаловало более 170 глав государств (Огонек, 2005, №38); Русские любят свою зиму. Зима — это член семьи, свой человек. Свой, потому что остановил захватчиков — Наполеона, Гитлера (Огонек, 2006, №47); Художественный кинематограф— такой дедушка (или дядюшка?) Эзоп, изъясняющийся с нами исключительно посредством иносказаний (Огонек, 2006, №27); Революция — не только повивальная бабка истории, но и лучшая сваха (Огонек, 2006, №18); - в очерке: Зима показывает себя напоследок... Пугает старушка! (Огонек, 2006, №15); - в фельетоне: Скучно, скучно жить без риска! Закусите удила: наша Русь — авантюристка, и всегда такой была (Огонек, 2007, №14) .
Грамматическое значение рода в аспекте морфологической транспозиции
Родовая гиперкорреляция в области зоонимической лексики. Невозможность создания парных соответствий женского рода у некоторых названий животных, птиц, насекомых, имеющих только одно - видовое -обозначение, побуждает современных авторов «конструировать» недостающие формы. Например: аист — аистиха (А. Вознесенский), глухарь — глухарка (С. Есенин), орел — орлица (П. Комаров), кузнечик — кузнечиха (И. Сельвинский), лебедь — лебедка (А. Прокофьев), лебедица (Т. Щербина), чиж — чижиха (Ю. Ким) и др. Также грамматическое значение женского рода может выражаться окказиональными лексемами, обозначающими мифологические существа: леший — лешачиха (М.Е. Салтыков-Щедрин), кентавр — кентавриха (В.Брюсов) и т.п.
В норме семантически слабое видовое слово при обозначении и самца, и самки не подчеркивает пол животного — в таких случаях род существительного выступает как чисто формальный грамматический признак {соболь, рысь, собака, лягушка, бегемот, жук и т.п.). На это обратил внимание еще древнеримский грамматист М.Т. Варрон (116-27 гг. до н.э.). Наблюдение Варрона касалось отсутствия в латинском языке в некоторых случаях родовых пар: «...говорится corvus, turdus {ворон, дрозд), но не говорится corva, turda; напротив, говорится hathera, merula {пантера, черный дрозд), но не говорится pantherus, meridus... И вообще большое число слов этого рода не соблюдает аналогии» [Античные теории языка и стиля 1936: 95]. Варрон дает пояснение, почему в языке в одних случаях имеются обозначения одновидовых самцов и самок, а в других случаях представлены обозначения лишь тех или других: «На это мы отвечаем, что хотя за всякой речью скрывается природная вещь, однако, если она не доходит до практического применения, то и слова до нее не доходят; таким образом, говорится eguus {жеребец) и egua {кобыла), потому что их различия имеют практическое значение; a corvus и corva — нет, потому что здесь природное различие не имеет практического значения» [там же].
Подобная мысль содержится в следующем высказывании профессора М.Я. Немировского: «Пол как признак, общий всем видам и породам животного мира, не является существенным в наименованиях отдельных видов и пород, а потому в языке не выражается, пока не окажется необходимым подчеркнуть, что речь идет об экземпляре определенного пола — мужского или женского» [цит. по: Виноградов 2001: 65]. Добавим, что осмысленное употребление некоторых родовых пар животных {орел — орлица, павлин — пава и т.п.) требует определенных знаний, однако в большинстве случаев обыденному (не научному) сознанию не доступно различение самца и самки у многих птиц, насекомых и других животных.
Неупорядоченность родовой принадлежности зоонимов способствует их творческому переосмыслению: Паутиной подернута влажной / Махаонша таинственной речи (В. Кальпиди); Кувыркаются зеленопятые какаду и какадушки... (Л. Кропивницкий).
Парные образования зоонимов часто встречаются в современном художественном и публицистическом дискурсе: Мамаша тушей громоздилась на скамье — благородная носорожица, которую наконец подстрелили (Дж. Осборн, пьеса «Оглянись во гневе»); У поэтессы Ларисы Рубалъской появилась пуделиха Мотя (газета «Антенна», 2006, №18); Тараканы размножаются с дикой скоростью. Тараканихе достаточно один раз сходить на свидание — и дальше до конца жизни она будет нести яйца (Огонек, 2006, №8); Новозеландские хищные попугаи кеа... моногамны. Однако бывает, что старый женатый самец начинает ухаэ/сивать за молодой попугаихой и носить ей лучшие куски мяса (Огонек, 2006, №9).
Создание родового коррелята зоонима происходит и в рамках редеривации, результатом чего становится смена типа склонения субстантивов: Рыба гуляла с рыбом, а потом у них появились рыбята (телепередача «Аншлаг»). Ср. в поэтическом тексте: Все кругом да около, что кот с мышом (М. Цветаева); Вот ворвется с тростью Зверя гость!.. Как, ответь, твоя фамилъя, птиц? (В. Соснора). Корреляция по роду может выражаться и синтагматически, причем как переменой мужского рода на женский, так и наоборот: Его по-детски развлекало, I Как леопард питье лакала (М. Крепе); Фамилия Мартышкин / Собаки моего / Родилась понаслышке /От кошки одного... (С. Лён) .
Родовая псевдокорреляция. Родовая псевдокорреляция обусловлена созданием отсутствующих в норме «оппозитов» мужского рода-пола от личных существительных женского рода: кариатид (А. Вознесенский), кухарь (Ф. Кривин), свах (телесериал «Улицы разбитых фонарей»), мегер (телесериал «Моя прекрасная няня»), Снегур (телепрограмма «Пока все дома»). Часто изменение рода такого окказионализма «подтверждается» согласованной формой прилагательного или причастия: Антон был старше меня лет на пять. Он, как строгий нянь, сажал меня перед телевизором (С. Михалков. Караван); А над площадью