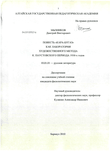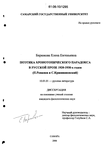Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Сюжет «второго смысла» в жанровой модели «Котлована» 21
1. Сюжет «испытания истины»: повесть «Котлован» и производственная проза 1930-х годов 25
2. Образная система «Котлована» в свете «Всеобщей организационной науки» А. А. Богданова 42
3. Мотивы религиозной утопии Н. Ф. Федорова в «Котловане» 52
Глава 2. Тактика жанрового синтеза в повести-хронике «Впрок» 69
1. Сюжет «испытания правды» в повести-хронике «Впрок» 73
2. «Кулацкая утопия» А. В. Чаянова и «кулацкая хроника» А. П. Платонова 93
Глава 3. Повесть «Ювенильное море» как квазиутопия 104
1. Сюжет «испытания надежды» в повести «Ювенильное море» 107
2. Утопия «бегства» и утопия «реконструкции» 124
3. Повести «Хлеб и чтение» и «Ювенильное море» как части «трилогии» 130
Глава 4. Повесть «Джан» в контексте жанровых и духовных исканий А. П. Платонова первой половины 1930-х годов 140
1. Сюжет «испытания веры» в повести «Джан» 144
2. Утопия и миф в повести «Джан» 154
3. Проблема финала 162
Заключение 168
Список использованной литературы 176
- Образная система «Котлована» в свете «Всеобщей организационной науки» А. А. Богданова
- Мотивы религиозной утопии Н. Ф. Федорова в «Котловане»
- «Кулацкая утопия» А. В. Чаянова и «кулацкая хроника» А. П. Платонова
- Утопия «бегства» и утопия «реконструкции»
Введение к работе
Актуальность исследования. В большинстве исследований, посвященных художественному наследию А. Платонова, вопросы жанра оказываются на периферии. В 2005 году вышла первая и единственная монография на данную тему — «Художественная проза А. П. Платонова: жанры и жанровые процессы» С. И. Красовской, где основное внимание сосредоточено на рассказе как «жанровом контрапункте». В прозе А. Платонова конца 1920-х — середины 1930-х годов исключительно важную роль играет жанр повести. Работа посвящена анализу жанровой специфики повестей А. Платонова 1930-х годов: «Котлован», «Впрок», «Хлеб и чтение», «Ювенильное море», «Джан».
Научная новизна работы заключается в том, что это первое комплексное исследование повестей Платонова 1930-х годов, которое включает реконструкцию модели жанра повести и анализ ее генезиса в творчестве писателя.
Цель исследования — раскрыть специфику жанрового мышления А. Платонова на материале повестей 1930-х годов.
Данная цель определила следующие задачи:
-
провести сравнительный анализ жанровых структур повестей «Котлован», «Впрок», «Хлеб и чтение», «Ювенильное море», «Джан»; выявить константы и особенности сюжета, повествования и типа героя в жанровой модели произведений;
-
реконструировать художественно-проективную модель жанра повести в творчестве А. Платонова 1930-х годов в динамике ее развития;
-
проследить механизм жанрового синтеза в повестях 1930-х годов;
-
выявить формы и принцип взаимодействия утопического и антиутопического планов в повестях;
-
на материале повестей 1930-х годов проанализировать особенности поэтики и жанрового мышления А. Платонова в контексте историко-литературного процесса.
Объект диссертационного исследования— повести «Котлован» (1930), «Впрок» (1930), «Хлеб и чтение» (<1931>), «Ювенильное море» (1931— 1932), «Джан» (1934—1935).
В работе были использованы динамическая транскрипция рукописи повести «Котлован» (Платонов А. П. Котлован: текст, материалы творческой истории. СПб., 2000. С. 165—308) и новые фрагменты этого произведения (Архив А.П.Платонова. Кн. 1. М., 2009. С. 245—246), а также первые редакции повестей «Впрок» (Архив А. П. Платонова. Кн. 1. М., 2009. С. 81— 146) и «Хлеб и чтение» («Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000. С. 885—936), дающие более полное представление об авторском замысле и процессе его реализации.
Материалом исследования стал основной корпус произведений писателя, а также его записные книжки, публицистика, литературно-критические статьи, письма.
Предмет исследования — специфика и динамика жанра повести в творчестве А. Платонова 1930-х годов.
Теоретико-методологической базой диссертационного исследования послужили:
труды по теории жанра С. С. Аверинцева, М. М. Бахтина, Н. Л. Лейдермана, Д. С. Лихачева, Н. Д. Тамарченко, Л. В. Чернец и др.;
работы по поэтике жанра повести А. И. Ванюкова, В.М.Головко,
A. И. Кузьмина, Н. Д. Тамарченко, С. А. Тузкова и др.;
— исследования по утопии и утопическому сознанию Б. А. Ланина,
B. А. Чаликовой, Е. Шацкого, В. П. Шестакова и др.
Изучение повестей А. Платонова 1930-х годов велось с опорой на работы
отечественных и зарубежных исследователей его творчества:
О. Ю. Алейникова, Е. А. Антоновой, К. А. Баршта, Т. Богданович,
Д. Л. Борноволокова, С. Г. Бочарова, А. К. Булыгина, В. В. Васильева,
Н. И. Великой, В. Ю. Вьюгина, Г. В. Галасьевой, Л. Ф. Гилимьяновой,
М. Я. Геллера, А. Г. Гущина, X. Гюнтера, Л. Дебюзер, М. А. Дмитровской,
Н. И. Дужиной, А. А. Дырдина, А. Жолковского, С. П. Залыгина,
М. Н. Золотоносова, А. П. Казаркина, Л. В. Карасева, Е. И. Колесниковой,
Н. В. Корниенко, С. И. Красовской, О. А. Кузьменко, О. В. Лазаренко,
Т. Лангерака, О. Г. Ласунского, Ю. И. Левина, Н. М. Малыгиной,
Э. Маркштайн, О. Меерсон, М. Ю. Михеева, Е. Г. Мущенко, Э. Наймана, Т. А. Никоновой, Т. Новиковой, А. И. Павловского, Ю. Г. Пастушенко, Н. Г. Полтавцевой, Е. Н. Проскуриной, Е. Е. Роговой, Е. А. Роженцевой, И. В. Савельзон, В. А. Свительского, Т. Сейфрида, С. Г. Семеновой, В. П. Скобелева, И. А. Спиридоновой, Е. Толстой-Сегал, В. Н. Турбина, Л. П. Фоменко, А. А. Харитонова, Р. Ходела, В. А. Чалмаева, Л. А. Шубина, В. В. Эйдиновой, Е. А. Яблокова и др.
Задачи исследования определили системный подход к тексту, сочетающий
историко-литературный, историко-типологический, сравнительно-
типологический и структурно-аналитический методы анализа.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут найти применение в дальнейшем выстраивании жанровой системы и целостной концепции творчества А. Платонова, а также углубить понимание места и роли повести в жанровых процессах русской литературы первой половины XX века.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов исследования в преподавании курса по истории русской литературы XX века, спецкурсов по творчеству А. Платонова и поэтике жанра.
Апробация результатов исследования проводилась в ходе выступлений на Платоновском международном семинаре (октябрь 1999, ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург); Междисциплинарном семинаре — 3 (апрель 2000, Петрозаводская государственная консерватория, Петрозаводск); IV Международной конференции «Евангельский текст в русской литературе
XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр» (июнь 2003, ПетрГУ, Петрозаводск); Международной научной конференции «Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор — жанр — стиль» (октябрь 2012, БГУ им. А. С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь); XVIII Международной конференции «Пушкинские чтения — 2013: Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст» (июнь 2013, ЛГУ им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург), а также в докладах, сделанных на кафедре русской литературы и журналистики ПетрГУ (2012—2013). По теме диссертации опубликовано десять статей, три из них в изданиях, рекомендованных ВАК. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры русской литературы и журналистики Петрозаводского государственного университета. Основные положения, выносимые на защиту:
-
Повесть стала жанровой доминантой прозы А. Платонова первой половины 1930-х годов. Обращаясь к традиционному для русской классической литературы жанру повести, писатель отходит от идеологических и жанровых установок советской литературы в освещении темы строительства социализма, где жанрами-«пропагандистами» стали производственный роман и очерк с производства.
-
Художественно-проективная модель повести, которая складывается в творчестве А. Платонова в 1930-е годы, органически связана с его творчеством 1920-х годов, хранит внутреннюю память жанра, но имеет и существенные новации. Открытая, нацеленная на полилог с жизнью и опытом культуры жанровая модель повести Платонова позволила ему использовать формальные и содержательные возможности других — как «старых», так и «новых» — жанров литературы и вести диалог-полемику со временем, в том числе на жанровом языке.
-
Инвариантом сюжета во всех повестях от «Котлована» до «Джана» стал сюжет «испытания». В каждом произведении инвариант имеет свою модификацию (вариант): «испытание истины» («Котлован»), «испытание правды» («Впрок»), «испытание надежды» («Ювенильное море», «Хлеб и чтение»), «испытание веры» («Джан»). Сюжет «испытания» в жанровой модели произведений неразрывно связан с философской проблематикой и формирует художественную структуру «второго смысла» .
-
Сюжет «испытания» определяет жанровую концепцию героя. Архетипичным для творчества писателя стал образ героя-странника, «сокровенного человека», ищущего смысл жизни. В каждой из повестей, посвященных строительству социализма, главный персонаж проходит испытание сообразно своей идее жизни. В совокупности они представляют сложную эволюцию платоновского героя в его духовных исканиях — от гносеологической доминанты к этической.
Платонов А. П. Пушкин — наш товарищ // Платонов А. П. Фабрика литературы: литературная критика, публицистика. —М.: Время, 2011. — С. 78.
-
Жанровую стратегию в повестях А. Платонова 1930-х годов можно обозначить как стратегию синтеза. Она обнаруживает себя в механизме реализации идеологических контекстов, в том числе утопических идей, доминирующих в революционной истории. Взаимодействие утопического и антиутопического планов реализуется через соположение в их художественном пространстве разных утопических идей по принципу конъюнкции: дополнения и критики одной утопии другой.
-
Содержательные и формальные возможности жанра повести (аналитизм, изображение важных (судьбоносных) событий в жизни героя, сосредоточенность на взаимоотношениях человека и мира) позволили Платонову иначе, чем было предписано советской литературе, осветить тему строительства социализма, оставаясь верным гуманистическому пафосу и духовным исканиям русской классической литературы.
-
Написанные между двумя романами— «Чевенгур» (1926—1928) и «Счастливая Москва» (1933—1936)— повести А.Платонова 1930-х годов внутри своей жанровой структуры и нового формально-содержательного единства цикла обнаруживают романный вектор.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех глав, подразделяемых на параграфы, Заключения и Списка используемой литературы, включающего 388 наименований. Общий объем работы составляет 212 страниц.
Образная система «Котлована» в свете «Всеобщей организационной науки» А. А. Богданова
В «котлованном» сюжете «испытания истины» представлено несколько типов героев и способов познания истины. Существенную роль в построении образной системы играет диалог А. Платонова с идеями философа-марксиста А. А. Богданова1. Главная идея «Тектологии» («Всеобщей организационной науки») (1910—1917) А. Богданова — изучение любой человеческой деятельности с точки зрения организации. Содержание жизни, по Богданову, составляют «организация внешних сил природы, организация человеческих сил, организация опыта»2, а успех строительства социализма зависит в том числе и от успеха научной организации труда. Богданов писал, что первым шагом на пути к «организационной науке» является «организационная философия»1 — эмпириомонизм (иначе — «единство опыта», «единая точка зрения на мир»2). Главным методом «организационной науки» Богданов считал индукцию, имеющую «три основные формы»: «обобщающе-описательную, статистическую и абстрактно-аналитическую»3. Позже, в статьях 1918 года, объединенных под названием «Социализм науки», А. Богданов продолжит разговор о методах, которыми наука «вырабатывает себе истину» 4 . Он назовет науку «организованным общественно-трудовом опытом»5, который берет свое начало от «элементарно-грубых технических приемов», т. к. «царство познания выросло из царства труда»6. Таким образом, трудовой акт составляет первый уровень научного мышления, он дает «практическое обобщение» действительности 7 . За ним следуют статистический метод «количественного учета и подсчета фактов» и метод «абстрактно-аналитический», переводящий трудовое действие в символический план8. Во «всеобщей организационной науке» все три метода, по мнению А. Богданова, должны быть объединены. Препятствием к этому «монистическому научно-организованному мышлению» Богданов назовет «специализацию и анархическое дробление системы труда»9. «Тектология» (в греческом языке не только строитель, но и художник, мастер, а тектология — это наука о строительстве как о творческом процессе 10 ) призвана, по мнению Богданова, преодолеть разделение людей на организаторов производства и исполнителей, возникшее в дореволюционную эпоху, объединить людей в мировой коллектив, способный подчинить себе природу и преобразовать ее, «организовать» мир.
Богдановская теория «организационной науки» привлекла молодого Платонова, также мечтавшего в начале 1920-х годов о всеобщей гармонии и победе человеческого разума над неорганизованной природой. В статье «Будущий Октябрь» (1920) Платонов писал: «Производство — вот истинное тело коммунистического общества, и организация производства есть организация коммунистического общества»1. Главным препятствием к этой организации молодой Платонов, как и Богданов, считал природу, хранящую «тайну мира», а «где Тайна, там Истина мертва»2. Писатель был уверен, что «преодолеть» природу и обрести истину помогут социалистическая наука, основанная на материализме, и труд: «…материализм есть сужение опыта человеческим сознанием для увеличения вероятности найти истину»3 , «я предлагаю уйти в самые низы труда… истинное восхождение есть опускание. Все ниже и ниже к недрам, к корням труда и человечества»4.
В повести «Эфирный тракт» (1926—1927) идеи платоновской публицистики озвучивает главный герой Михаил Кирпичников: «…догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться… когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины… Понять — это значит прочувствовать, прощупать и преобразить»5. В повести «Котлован» вышеназванные методы «организационной науки» А. Богданова можно «закрепить» за определенным героем или группой героев. Рабочие осуществляют метод трудового акта (первый этап научного мышления, по Богданову, а также процесс «организации внешних сил»). Метафора «рыть котлован = докопаться до истины» в черновых вариантах реализуется в повествовании, затем идиома убирается в подтекст сюжета. «Что-же твоя истина!» — восклицает один из рабочих. — «Ты-же не работаешь, ты не переживаешь вещества существованья, откуда-же ты вспомнишь мысль!» 1 (ДТ, 187). Строителям «общепролетарского дома» важна не конечная цель, заявленная в планах треста, а сам процесс работы. Находясь на пограничной стадии «не-сотворения», котлован обретает ритуальное значение для своих создателей. В. Н. Топоров так определил функцию ритуала: «…деяние, действие, дело по преимуществу то дело, которое противостоит и слову и мысли, одновременно образуя с ними триаду мысль — слово — дело, имеющую непосредственное отношение к проблеме “первовещи”» (выделено Топоровым. — М. З.) 2 . На котловане, являющемся моделью социалистического мира, оживает мифологическое сознание, не различающее мысль и действие и понимающее истину как нечто материальное. В начале века были распространены теории о появлении человеческого языка из трудовых выкриков (например, А. Богданов особо ценил «Происхождение языка» Л. Нуаре, развивавшего эту идею3). Рабочие на котловане также стремятся к истине через действие. В плане поэтики это обусловило платоновский прием «деметафоризации» (термин С. Г. Бочарова4), когда образ дается и воспринимается не как условное, а как прямое изображение. Истина для строителей — вещь в том смысле, в котором о ней писал Платонов в статье «Пролетарская поэзия» (1923): «Истины теперь хотят огромные массы человечества. Истины хочет все мое тело. А чего хочет тело, то не может быть нематериальным, духовным, отвлеченным. Истина — реальная вещь»5.
Мотивы религиозной утопии Н. Ф. Федорова в «Котловане»
Федоровская тема в произведениях Платонова заявлена, по мнению исследователей, уже на уровне архетипичных для творчества писателя образа героя-странника и мотива пути. С. Г. Семенова проводит параллель между главной идеей Федорова, «зовом дали» у героев Платонова и древними мифами о поисках «страны умерших» с целью их вызволения оттуда, в которых проявляется «архаичный пласт психики человечества» 1 . Исследователь перечисляет целый ряд мотивов и тем в произведениях Платонова, где очевидна связь с идеей воскрешения Н. Федорова: мотив умирания и смерти, лейтмотив сиротства, тема гроба и раскопанной могилы2. Критическое отношение Платонова к своим ранним «увлечениям», как было отмечено Л. А. Шубиным3, позволило исследователям предположить, что в «Котловане» писатель пересматривает свое отношение к «Философии общего дела» и что в 1930-е годы оно «явно насыщено скепсисом» 4 . М. Золотоносов считает, что главная тема романа «Чевенгур» и повести «Котлован» — изображение процесса подмены народного сознания сознанием теоретическим, утопическим. Причину этой подмены исследователь видит в философии Федорова, где миф о воскресении Христа «приобрел сциентистский характер»5.
Утопизм философии Федорова и крайняя «проективность» его идей стали причиной частого сопоставления его учения с социалистическими проектами. Так, например, Н. А. Сетницкий, экономист и философ, современник Платонова, в книге «О конечном идеале» (1932) писал, что во многих технических планах советского правительства чувствуется «несомненное влияние» идей Федорова, хотя его имя, «имеющее сильную религиозную окраску, никогда не упоминается»1. Наоборот, от опасности истолковывать учение Федорова в духе материалистической науки начала ХХ века и собственно коммунистического учения предостерегал С. Булгаков2. Сам Федоров утверждал, что «марксистскому материализму, основанному на стяжании», он противопоставляет «психократию» («творение душ»), и указывал на нравственный характер своего учения3 . Однако Федоров так и остался где-то между ортодоксальным православием и «ортодоксальным» социализмом и не был понят и принят ни тем, ни другим.
Согласимся с А. Балакиревым, что сходство коммунистической утопии и утопии Федорова «обусловлено общностью происхождения в рамках русской религиозной традиции» 4 , но развивались они в противоположных направлениях. Федоров был движим мечтой о всеобщем братстве, об истинном православном царстве на земле, в то время как русские коммунисты с особой яростью отвергали Церковь и веру в Бога. А. Балакирев считает одним из источников коммунистической утопии не столько идеи Федорова, сколько сектанство, издавна процветавшее в России, а особенно на рубеже XIX—XX веков, хотя и признает, что «мысль Федорова серьезно обогатила активно апокалиптический коммунизм»5. В этом контексте взаимодействие идей Федорова и Платонова приобретает иной характер, чем просто критика Платоновым «религии воскрешения». Религиозная утопия Н. Федорова, скрывающаяся за слоем социалистической утопии, выполняет в тексте функцию «лакмусовой бумажки»: писатель «проверяет» социалистическую утопию федоровской. Механизм «взаимодействия» двух утопий можно рассмотреть на примере сравнительного анализа мотивов сиротства, культа земли, смерти и воскрешения. Исследователи (И. Савельзон, А. Кеба) 1 отмечают, что основной единицей сюжетного уровня становится у Платонова не эпизод, а сюжетный мотив. Указанные мотивы, включенные в сюжет «испытания истины», свидетельствуют (как и в случае с построением образной системы) об «изоморфизме поэтики и философии» 2 в повести Платонова, что становится еще одной чертой жанровой стратегии писателя. Н. Федоров признавался, что идея о воскрешении «не только альфа и омега» его учения, но и «все другие буквы алфавита»3 . Он пишет, что история должна стать «проектом» всеобщего воскрешения, силой и волей человека и на земле: «…История есть всегда воскрешение, а не суд, так как предмет истории не живущие, а умершие, и, чтобы судить, нужно прежде воскресить»4. В этом заключается, по мнению Федорова, «супраморализм», то есть долг перед отцами5. Смерть и борьба со смертью — один из постоянных мотивов в творчестве Платонова начиная с ранней публицистики. В философии Н. Федорова писателя мог привлечь активный, проективный момент в решении этой проблемы, оптимизм всего федоровского учения, вера в человека. «О конечной победе» над врагами человека — «природой и смертью», об «обессмертивании» жизни в отличном от христианской традиции ключе Платонов пишет в статьях «О науке», «Ремонт земли», «Да святится имя твое», «Новое Евангелие» и других. Н. Федоров называл природу «врагом временным», а «другом вечным»1. Подобно тому, как голод 1891 года еще больше убедил Федорова в необходимости борьбы с косными силами природы, с самим онтологическим статусом человека как смертного, конечного существа, так засуха и голод 1921 года производят на молодого Платонова такое сильное впечатление, что он, «будучи техником», уже не мог «заниматься созерцательным делом — литературой»2. Платонов пишет статьи об электрификации, искусственном орошении, об использовании солнечной энергии, в которых проговаривает идеи, восходящие или близкие федоровской философии «регуляции»3.
Однако не идея регуляции и даже не идея всеобщего воскрешения главные в философии Федорова; идея родственности — вот на чем держится все его учение4 . В современном мире, по мнению Федорова, распались родственные отношения, сыны не помнят своих отцов, а значит, и Бога-Отца, а потому мир обречен на Страшный суд и гибель. Если Платонова как рабочего-мелиоратора в начале 1920-х годов больше могла привлечь практическая сторона философии Федорова, то на рубеже 1920-х — 1930-х годов, в период сомнений, Платонов очень близок размышлениям Федорова о разрушении единой Семьи, соборного начала в русском человеке. У Платонова идея родственности становится «мерилом» духовности социалистической утопии. В повести «Котлован» он пишет о ложном единении людей: и строители «общепролетарского дома», и крестьяне, которых в колхоз объединяют так, как будто «обобществляют» в «плен» (К, 85), чувствуют свое сиротство. Сиротой называет Вощева Чиклин (ДТ, 194), приводящий на котлован «девочку-сиротку» Настю. Крестьяне оказываются сиротами без своего имущества, а колхозное имущество — «сиротой» без хозяина: «Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея… двор от вечного сиротства» (К, 79), «…стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство» (К, 62). В другом речевом и субъектном контексте «сиротство» имеет и значение «очищения» (классовое — от кулаков) или «отмежевания» (от прошлого). Так, Сафронов мечтает «осиротеть от врагов» (К, 62). Сиротство — это новое качество жизни в обезбоженном мире, где, по словам бывшего попа, человек «остался без бога, а бог без человека» (К, 81).
Пишет Платонов и о разорванных связях человека с природой, об онтологическом, космическом сиротстве человека. В рукописи остался внутренний монолог героя: «Вощев стоял вблизи ночного мира и чувствовал его сиротство… в земле есть… истина, раз она произошла и существует, но нет сознания… а в человеке есть сознание, но в нем нет смысла жизни... Человек с землей и все различные существа живут без… обручения, без обмена… внутренней теплотой своего… влеченья, и страдают… разлукой… уединенного тела. Чтобы объединиться с этим грустным пространством, нужно сначала умереть и лечь в земляную могилу… это было бы совестью. А чтобы жить в своем одиноком теле, нужно… мыслью заменить честность» (ДТ, 184—185). Вощев размышляет о смерти как о возможном способе познать истину (вспомним отца Саши Дванова из романа «Чевенгур», который тоже решил получить истинное знание в смерти). Жизнь для героя Платонова — это страдание в «уединенном теле», в разлуке с землей, из которой человек и был создан («И создал Господь Бог человека из праха земного» — Быт. 2:7).
«Кулацкая утопия» А. В. Чаянова и «кулацкая хроника» А. П. Платонова
А. Платонов не только самобытный писатель, но и инженер-практик. После засухи 1921 года он активно занимается вопросами землепользования, публикует статьи, посвященные проблемам гидрофикации, разрабатывает планы страхования урожаев от засухи (см. статьи «Ремонт земли», «Великая работа», «Ревсовет земли»). С мая 1923 года состоит на службе в Воронежском губземуправлении, заведует работами по электрификации сельского хозяйства. С 1926 года работает заведующим отделом мелиорации Тамбовской губернии. Своим интересом к земле и крестьянской цивилизации
Платонов сближается с А. Чаяновым, который является создателем теории трудового крестьянского хозяйства1. В качестве одного из источников экономической системы Чаянова исследователи называют столыпинскую аграрную реформу по укреплению фермерского (хуторского, отрубного) крестьянского хозяйства 2 . Чаянов, признавая социалистический путь развития России, тем не менее шел в разрез с главной политико-экономической тенденцией, которая оформилась в стране во 2-й половине 1920-х годов: прекращение НЭПа и тотальная коллективизация. Его идеал — сильная и самостоятельная деревня, где не будет командно-административных методов регулирования, быстрого и бездумного собирания крестьян в колхозы, уничтожения кулака. Чаянов вместо «государственного коллективизма» предлагал пойти по пути «кооперативной коллективизации» и делал ставку на личный труд большой крестьянской семьи. Но государственная установка на ускоренную индустриализацию, на реализацию пятилетнего плана в четыре, а то и в три года требовали вложений, которые можно было взять, только эксплуатируя деревню. Чаянов был причислен к «правым уклонистам», один из главных представителей которых, Н. Бухарин, не отрицал возможности сотрудничества государства с кулацкими хозяйствами. В начале 1930-х годов проходит ряд показательных процессов по сфабрикованным делам, в том числе процесс «Трудовой крестьянской партии», вследствие чего Чаянов был арестован. Незадолго до этого, в декабре 1929 года, на конференции аграрников-марксистов Сталин, призывая увеличить темпы коллективизации и «ликвидировать кулака как класс», вспоминает и Чаянова: «…почему антинаучные теории “советских” экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати…»1. За две недели до съезда Чаянов выступит в печати с покаянным письмом, в котором будет вынужден признать теорию кооперации ошибкой2. Свои идеи Чаянов высказывал не только в научных работах, но и в художественных произведениях, в частности в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920), которой, как и позже в случае с повестью Платонова, был вынесен приговор — «кулацкая». Е. Замятин в статье «Герберт Уэллс» (1921—1922) назвал послереволюционную Россию «фантастичнейшей из стран современной Европы»3. Расцвет русской литературной утопии и антиутопии начинается уже после поражения первой русской революции — «Вечер в 2217 году» Н. Федорова (1906), «Красная звезда» и «Инженер Мэнни» А. Богданова (1908). Утопия и антиутопия — популярные жанры в период и после «военного коммунизма»: «Мы» Е. Замятина (1920), «Страна Гонгури» В. Итина (1922), «Грядущий мир» Я. Окунева (1923). Это время утопии машинизированного общества пролетарских писателей (А. Богданов, А. Гастев, В. Кириллов, И. Филипченко, ранний А. Платонов и др.) и крестьянской утопии (С. Есенин, Н. Клюев, П. Орешин, С. Клычков и др.). Две основные линии утопической литературы начала XX века соответствуют полярным типам представлений о будущем общественном устройстве, которые можно обозначить как пространственные модели «утопии-города» и «утопии-сада»: «Если в городской утопии в центре внимания находится общественно-государственный, технико-цивилизаторский аспекты жизни, то утопия-сад отводит это место непринужденной семейной жизни в кругу близких и исконной близости человека к природе»4.
Идея утопического синтеза и построения социалистического «города-сада» активно обсуждалась со времен утопического социализма XIX века. Знаменательно, что в том же номере «Красной нови», где впервые публиковалась повесть Платонова, печаталось и продолжение статьи Н. Мещерякова «Научный социализм о типе поселений будущего общества». Автор статьи, упоминая о «прародителе» социализма XX века — утопическом социализме века XIX, пытается обосновать социализм в России как феномен абсолютно научный и не находит в идее стирания границ между городом и деревней ничего утопического, ссылаясь на статьи Энгельса, в частности на брошюру «К жилищному вопросу» (1873)1 . О возможном слиянии города и деревни — как о реальном факте, а не утопическом прожекте — говорил и Сталин в речи «К вопросам аграрной политики в СССР» (1929): «…противоположность между городом и деревней будет размываться ускоренным темпом.
Это обстоятельство… преобразует психологию крестьянина и поворачивает его лицом к городу»2. А. Платонов уже рисовал свой образ города-сада в «Рассказе о многих интересных вещах» (1923), ставшем, по мнению исследователей, идейным ядром прозы писателя середины 1920-х — начала 1930-х годов3. Однако к концу 1920-х годов отношение со стороны государства и партии к любым утопическим мечтам, планам и прожектам, кроме «генерального плана» построения «научного коммунизма», становится резко негативным. Планы государства были четко обозначены (индустриализация, коллективизация, пятилетки), поэтому к мечтательству в литературе относились уже как к вредительству, а авторы многих утопических произведений были репрессированы (Я. Ларри, Н. Клюев и др.). Повести Чаянова и Платонова тоже оказались не к месту.
Типологическая близость художественных текстов Чаянова и Платонова можно обнаружить уже на уровне жанровой модификации: в обоих случаях перед нами повести с открытым диалогом утопии и антиутопии — метаутопии. Так, в повести Чаянова путешествие Алексея по утопической стране начинается с того момента, когда он, разочарованный и угнетенный жизнью в советской России периода «военного коммунизма», главными лозунгами которой стали: «Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю!», «Семейный уют порождает собственнические желания…» 1 , — фантастическим способом под именем Чарли Мен попадает в крестьянскую республику 1984 года. Эта республика — результат свершившейся «крестьянской революции», в ходе которой города с населением свыше 20 тыс. были упразднены, а остальные стали выполнять функции социальных и культурных узлов2. Чаянов рисует утопическую модель «города-сада». В финале повести герой, напуганный фанатизмом обитателей республики, оказывается персоной non grata в утопическом крестьянском эдеме, где, как в любом тоталитарном государстве, нет свободы слова.
Утопия «бегства» и утопия «реконструкции»
Среди многообразия утопий выделяют утопии «эскапистские» и «героические», т. е. те, которые не призывают прямо к действию, и те, что призывают к радикальным изменениям1 . Л. Мэмфорд, автор монографии «История утопий», определяет их как «утопии бегства» и «утопии реконструкции»2. М. Геллер считает, что все герои в повести «Ювенильное море» располагаются по научно-технической шкале 3 , М. Богомолова — по производственной и любовно-романтической линиям 4 . По мнению Е. Яблокова, персонажи живут в разных хронотопах (историческое время, мифическое прошлое, утопическое будущее)5. Систему персонажей можно расположить и в зависимости от «утопии», которой они «придерживаются». Так, «утопия реконструкции» лежит в основе мечтаний Вермо, поступков Босталоевой и Айны, бдительной деятельности Федератовны, рациональных предложений Кемаля и Милешина. «Утопии бегства» придерживаются Умрищев со своим девизом «А ты не суйся!», кулак Священный, подкулачник Божев6, ставший причиной самоубийства Айны. «Полюсами» на «шкале» двух утопий в системе персонажей являются Вермо и Умрищев.
Повесть открывается «конфликтом» двух разных утопических сознаний. В первой главе мы узнаем об активной жизненной позиции Вермо и о «теории самотека» Умрищева. В дальнейшем в повести параллельно (а иногда пересекаясь) будут взаимодействовать две линии: преобразовательная и «реакционная», «вредительская». Именно поэтому в исследовательской литературе традиционно противопоставляется Вермо-преобразователь Умрищеву, оппортунисту и реакционеру. Противостояние в повести двух утопий в переводе в социальный план можно рассматривать не только как необходимый элемент жанра производственного романа (конфликт старого и нового порядка), но и как попытку решить важный для Платонова вопрос, который он поднимал еще в повести «Впрок»: можно ли построить социализм «самотеком», стихийно? Таким образом, пара «Вермо — Умрищев» — это и оппозиция «сознательность/стихийность» в развитии истории. По мнению К. Кларк, один из главных вопросов, который волновал идеологов марксизма-ленинизма уже с первых шагов: «является ли история результатом сознательных усилий людей или исторические изменения происходят спонтанно?» 1 . И если первоначально стихийность признавалась необходимым элементом революционного сознания, то в дальнейшем, при переходе от революционных переворотов к строительству социализма, заговорили о приоритете сознательного начала над стихийным2.
Девиз Умрищева «А ты не суйся!», звучащий в повести в противовес выдвинутому Сталиным требованию «Вмешиваться во все!», действует не только в пространстве утопического настоящего, но и прошлого, которое герой идеализирует. Умрищев читает о временах Ивана Грозного, признает «целесообразность татарского ига» (ЮМ, 358) и мечтает «основать районное негласное оппортунистическое царство, в форме Руси Иоанна Грозного» (ЮМ, 375). Парадоксально, но герой мечтает о временах, которые были не менее кровавыми, чем история революционной России. Главный урок, который он выносит из опыта прошлого, — это смирение с любой исторической реальностью, будь то татарское иго или коллективизация. Умрищев «разумно» не хочет «соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова» (ЮМ, 358)1. В семантике имени героя исследователи находят отсылки к пушкинскому гробовщику Адриану Прохорову 2 и к исторической личности — римскому императору Адриану3, при котором проходило бурное строительство не только в Риме и его провинциях, но и в Греции, которой Адриан мечтал вернуть былое величие. На оборотных сторонах рукописи «Ювенильное море» Платонов писал роман «Македонский офицер», также на античную тематику, но с проекцией на современность. Е. Колесникова вводит его в контекст рассказа «Мусорный ветер» и размышлений А. Платонова о лучшем типе правления4. Упоминание в повести имени Ивана Грозного, а также отсылки к незаконченному роману «Македонский офицер» позволяют провести историческую параллель между современной Платонову Россией, Русью XVI века и античностью. В XVI веке споры о лучшем для России типе правления шли между Грозным и бывшим полководцем Курбским, находившимся в эмиграции; в «Македонском офицере» Платонов вводит образ гонимого полководца, наблюдающего несправедливость и жестокость императорской власти. В «Ювенильном море» «невыясненный» Умрищев является единственным критиком власти, возможно, потому, несмотря на отрицательную семантику фамилии (смерть, энтропия), исследователи считают, что Платонов находится на стороне этого героя1. Еще В. Турбин провел параллель между именами Андрей и Андриан, а в проблеме «невыясненности» Умрищева увидел «автобиографические черты»2. Однако оппозиция «Умрищев — Вермо» нестойкая, в образах этих героев есть и черты двойничества. Одним из первых, кто «снял» оппозицию этих героев, был В. Васильев: «Умрищев, по Платонову, не противостоит Вермо; они… необходимое единство исторического процесса; один обращен в прошлое, другой устремлен в будущее»3. Л. Геллер считает, что оба героя несут разрушительное начало, но в финале повести Умрищев из антигероя превращается в положительного 4 . М. Богомолова также полагает, что и «вредительская» (Умрищев) и «преобразовательная» (Вермо) линии ведут к разрушениям, но именно Умрищев «утверждает наивысшее право естественных, природных, исторически сложившихся процессов» 5 . Е. Яблоков уверен, что данный антигерой важен для автора, важен баланс между «органически-инстинктивным» и «рационально-духовным»6.
Умрищев устремлен в своих мечтах не только в прошлое, а Вермо — не только в будущее: Умрищев «отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет вперед или на столько же лет назад» (ЮМ, 353), а Вермо в воспоминаниях возвращается в прошлое, в свое детство (ЮМ, 381). Слова Вермо: «Если-б не большевизм, не надежда изменить мир, я кончил бы с собой в ближайшем овраге», — первоначально принадлежали Умрищеву, а затем Интергом, героине пьесы «14 красных избушек»7. Общее между этими героями то, что оба находятся в конфликте с социально-политическим настоящим.
По принципу контраста — двойничества выстроена не только пара «Умрищев — Вермо», но и результаты их деятельности. Описание умрищевского колхоза дано в главе 12. Повествователь акцентирует ощущение тишины, сытости и покоя, которое исходит от вида колхоза. Время в нем словно остановилось, наступила та самая «тишина истории», о которой мечтали, например, герои рассказа «Иван Жох». В совхозе Вермо мрет накормленный негодной картошкой скот, мучается животом от голода Федератовна, а в колхозе Умрищева храпят, «наевшись блинцов», мужики, бабы несут «в горшках горячие пышки» и «процент жира» в сливках «слишком высок» (ЮМ, 406—407). Причина — «отсутствие обезлички» и учет «привязанности хозяина к бывшей собственной скотине» (ЮМ, 410). Умрищев с уважением отнесся к главному — психологии крестьянина, той психологии собственника, которой так опасались советские идеологи, лишая хозяина своего имущества, земли, а тем самым и заинтересованности в работе. Описание умрищевского колхоза близко к описанию артели «имени Награжденных героев» («Впрок»), только в данном случае акценты расставлены иначе: ни повествователь, ни объезжающая колхоз с инспекцией Федератовна не выказывают ни малейшего восхищения благосостоянием его жителей. Возможно, причина в том, что в повести «Впрок» основой успехов артели стали «трудолюбие и дружная организация» (В, 338), а в повести «Ювенильное море», несмотря на трудолюбие умрищевских кулаков, отличные результаты их деятельности основаны в том числе и на вредительстве: мужики воруют совхозный скот, а бабы выдаивают у совхозных коров все молоко.