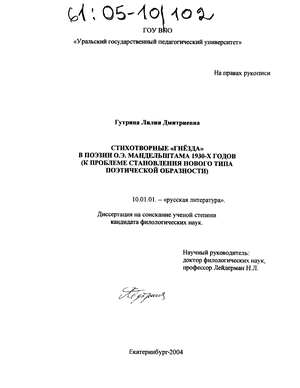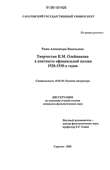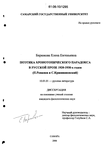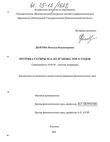Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теория поэтического образа и художественная практика О.Э. Мандельштама в 1910-20-е годы 44
1.1. О.Э. Мандельштам о поэтическом образе (по статьям 1910 -20-х годов) 44
1.2. Динамика способов «словесной нюансировки» в поэзии О.Э. Мандельштама 1910 - 20-х годов («КАМЕНЬ», «TRISTIA», «1921-25») .56
Глава II. Теория «динамической» поэтики О.Э. Мандельштама. феномен мандельштамовских «циклов» 86
2.1. Концепция поэтического слова в «Разговоре о Данте» 86
2.2. Феномен манделыптамовских «циклов» 103
2.3. Стихотворные «гнёзда» в раннем творчестве поэта 114
2.3.1. «Футбол», «Второй футбол», «Спорт»: сознательное экспериментирование 116
2.3.2. Два стихотворения о Сеновале: самополемика 124
2.3.3. «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник...»: от частности к закономерности 128
Глава III. Поэтические «гнёзда» в лирике О.Э. Мандельштама 1930-37 годов 144
3.1. Своеобразие интертекста и его функции в стихотворных «гнёздах» 1930-х годов (на примере «гнёзд» с пушкинским «подтекстом») 149
3.1.1. «Колючая речь Араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...» и «И по-звериному воет людьё...»: от пушкинской автобиографии к пушкинским сказкам 151
3.1.2. «Я около Кольцова...» и «Когда в ветвях понурых...» — вариации на «птичью» тему: Сокол и Снегирь 162
3.1.3. «Дрожжи мира дорогие...» и «Влез бесёнок в мокрой шерстке...»: высокая миссия Поэта и его катастрофа 167
3.1.4. «Ночь. Дорога. Сон первичный...», «Вехи дальнего обоза...», «Где я? Что со мной дурного?..»:«зимние» стихи О.Э. Мандельштама иА.С. Пушкина.
3.2. Метафорическое осмысление образа Земли в поэтических «гнёздах» 1930-х годов 183
3.2.1. Функционирование метафоры в «чернозёмном» «гнезде» 184
3.2.2. Метафора в «античном» «гнезде» 193
3.3. Стихи, «выросшие» из «Оды»: стяжение стихотворных «гнёзд». 201
3.3.1. Стяжение на основе мотива горы 205
3.3.2. Стяжение на основе мотива зрения 219
Заключение 233
Список использованной литературы
- О.Э. Мандельштам о поэтическом образе (по статьям 1910 -20-х годов)
- Динамика способов «словесной нюансировки» в поэзии О.Э. Мандельштама 1910 - 20-х годов («КАМЕНЬ», «TRISTIA», «1921-25»)
- Концепция поэтического слова в «Разговоре о Данте»
- Своеобразие интертекста и его функции в стихотворных «гнёздах» 1930-х годов (на примере «гнёзд» с пушкинским «подтекстом»)
Введение к работе
«Стиль сдвинутостей», «поэтика реминисценций», «поэтика пропущенных звеньев», «парадоксализм», «семантическая поэтика», «синтетическая поэтика» — все эти многочисленные определения поэтической манеры О.Э. Мандельштама свидетельствуют о том, что в его творчестве особым образом воплотилось некое новое знание о мире. Действительно, стихи этого поэта, говоря его же словами, «кое-что изменили в строении и составе» русской поэзии.1 Ю. Ка-рабчиевский называет Мандельштама «поэтом, в большей степени начинающим, чем завершающим»2, С.Ф. Кузьмина убеждена, что, «завершая классический период поэзии, О. Мандельштам открывает искусство слова XX века»3. «В поэзии Мандельштам возвысился над уготованной его поколению стезёй и над своей собственной судьбой, став не просто предвестником или промежуточным звеном, но обещанием нескончаемого радостного удивления для каждого, кто, стремясь постигнуть суть его поэзии, готов следовать за её причудливыми узорами», — пишет Омри Ронен4.
Не случайно в числе центральных вопросов, интересующих наиболее крупных литературоведов, стоит вопрос о том, к какой художественной стратегии тяготеет Мандельштам. В.Ф. Марков в «Истории русского футуризма» (1968, США), например, называет Мандельштама «неоклассицистом», указывая на сочетание в его поэтическом мире «внешней простоты с невероятной тематической сложностью и аллюзиями из древнегреческой мифологии и истории».3 И.М. Семенко отмечает: «В своей поэзии несомненно далёкий от клас-
1 Из письма Мандельштама Ю.Н. Тынянову от 21 января 1937 года // Мандельштам
О.Э. Собрание сочинений: В 4-х тт. М. 1991. Т. 3-4. Т.З. С.280-281.
2 Карабчиевский Ю. Улица Мандельштама//Юность. 1991. № 1. С. 69.
Кузьмина С.Ф. О. Мандельштам и русская художественная традиция. Автореферат диссертации канд. фил. наук. Свердловск. 1991. С. 10.
Ронен О. Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1991. № 1. С.5. 5 Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб. 2000. С. 165. В статье «Мысли о русском футуризме» Марков В.Ф. говорит о принадлежности Мандельштама к футуризму («Начиная с «Tristia», О. Мандельштам всё ближе подходит к футуризму, а в последних стихах его можно уже считать футуристом» - Марков В.Ф. О свободе в поэзии. 1994); о том же писали Вяч. Вс. Иванов («Особенно следует отметить явную футуристичность поэтики [Ман-
сических образцов, несомненно поэт «модернистский» (в нём критики видели даже единство символизма, акмеизма, футуризма), Мандельштам остался чужд декадентству, а также характерным для модернизма идеям «отчуждения» и т.п.».6 С.С. Аверинцев фиксирует, что «Мандельштам мог позволить себе декларации вроде бы классицистские ... и тут же — вроде бы авангардистские [...] Поэзия у него круто противоположна и классицизму, и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому». Н.Л. Лейдерман связывает поэзию позднего Мандельштама (наряду с творчеством А. Платонова, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой) с «постреализмом». По мысли исследователя, в основе этого метода лежит новая — «релятивистская» — эстетика, первооткрывателем которой является М.М. Бахтин; она «предполагает взгляд на мир как на вечно меняющуюся данность, где нет границ между верхом и низом, вечным и сиюминутным, бытием и небытием. [...] В лучших произведениях постреализма рождается новый Космос, Космос из Хаоса, открывающий цельность мира в его дискретности, единство и прочность — в отталкивании противоположностей, устойчивость — в самом процессе бесконечного движения».8 Н.А. Петрова доказывает, что Мандельштам «заполнил «пробел» между разошедшимися линиями русской поэзии, создав действительную альтернативу авангарду и традиционализму»9, полагает, что поэзия Мандельштама — это поэзия «ноэти-ческого реализма» — реализма того типа, для которого «присуще взаимона-
дельштама - Л.Г.], значительно более близкую к поставангардному письму, Хлебникова...»; см.: «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // Жизнь и творчество Мандельштама. 1990. С. 365.) и О.А. Лекманов («Неконвенциональная поэтика»... позднего Мандельштама обрела точки соприкосновения с «неконвенциональной поэтикой» футуризма»; См.: Леклшиов О.А. Четыре заметки к теме «Мандельштам и Маяковский» // Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 7. 1996. С. 79.)
6 Семенко ЯМ. Поэтика позднего Мандельштама. М., 1997. С. 124.
7 Аверинцев С.С. Так почему же всё-таки Мандельштам? // Новый мир. 1998. № 6.
С.217.
s Лейдерман Н.Л. Теоретические проблемы изучения русской литературы XX века. (Предварительные замечания) // Русская литература XX века: Направления и течения. Сб. научных трудов. Екатеринбург, 1992. С. 20, 24.
Петрова Н.А. Литература в неантропоцентрическую эпоху. Опыт О. Мандельштама. Пермь, 2001. С. 48.
6 правленное, встречное движение человека и мира. У Мандельштама и человек, и мир — это непрерывно воплощающиеся потенциии...».10
Мысль о «синтезирующей» интенции в творчестве Мандельштама — правда, в ином ключе — в разное время звучала в трудах Н. Струве, М.Таспарова, В.В. Мусатова, Д.И. Черашней. Так, Н. Струве (1982, Рим) отмечает в связи с «Разговором о Данте», что Мандельштаму важно было «самому выработать поэтический синтез»11; М.Л. Гаспаров пишет о сознательном выборе Мандельштамом культурной традиции: «Поэтическую культуру он усваивал не стихийно, «из воздуха», а сознательно, по книгам и беседам [...] Сознательно — это значит: отбирая и комбинируя разнородные элементы, отвечающие его душевному складу и творческому вкусу... Он создавал себе синтетическую поэтику»12 Интересно, что оба исследователя осмысляют творческий путь Мандельштама как движение от традиций Вердена к традициям Тютчева и обратно. Необходимо подчеркнуть и то, что в работах Н. Струве и М.Л. Гаспа-рова поэтика Мандельштама рассматривается в динамике, указаны основные фазы её развития и подчёркнуты биографические, исторические, философские предпосылки формирования и изменения творческой манеры поэта. «Логика поэзии Мандельштама как целого» (Е.М. Таборисская) проясняется в монографии В.В. Мусатова:13 исследователь прослеживает становление основных тем и мотивов лирики поэта, даёт богатый материал о сформировавших Мандельштама «влияниях». Д.И. Черашняя, «пытаясь понять, что стягивает лирику О. "Мандельштама в органически целое единство»1*, находит «синтезирую-
w Там же. С. 62.
11 Струве Н. Осип Мандельштам. Томск, 1992. С. 181.
12 Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики О. Мандельштама // МандельштамО.Э.
Полное собрание стихотворений. 1995. С. 7-8. В дальнейшем ссылки на эту работу даются по
данному изданию.
13 Мусатов В.В. Лирика О. Мандельштама. Киев. 2000; Таборисская Е.М. Лирический
мир О. Мандельштама как целое: рецензия // Русская литература. 2001, № 3. С.229-231.
14 Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама: субъектный подход. 2004. Ижевск,
С.43.
щую» функцию в «трёхипостасной авторской личности» (Я-земное, Я-поэт, над-Я).15
Мандельштам интересен не только как поэт особого толка, в чьём творчестве ярко выразилась синтезирующая интенция, но и как теоретик, филолог: одной из центральных для него теоретических проблем, начиная с 1910-х годов, становится проблема поэтического образа, вопрос о механизмах возникновения «новых смыслов». В работах современных исследователей Л. Закса, А. Гениса мандельштамовский «Разговор о Данте» понимается как трактат, в котором сформулированы принципьі новой, «органической» парадигмы мышления. Н.Л. Лейдерман полагает, что манделынтамовский «Разговор о Данте» — манифест «новой, релятивистской, в сущности, поэтики».17
Постоянно растущее число работ о мандельштамовском творчестве — от осмысления его как целостности, в контексте Судьбы Поэта, Эпохи, Культуры, до исследований частных проблем поэтики (интертекст18; тропика19; ритмика20;
15 Там же. С. 52.
16 Генис А. Мандельштам и органическая поэтика // Генис А. Метаболизм поэзии. Ман
дельштам и органическая эстетика // http: www. synnegoria. com/ tsvetaeva/ WIN/ silverage/
mandelstam/ genismetabol. html. ЗаксЛ. Концепция духовно-органической формы ...II Екате
ринбургский гуманитарий. 1999. № 1. С. 119-141. См. подробнее в главе 2.1.
"Лейдерман Н.Л. Указ. раб. С. 22.
18 Об отдельных проблемах поэтики см: интертекст; Тарановский К. Очерки о поэзии Мандельштама // Тарановский К. О поэзии и поэтике. 2000. Ссылки на работы К.Тарановского даются по изданию: Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. Диалог с русской классикой — Эпштейн М.Н. Тема и вариации // Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. М., 1988; Кузьмина С. Два превращения одного солнца: заметки к «пушкинской» теме у Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 37-41; Магомедова М.Д. Мандельштам и И.И. Дмитриев // Творчество Мандельштама и вопросы исторической поэтики. Кемерово, 1990; Гаспаров Б.М. Сон о русской поэзии // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М., 1993; Мусатов В. В. Мандельштам и Тютчев // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1982. С. 189-205; Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. 1997; Сурат И. Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин // Новый мир. 2003. № З.С. 155-173. Диалог с поэтами-современниками — Цивьян Т.В. Мандельштам и Ахматова: к теме диалога; Левинтон Г.А. Мандельштам и Гумилев // Столетие Мандельштама. 1994. С. 21-30, 30-44; Шиндин СТ. Фрагмент поэтического диалога Мандельштама и Хлебникова // Смерть и бессмертие поэта. С. 254-271. Апелляция к фольклорно-мифологическим представлениям — Мусатов В.В. О фольклорном подтексте сталинской темы в воронежских стихах Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта. 2001. С. 155-162; Панова Л. Г. Пространство и время в поэтическом языке О."Мандельштама // Изв. АН СЛЯ. 1996. Т. 55. № 4; Павлов М.С. О. Мандельштам: «Как светотени мученик Рембрандт...» // Филологические науки. 1991. № 6. С. 20-30; Петрова Н. Семантика черёмухи в поэзии О. Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта. 2001. С. 190-
словесная пластика21; художественное пространство и время22 и др.) и проясне-ния семантики некоторых мотивов и образов — влечёт за собой увеличение списка тех новаций, которые открывает поэзия Мандельштама. Мы считаем наиболее значимыми открытия Мандельштама в творении поэтического образа и ставим в центр нашего исследования вопрос о специфике принципов образо-творчества О.Э. Мандельштама.
О.Э. Мандельштам о поэтическом образе (по статьям 1910 -20-х годов)
Термин «образ», возникнув в эпоху античности , закрепившись в мировой эстетической мысли благодаря Гегелю (образ как конкретно-чувственное воплощение Идеи), в XX веке начинает подвергаться критике в отечественном литературоведении. В первый раз это происходит как реакция на теорию образа А.А. Потебни.23 Активными участниками полемики выступают формалисты. Мысли Потебни о том, что всякое слово образно и прошло стадию, когда было «поэтическим произведением», о том, что «без образа нет искусства», с их точки зрения, ошибочны: апология «образа» (в потебнианском его понимании) сводит искусство к подражанию, к форме познания, таким образом принижая его статус.
Один из справедливых упреков формалистов в адрес теории образа Потеб-ни состоял в том, что «потебнианцы» не разграничивали язык прозы и язык поэзии, образ поэтический и прозаический. Ю.Н. Тынянов в книге «Проблемы стихотворного языка» (1923) указывает: «Кризис этой теории [теории образа Потебни - Л.Г.] вызван отсутствием разграничения, спецификации образа... Потебня говорит о природе образа в связи с коммуникативной природой поэзии, игнорируя конструкцию, строй»2ь. Однако суждения формалистов в этой области носили крайний характер: «Образ поэтический — это один из способов создания наибольшего впечатления. Как способ он равен по задаче другим приемам поэтического языка [...], равен вообще тому, что принято называть фигурой [...] Поэтический образ есть одно из средств поэтического языка», — по-лагает В. Шкловский. Оказывалось, что образ вообще не связан со сферой художественного содержания, это прием, способ, фигура.
В полемику с формалистами вступает в 1924 году М.М. Бахтин. Отвергая потебнианское понимание образа, Бахтин не принимает и позицию формалистов, называя культивируемую ими эстетику «материальной». Бахтин считает, что эстетика, основанная на «примате материала», может быть продуктивной только при изучении техники художественного творчества: «Техническим моментом в искусстве мы называем все то, что совершенно необходимо для создания художественного произведения...; технические моменты — это факторы художественного впечатления, но не типически значимые слагаемые содержания этого впечатления, то есть эстетического объекта».29 Для «эстетического объекта», по Бахтину, свойственен «ценностный смысл», постигнуть который «материальная эстетика» не в состоянии.
Радикальность суждений формалистов «нейтрализуется» эвристичностью других их наблюдений. Так, формалисты акцентируют внимание на «конструктивной» стороне произведения, полагая, что «конструкция» особым образом деформирует слова. «Форма произведения должна быть осознана как динамическая», «ощущение формы... есть всегда ощущение протекания», — утверждает Ю.Н. Тынянов в книге «Проблема поэтического языка»( 1923-24) — едва ли не самом основательном исследовании в области поэтической семантики в 1920-е годы/ Исследователь вводит понятие «конструктивного принципа», суть которого состоит в существовании доминирующего фактора стиховой конструкции, который деформирует все остальные элементы формы (конструкции) ; конструктивным принципом в поэзии является ритм. По Тынянову, минимальными и важнейшими условиями возникновения ритма являются метр и рифма, поскольку именно они обладают «прогрессивно-регрессивным ритмическим свойством». Инструментовка в этом смысле является лишь второстепенным фактором ритма, так как в ней нет прогрессивного динамического момента.32
Конструктивная роль ритма, как утверждает исследователь, состоит «не столько в затемнении семантического момента, сколько в резкой его деформа-циии» ; это означает, что благодаря ритмическим факторам происходит перекодировка основного и второстепенных («колеблющихся») признаков словесного значения («семантических обертонов»), выделяемых Тыняновым в структуре значения слова.34 Результатом «затемнения» основного признака и «вы-движения» второстепенных является «кажущийся смысл». «Слова оказываются внутри смысловых рядов и единств в более сильных и близких соотношениях и связях, нежели в обычной речи», — утверждает исследователь/6 Это означает, что для пробуждения «колеблющихся» признаков значения важно всё: и лексическая сочетаемость, и морфемный состав, и грамматические значения аффиксов, и семантика грамматических форм, и синтаксические, интонационные особенности «окружения», или контекста. Формальная школа, таким образом, выдвинула и обосновала идею «процессуальное», «динамики» художественной формы, влекущей развитие художественного содержания.
С выводами Тынянова о конструктивной роли ритма в стихе соглашается М.М. Бахтин. В статье «Слово в поэзии и прозе» он размышляет над центральной для него проблемой «чужого слова» и заключает, что в поэзии «чужое слово» невозможно именно в силу того, что «ритм, создавая непосредственную причастность каждого момента акцентной системе целого..., умерщвляет в зародыше те социально-речевые миры и лица, которые потенциально заложены в слове: во всяком случае, ритм ставит им определенные границы, не дает им развернуться, материализоваться».37 Это утверждение исследователя чрезмерно категорично. В ставших классикой отечественного литературоведения работах Б.О. Кормана аргументируется существование «поэтического многоголосия» — этого аналога полифонии в эпосе: «Поэтическое многоголосье — способ введения в лирическое произведение чужого сознания (то есть сознания, гос-подствующего в лирическом монологе)». Наконец, богатая практика интертекстуального анализа поэтических творений (и произведений О.Э. Мандельштама в первую очередь) свидетельствует о смыслопорождающей функции «чужого слова» в поэтическом тексте.
В понимании феномена поэтического языка М.М. Бахтин также солидаризируется с формалистами; для него неоспоримо, что «язык нужен поэзии весь, всесторонне и во всех своих моментах, ни к одному нюансу лингвистического слова не остается равнодушной поэзия... Поэзия как бы выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь самого себя».39 О том же пишет и Б.А. Ларин (1925); предлагаемые им формулы «простор смыслового осложнения», «семантическая кратность», «смысловое эхо», созвучные, кстати, и тыняновскому «кажущемуся смыслу», содержат в своём значении момент «превосхождения языком самого себя» и фиксируют предельное расширение семантического поля в поэтическом тексте.40
Б.А. Ларин убеждён, что основной фактор возникновения художественного эффекта, — это «изломистость речи» — следствие речевого контраста, возникающего в результате малейших изменений в устоявшихся системах языковых элементов, и в этом проявляется близость его идей формалистской теории «остранения», идеям Ю.Н. Тынянова о «борьбе факторов стиха». Ларин понимает «речевые контрасты» очень широко: это и «излом», проявляющийся при нарушении «традиционного» поэтического языка, и столкновение контекстуальных синонимов4 , и поэтическая омонимия («омонимами» Ларин считает и вариации морфем и квазиморфем, и варианты синтаксических оборотов42), и метафора. Способы создания художественного эффекта Ларин называет «словесными возбудителями»43.
Динамика способов «словесной нюансировки» в поэзии О.Э. Мандельштама 1910 - 20-х годов («КАМЕНЬ», «TRISTIA», «1921-25»)
Активные поиски «нового художественного зрения», явившиеся результатом «ментального слома» рубежа веков, обусловили всплеск поэтической культуры — возник целый спектр художественных тенденций. Внимание теперь, по словам И.И. Ковтуновой, «направляется [...] на невидимый внешний мир и внутренний мир поэтического «я». Невидимый внешний мир — это мир с пространственно-временной неопределенностью, мироздание, космос, Вселенная. Это также мир иррациональный, трансцендентный, это «миры иные» в понимании символистов. Сюда относится также глубинная сущность видимых вещей (сущность, противопоставленная явлению). Внутренний мир человека отличается такой же глубиной, неисчерпаемостью, неопределённостью, как и невидимый внешний мир» .
Выработка «новой поэтики», соответствующей драматическим переломам эпохи, была начата французскими поэтами: Ш. Бодлером, затем — П. Верденом, А. Рембо, С. Малларме, Г. Аполлинером. Французская поэзия явилась одной из составляющих той почвы, на которой вырос русский модернизм. «Переводы были частью культурной кампании, которую русские символисты решили предпринять». М.Л. Гаспаров предполагает, что поэтика русского модернизма определяется взаимодействием двух традиций французской поэзии — «парнас-ской» строгости и символистской зыбкости.
Осмысление новой литературы в России начинается уже в начале 1890-х годов: в 1893 году опубликована статья Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», затем появляются статьи К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, во второй половине 1900-х — статьи В. Иванова, А. Белого82. А вот обострение интереса к проблемам поэтики, вопросам структуры поэтического образа начинается в 1920-е годы — в период активизации деятельности формальной школы. Попытаемся перечислить наиболее существенные наблюдения, высказанные в 1920-е годы в связи с проблемой образотворчества.
Ключевыми фигурами поэтического процесса, привлекающими внимание критиков, в 1920-е годы становятся Б. Пастернак и В. Хлебников. Р. Якобсон самим названием статьи о Хлебникове («Новейшая русская поэзия. Набросок первый: подступы к Хлебникову», 1921) декларирует принадлежность поэта «новейшей поэзии». Якобсон акцентирует внимание на том, что в современной поэзии «роль механической ассоциации сведена к минимуму, между тем как диссоциация словесных элементов приобретает исключительный интерес...»: стремительно семантизируемые поэтами аффиксы, причём сознательно семантизируемые — вот отличительная черта новой поэзии, по мысли исследоватеЛЯ.
Особую роль в литературном процессе начала XX века отводит Велимиру Хлебникову Ю.Н. Тынянов («Промежуток», 1924), объясняя это тем, что «он перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Он оживлял в смысле слова его давно забытое родство с другими, близкими, или приводил слово в родство с чужими словами»84. Кроме того, творчество Хлебникова — звено, связующее новейшую поэзию с ломоносовской, некая точка, с которой начинается «завязка будущего движения» поэзии»85.
Говоря о Пастернаке, Ю.Н. Тынянов отмечает специфику ассоциативных сцеплений в его творчестве («Вещи [в поэзии Пастернака - Л.Г.]... связаны как-то очень не тесно, они — только соседи, они близки лишь по смежности [...] и случайность оказывается более тесною связью, чем самая тесная логическая связь» ), указывает на «разлитость» темы по всему тексту («тема не вынимается, она в пещеристых телах, в шероховатостях стиха» ). О «неклассичности» поэзии Б. Пастернака прямо говорит А. Лежнёв («Борис Пастернак», 1926)88; так же, как и Тынянов, Лежнёв отмечает своеобразие «темы» в лирике поэта: выделение какой-то одной темы в стихотворении Пастернака невозможно, поскольку движение поэтической мысли в нём не подчиняется законам формальной логики и грамматики, а поэтический образ складывается из взаимодействия разных, казалось бы, не сочетаемых друг с другом, предметных и смысловых планов: «В смещении ощущений Пастернак ставит рядом элементы, расположенные в разных смысловых или ассоциативных плоскостях»89. По контрасту — в стихотворениях «классических» (анализируется пушкинский «Памятник») тема развивается «линейно»: в движении поэтической мысли можно выделить завязку, кульминацию и развязку.
Поэты и писатели сами пытались определить суть происходящих в литературе процессов. Е. Замятин в статье «О синтетизме» (1922) утверждал, что новый характер литературы обусловлен тем, что «Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты». «Искусство, выросшее из этой реальности, разве может быть не фантастическим, не похожим на сон?» — спрашивает Замятин91. В статье 1923 года «О литературе, революции и энтропии» он продолжает размышлять о новой литературе: «Все реалистические формы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство [...]
Концепция поэтического слова в «Разговоре о Данте»
«В статьях назревало то единое для всего творчества понимание поэтического слова, которое под конец жизни кристаллизовалось в очерке о любимом поэте», — утверждал первый исследователь «Разговора о Данте» Л. Пинский, подчёркивая, что в этом эссе «наиболее развёрнуто ... изложена концепция поэтического». Эссе было написано в 1933 году, чему предшествовали пять лет занятий прозой и переводами, а также «Московские стихи». Очевидно, художественная практика 1926-1933 гг. вновь обратила Мандельштама к активной рефлексии о поэтическом слове.
История исследований «Разговора о Данте» недолгая, но продуктивная. Объяснений тому минимум два: во-первых, Л. Пинский в заявлении в издательство «Искусство» с просьбой опубликовать «Разговор о Данте» назвал это эссе «блестящим этюдом по эстетике современного искусства», тем самым обратив к труду Мандельштама внимание философов и культурологов. Во-вторых, опять же по словам Пинского, «Разговор о Данте» можно рассматривать в нескольких ключах: в дантологическом, автометаописательном, общетеоретиче-ском. Таким образом, это универсальная работа, в которой предложена методология анализа разнообразных художественных явлений. В «дантологическом» ключе «Разговор о Данте» прочитан А.А. Илюшиным, переводчиком «Божественной комедии» на русский язык, в аспекте автометаописательном — Л. Пинским, Ю.И. Левиным, Б. А. Успенским, Н. Струве, А.П. Казаркиным; в общетеоретическом (общеметодологическом) А. Генисом, Л. Заксом, Н.Л. Лей-дерманом.3 Нас это эссе Мандельштама интересует именно в связи с собственной его поэтикой.
Весь «Разговор о Данте», посвященный Мандельштамом уникальной манере средневекового поэта, пронизан уподоблениями фактов поэзии динамическим явлениям природы: «Надо перебежать через всю ширину реки, загромождённой подвижными и разноустремлёнными китайскими джонками, — так создаётся смысл поэтической речи...»; «Поэтическаяречь [...] ковровая ткань [...] прочнейший ковёр, сотканный из влаги... »4; «Цитата есть цикада» ; «Вообразите памятник из гранита, воздвигнутый в честь гранита и якобы для раскрытия его идеи, — таким образом вы получите довольно ясное понятие о том, как соотносятся у Данта форма и содержание ; «вся поэма представляет собой ... кристаллографическую фигуру, то есть тело». Подобные сравнения, как отмечалось выше, в творчестве Мандельштама постоянны (см. главу 1.1.). Однако семантика их со временем меняется. Если в первый период творчества поэт с их помощью подчёркивал онтологический характер Культуры, её укоренённость в самом Бытии, то в 1920-30-е годы уподобление Природы и Культуры необходимо Мандельштаму для того, чтобы более точно «вскрыть» структуру поэтического. Для Мандельштама поэзия, если только это поэзия истинная, — явление, всегда находящееся в движении, явление текучее и растущее, поскольку «разыгрывает» Природу: «Мы описываем как раз то, чего нельзя описать, то есть остановленный текст Природы, и разучились описывать то единственное, что по структуре своей поддаётся поэтическому изображению, то есть порывы, намеренья, амплитудные колебания».
Понимание поэзии как феномена динамического в 1910 - 20-е годы было довольно типично. В частности, в 1918 году А.А. Блок отметил в записных книжках: «Художник заключает рассеянный в мире многообразный материал в твёрдые формы. Эти формы должны обладать свойством текучести, они движутся вместе с жизнью, вновь и вновь воскресая».9 Идеи «делания вещи», «формы как протекания» разрабатывались в 1920-е годы формалистами (см. Введение).
Философской базой для формирования теории динамической поэтики в сознании Мандельштама, безусловно, были идеи А. Бергсона, лекции которого поэт слушал в Сорбонне в 1908 году. Об увлечении Мандельштама идеями этого мыслителя неоднократно писали.10
Мы полагаем, что необходимо в первую очередь отметить сходство творений Мандельштама и Бергсона на уровне образно-метафорическом, стилистическом. Мандельштам вслед за Бергсоном активно создает «развернутые» метафоры. Так, известная метафора Мандельштама о летательной машине, выпускающей из себя другую летательную машину, соотносится с объяснением сути «жизненного порыва» Бергсоном: «Развитие жизни было бы очень просто, и мы легко определили бы его направление, если бы оно шло по одному направлению, подобно ядру, выпущенному из пушки. Но в данном случае снаряд немедленно разрывается на куски, из которых каждый также разрывается на части, эти части снова разрываются, и так далее... Точно так же дробление жизни между индивидами и между видами зависит от двоякого рода причин: от сопротивления со стороны неодушевлённой материи и от взрывчатой силы, заключённой в самой жизни».11. Образ «слово-пучок», безусловно, восходит к берг-соновскому описанию процесса сотворения: «Я говорю о центре, из которого выходят миры, как цветы из огромного букета, но при этом я должен принимать этот центр не за вещь, а за непрерывное течение»12.
«Бергсоновские» подтексты в связи с некоторыми образами поэзии Мандельштама отмечает В.В. Мусатов. Так, анализируя стихотворение «Ветер нам утешенье принес...», он пишет: «Тела со стрекозиными крыльями — какая-то эволюционная аномалия. Одним из источников этой пугающей образности, возможно, был Бергсон, писавший, что главная часть эволюционного Первотолчка привела к созданию человека, тогда как остальное пришлось на путь, ведущий к «перепончатокрылым»13. Обращаясь к «Воронежским тетрадям», Мусатов отмечает: «осы» — образ с бергсоновким подтекстом».14 Действительно, осам посвящена немалая часть «Творческой эволюции». По Бергсону, осы — это носители инстинкта как особого орудия познания жизни, противопоставленного разуму. Кроме того, Бергсон, приводя примеры жизнедеятельности ос, подчёркивает их «амбивалентную» суть, что также близко мироощущению Мандельштама. Так, например, Бергсон фиксирует: «Известно, что различные виды перепончатокрылых парализаторов кладут свои яйца в тело пауков, навозных жуков, гусениц, которые подвергаются осою искусной хирургической операции, после которой живут в полной неподвижности... и затем служат свежей провизией для личинок осы... Общей темой является здесь необходимость парализовать, не убивая»}
Своеобразие интертекста и его функции в стихотворных «гнёздах» 1930-х годов (на примере «гнёзд» с пушкинским «подтекстом»)
При анализе стихотворных «гнёзд» 1908-25 годов мы подчеркнули, что ключевая роль в образотворчестве принадлежит интертекстуальным перекличкам. Сохраняется ли эта функция интертекста в «гнёздах» 1930-х годов?
В настоящем параграфе мы поставили в центр внимания поэтические «гнёзда» с пушкинским интертекстом (речь идёт о «гнёздах», в которых хотя бы одно стихотворение содержит пушкинский «подтекст», и он является принципиальным с точки зрения образотворчества): это объясняется, с одной стороны, необходимостью локализации большого материала, с другой — значимостью личности и творчества А. С. Пушкина для творческой индивидуальности Мандельштама.11 И. Сурат убеждена, что отношение Мандельштама к Пушкину
есть «глубокая, интимная тайна духа».
Н.А. Петрова так объясняет притягательность личности Пушкина для поэтов начала XX века — и, в частности, для Мандельштама: «В эпоху слома мировоззренческих основ [...] главной точкой отсчёта для русской литературы остаётся Пушкин — начало начал и вершина, зачинатель-завершитель, как Данте в европейской. Необычайная притягательность его образа объяснима острой потребностью совместить разошедшиеся тенденции». Это утверждение особенно верно в связи с Мандельштамом, для которого проблема синтеза остро стояла с самого начала творческого пути: в раннем стихотворении, помнится, он говорил о необходимости сочетать в стихе «суровость Тютчева с ребячеством Верлена», «величье» с «птичьим щебетаньем»; в статьях 1910 - 20-х годов шёл к синтезу символистских и футуристических эстетических установок, а в 1930-е годы искал основания для синтеза в творчестве Данта. «Пушкин для Мандельштама, — продолжает Н. Петрова, — является абсолютным пратек-стом и метатекстом, воплощением искусства и способом коммуникации».14 По убеждению С.Н. Бройтмана, у Мандельштама было «субстанциональное, а не узко-поэтическое... понимание Пушкина, имеющее аналогии у Хлебникова, но прежде всего у Блока».1"
В данном параграфе выяснение специфики образотворческой работы Мандельштама будет сопряжено с раскрытием вопроса о назначении апелляций Мандельштама к Пушкину.
Первыми стихотворениями О.Э. Мандельштама после периода поэтического молчания были стихи об Армении — одноименный цикл и шесть примыкающих к нему стихотворений: «На полицейской бумаге верже...», «Как люб мне натугой живущий...», «Колючая речь Араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...», «И по-звериному воет людьё...», «Не говори никому...». Эти стихи, каждое из которых восходит к отдельным строкам разных частей цикла «Армения», между собой скреплены достаточно слабо: общим является, во-первых, выдержанность в ритме трёхсложников (в основном, амфибрахий, дактиль), а во-вторых, мотив «колючести», явный в стихотворениях «Колючая речь араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...» («...царапает ухо»), «На полицейской бумаге верже...» {Ночь наглоталась колючих ершей...), скрытый — в стихотворении «Не говори никому...» (образы осы и хвои). Дополнительной «скрепой» для стихотворений, указанных в заглавии раздела, являются «армянские» мотивы (армянская речь, Эрзерум).
Стихотворение «Колючая речь Араратской долины...» (1930) находится в тесной связи с циклом «Армения»: у них общая цветовая палитра {«Лазурь да глина, глина да лазурь»), образ Земли Араратской, уподобленной древней книге истории человечества, — является центральным и в цикле, и в стихотворении «Колючая речь Араратской долины...». Стихотворение пронизано мотивами армянских языка и речи, наделённых свойством «колючести», что в связи с известными фразеологизмами «уколоть словом», «правда глаза колет» воспринимается как знак правдивости, правильности, праведности: Колючая речь Араратской долины, Дикая кошка - армянская речь, Хищный язык городов глинобитных, Речь голодающих кирпичей... 16
В этом стихотворении создан образ прекрасной древней земли — «младшей сестры земли Иудейской», по определению Мандельштама. Однако, как и в цикле «Армения», здесь подчёркнута искалеченность, израненность этой «дикой», непокорной страны: замыкает стихотворение строчка с образом «чёрной кровью запёкшихся глин...».
Вторая строка этого стихотворения становится началом другого — «Дикая кошка — армянская речь...» (1930). Работа над ним шла долго: первые его редакции датированы октябрем 1930 года, а в Ватиканском Списке под стихотворением стоит дата «ноябрь 1930». По свидетельству жены, «О.М. думал несколько изменить последнее четверостишие... Потом от этой мысли отказал-ся». Действительно, существует вариант последней строфы, а также несколько вариантов стихотворения «И по-звериному воет людье...», находящегося с «Дикой кошкой...» в очевидном родстве.18 Итак, Мандельштам создавал это стихотворение параллельно с написанием других «армянских» текстов, работал над ним дольше, чем над другими, что определяет особую значимость стихотворения в творчестве поэта начала 1930-х годов.